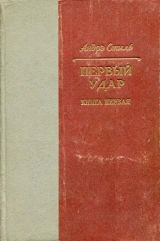
Текст книги "Первый удар. Книга 1. У водонапорной башни"
Автор книги: Андрэ Стиль
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
Дюпюи садится на место, оглядываясь на соседей, чтобы узнать, какое впечатление произвела его речь. Конечно, думает Анри, тут многое неверно, но есть и дельные мысли. Может быть, выступить сейчас, сказать несколько слов, поправить, уточнить кое-что? Нет, не стоит, еще смутишь остальных, а они и так медленно раскачиваются. Пусть пока все идет своим чередом. В конце концов, по сути дела, это не так плохо. Да, кстати, Сегаль уже тянет с места руку, и по тому, как он круто повернулся к Дюпюи, видно, что он не согласен с оратором. Сейчас он обязательно ему ответит, и равновесие будет восстановлено. Пусть уж лучше товарищи выскажут свои мысли, хотя бы и нескладно, только бы не говорили общих фраз.
– Я совершенно не согласен с Дюпюи, – начинает Сегаль. – Я, например, считаю, что в нашей ячейке о политике говорят недостаточно. Вот, скажем, двое товарищей встречаются в столовке или в кабачке. О чем они говорят? О политике. А ячейка у нас, если дело так дальше пойдет, скоро станет единственным местом, где о политике молчат. Чем мы здесь занимаемся? Обсуждаем разные мелкие организационные вопросы, а о том, что творится на белом свете, об этом молчим. А там происходят немаловажные дела. Вопрос о нищете – это, пожалуй, скорее дело профсоюза.
Франкер наклоняется к Анри и шепчет: «Это неверно!» Анри не нравится, как ведет себя Франкер, когда сидит в президиуме. Вечно нагибается то к одному соседу, то к другому, что-то нашептывает им с важным видом, чтобы сидящие в зале думали: «Как он во всем прекрасно разбирается», а на самом-то деле он большей частью говорит пустяки. Конечно, Сегаль неправ. Впрочем, докеры это сами понимают. Со всех сторон раздаются протестующие возгласы.
– Подождите, подождите! И даже если борьба с нищетой входит в задачи партии, то все это и так ясно, доказывать тут нечего. Мы эту нищету сами чувствуем… Нас другое интересует…
Атмосфера накаляется.
– Сразу видать, что ты в поселке Бийу живешь, тебе легко рассуждать.
– Вот польет дождь на твою постель, ты и заинтересуешься, как из нищеты выбраться.
– Да замолчите вы! – кричит Сегаль. – Не прерывайте меня на каждом слове, вы же не знаете, к чему я веду. Вы мне такое приписали, чего я вовсе и не думал говорить. Я вот что хочу сказать. О Корее или, например, о выступлении Трумэна нельзя здесь не говорить. Это нас всех касается. Дюпюи, как по-твоему? Все зверства, которые американцы творят в Корее, разве это нас не касается? Ведь там янки женщин, детей, стариков сжигают напалмом, расстреливают коммунистов. Янки хуже всяких бошей. И ты называешь это географией, так?
Дюпюи молча пожимает плечами. Конечно, он вовсе не это имел в виду.
– Как из нищеты выбраться? – разгорячившись продолжает Сегаль. – Мы только тогда из нищеты выберемся, когда этим янки как следует морду набьем. И так оно и будет, погоди. В один прекрасный день увидишь, что товарищ Сталин скажет, и Мао Цзэ-дун тоже… Вот тогда-то мы и выберемся из нищеты…
Сегаль садится. Снова слышатся протестующие возгласы. Каждый знает, что Советский Союз проводит миролюбивую политику, это давно все поняли. Сразу видно, что Сегаль редко бывает на собраниях. Достаточно посмотреть, как он нервничает. Сидит надутый, недовольный, что его прервали. Конечно, когда кричат с места, не дают высказаться, человек теряется: поэтому-то Сегаль и сказал не совсем то, что предполагал сначала. Он сам не удовлетворен своей речью. И весь этот поднявшийся в зале шум выводит его из равновесия. Он беспокойно вертится на скамейке.
Робер встает.
– Тише, товарищи, без разговорчиков!
Казалось бы, что́ тут такого смешного, а все хохочут, наступила разрядка. Сколько раз на собрании они слышали эти слова. И всегда эта магическая фраза, словно колокольчик председателя, восстанавливает порядок. Колокольчик – разговорчик, разговорчик – колокольчик.
– Дай мне слово, – кричит Гиттон.
– Прошу, – говорит Робер.
– Тут Сегаль наговорил глупостей, – начинает Гиттон. – Американцы хотят разжечь войну повсюду, не только в Корее. И им бы это удалось, если бы товарищ Сталин не разгадал их игру. Понятно, их бы разгромили в пух и прах, но ведь миллионы людей погибли бы. И здесь у нас была бы вторая Корея…
– Тебе-то в твоем доте еще ничего…
Папильон хотел посмешить собрание, но все хмуро приняли его шутку.
– Если бы ты был в моем доте или в Корее, ты бы зря зубы не скалил! Тут не до смеху. А теперь вернемся к Сегалю. Скажи, Сегаль, ты знаешь, каким аргументом козыряют наши противники? Они утверждают, что революцию принесет с собой Советская Армия, что сами мы неспособны. Ты забыл, должно быть, сколько пришлось перенести нашим советским друзьям с Октября 1917 года? Забыл, сколько они уже сделали, и сейчас делают, и сколько у них еще дела впереди. Только трусы да бездельники могут думать, что в момент, когда американцы угрожают всему миру, защищать нас опять должны только советские товарищи. А мы пока что будем в потолок плевать. Американцы уже водворились у нас. Вот об этом, действительно, мы говорим недостаточно, хотя каждый видит их на улице. Они, конечно, действуют тишком-молчком. Боши тоже поначалу старались вести себя аккуратно, но мы-то хорошо знаем, что здешние американцы такие же сволочи, как и в Корее. А может быть, даже и похуже – ведь этих, которых присылают сюда для того, чтобы превратить всю Францию в военную базу Америки, уж, поверь мне, таких на десяти решетах перетрясли. Отборные молодчики! И здесь не о советских товарищах должна быть речь – это наша собственная задача. А мы что делаем? Как будто боимся прямо поставить себе такой вопрос, и потому боимся, что на вопрос надо ответить; ответить же на него надо делом, а тут некоторые спрятали, как страусы, голову под крыло: пусть, мол, опасность пройдет. Разве не так, товарищи?
Слова Гиттона задели всех за живое. А после того, как он осадил Папильона, все стали слушать его еще внимательнее.
– Что же мы делаем, повторяю? Да ничего! Предоставляем событиям идти своим путем. Даже не рассказываем людям о том, что творится. Трудно поверить, а добрых три четверти наших людей не знают того, что американцы уже проникли к нам повсюду. Не сегодня-завтра прибудут их корабли с вооружением. Мы-то считаем, что это давно всем известно-переизвестно. Целый год мы об этом твердим, разоблачаем врагов, наши газеты приводят сотни фактов, доказательств, разъясняют. Но ведь не все читают именно наши газеты. Янки мы не выносим, они это знают и, конечно, стараются по возможности действовать незаметно. Поэтому, как ни странно, есть люди, которые не видят опасности. На этот счет мы не должны строить себе никаких иллюзий. Возьмем хотя бы бывший немецкий аэродром рядом с нашим поселком. Там живет один старик, который собственноручно выстроил себе домик; американцы вместе с частью бараков оттяпали этот домик и обнесут все это место колючей проволокой, а старику оставят только узкий проход. Так вот, даже мой старик ухитрился не понять, в чем дело. «Как же так получилось, – спрашивает он меня, – что янки облюбовали именно это место?» Он, видите ли, вообразил, что американцы только сюда забрались. Пришлось ему объяснить, что американцы расположились по всему юго-западу. Старик, оказывается, этого не знал. Да откуда же ему знать? Вот в чем наша вина. В том, что мы вообразили, будто все само собой сделается: люди сразу же возьмут, да и прогонят американцев… Повторяю, наша вина в том, что мы самоустранились, как будто боимся ответственности. Вот надпись на шлюзной камере – это хорошо! Люди о ней говорят, начинают мозгами шевелить. Значит, нужно продолжать в том же духе…
Гиттон замолкает, старается припомнить, что он собирался сказать еще. Так и не вспомнив, он опускается на место, но, спохватившись, снова встает:
– Ах да, забыл! Когда Сегаль отвечал Дюпюи, он тут кое-что правильно заметил. Я лично думаю, что оба они в какой-то мере правы. Насчет нищеты я многое мог бы сказать: чего-чего, а ее в нашем доме, то есть в нашем подземелье, хватает… Позавчера наш мальчик сбежал, и никто не знает, где он. Но ведь нищета не с неба упала. Мы еще вчера об этом в профсоюзе говорили – американцы прислали к нам нищету как разведчика, впереди себя прислали. Кто-то тут – я не заметил, кто именно, – сказал Сегалю о поселке Бийу. Это верно. Там немного иначе дело обстоит, чем у нас. То же самое можно сказать и о поселке Дотри. Кстати, товарищи, стыдно, что мы, докеры, даже коммунисты, до сих пор называем этот поселок именем Дотри. Ведь этот Дотри только и делал, что всячески тормозил постройку домов. Если бы не товарищ Бийу[9]9
Франсуа Бийу – депутат-коммунист, министр экономики в 1946 году. – Прим. ред.
[Закрыть], ничего бы не вышло. В районе водонапорной башни у нас тоже был бы сейчас поселок имени Бийу, если бы Клодиус Пти и прочие Дотри не сорвали это дело. Так что только простофили не замечают, что тут определенная политика, и она не с сегодняшнего дня проводится. Уже и тогда за всем этим стояли американцы и делали свое черное дело. Вот нищета и сокращает расстояние отсюда до Кореи, и намного сокращает. Сообразите сами. Когда знаешь, что у твоей семьи крыша над головой – легче бороться. Я вам прямо скажу – не всякий сумел бы выстоять в таких условиях, в каких приходится существовать нашим товарищам в районе водокачки. Для того чтобы в этих бараках сохранить мужество, веру в будущее, для этого нужно быть настоящими людьми. А товарищи из других поселков не всегда это учитывают, забывают, какое это гиблое место. Я, кажется, немного отвлекся. Ну что ж, главное я, пожалуй, сказал. Надо, повторяю, неустанно объяснять людям, что американцы проникают повсюду, и объяснять, почему это происходит. В этом главное…
Анри сразу же подумал, что не надо очень хвалить Гиттона, лучше пусть остальные говорят, как умеют. И поэтому он как бы вскользь бросает:
– Молодец Гиттон, вон какую речь произнес.
– Значит, накипело в душе, – добавляет Робер.
– Здорово сказал! – кричит с места Папильон, который уже успел позабыть отповедь Гиттона.
– Ну, ладно. Никто не будет возражать, если я дам слово самому себе? – спрашивает Робер. И так как его предложение одобряют громким смехом, он начинает говорить – медленно, очень спокойно. Однако Анри не особенно этому рад. Лучше бы выступили сначала другие, те, что сидят молча. Только бы Робер опять не свел все к профсоюзным делам.
– Я хочу остановиться на двух вопросах. Первое – требования докеров, борьба против сверхэксплуатации, ведь эксплуатация растет одновременно с нищетой. Так вот, по моему мнению, этот вопрос непосредственно касается всех коммунистов. Ведь в каждой бригаде, которая вынуждена, например, работать без соблюдения санитарных условий и правил охраны труда, почти всегда есть хоть один член партии. Ладно. И все-таки сплошь да рядом товарищи не дают нанимателям отпора сразу же. Коммунисты делают очень мало, чтобы вовлечь в борьбу массы. Иной раз даже инициатива исходит не от коммунистов. Очевидно, мы слишком полагаемся на бюрократический метод работы: в конце смены или вечером, а иногда только на следующий день приходят ко мне и заявляют: «Робер, надо бы вмешаться, уладить то-то и то-то…» Понятно, я вмешиваюсь. Никто, думается, не может упрекнуть меня в том, что я сижу сложа руки. Но забывают самое главное, самое основное, а именно – активность докеров. Вот, например, ты, Жерар, как раз был в той бригаде, где произошла неприятность с нитратами. А в прошлый вторник произошел несчастный случай при выгрузке досок, и в той бригаде работал Гриньон. Я говорю это не для того, чтобы упрекать товарищей. Я хочу подчеркнуть, что это недостаток работы наших ячеек. Дюпюи совершенно верно сказал, что если бы мы больше на собраниях говорили о наших требованиях, ребята были бы лучше вооружены. Они играли бы тут организующую роль.
Второй вопрос, на котором я хочу остановиться, более серьезный. Мы много говорим об американцах и недостаточно говорим о перевооружении Западной Германии. Здесь, мне кажется, мы не совсем понимаем указания партии. А ведь мы читаем «Юма» и другие наши газеты, мы знаем, что борьба против перевооружения Германии – наше жизненное дело. Надо сказать, что по этой части у нас в порту еще совсем тихо. Я не говорю об остальных ячейках нашего района. Это не мое дело. Конечно, то, что американцы залезли сюда, – это очень серьезно. Но все же не это решает дело. Это касается только нас, докеров, то есть, в сущности, небольшого портового района, да и сколько их тут, американцев? Ну, от силы, тысяча. А восстановление немецкой армии – это, бесспорно, одно из средств к развязыванию войны против Советского Союза. Мы же видим только то, что у нас перед глазами, и этот местный вопрос заслоняет от нас самое существенное, основное. Мы недостаточно следуем указанию партии. Мы твердим об американском корабле, хотя он, может быть, никогда и не привезет никакого оружия, и не замечаем, что нацисты сколачивают целые дивизии.
– Разреши, Робер, – неожиданно произносит Анри. Пальцы его, барабанившие по столу во время речи Робера, вдруг стали отбивать резкую дробь, когда он заметил, что в зале раздается все больше и больше голосов, одобряющих оратора.
– Я, видите ли, должен заявить, что совершенно не согласен с Робером…
Робер слегка бледнеет… По залу проходит движение: Анри выступает с критикой секретаря профсоюза – это не шутка!
– Итак, – продолжает Анри, поднимаясь, – вопрос сто́ит того, чтобы обсудить его немедленно. Робер правильно сказал – это дело очень и очень важное. Этот вопрос последнее время сильно волнует многих. И Робер прав также, что мы еще не нашли верного решения, раз мы ничего или почти ничего не делаем против перевооружения Германии. Получилось так, что мы упустили из виду эту задачу и почти исключительно занимались вопросом борьбы против американской оккупации, хотя я отнюдь не желаю сказать, что с этой стороны у нас все обстоит благополучно. Это действительно наша ошибка. Но Робер тут явно перегнул палку. Это тоже ошибка. По его словам выходит, что и американская оккупация и присылка американского вооружения – это так, пустяки какие-то. Ясно, что это неверно. Так может рассуждать только тот, у кого на глазах шоры. Мы недостаточно глубоко вникаем в задачи, которые стоят перед нами, – вот наша беда. Берем один вопрос, затем берем второй, оба в отрыве друг от друга, и не видим их связи между собой… Я сам бился над этим вопросом и поставил его на бюро секции. По этому поводу было обсуждение, но все-таки ясности не внесли. Жильбер сказал, что поговорит в комитете федерации. Не знаю, вышло из этого что-либо или нет, но вот на той неделе я прочел в «Юма», в информационном сообщении Политбюро, одну очень важную вещь, которая нас всех непосредственно касается, и как раз по волнующему нас вопросу.
И я должен напрямик сказать Роберу: меня удивляет, что он этого не заметил. Ведь совершенно понятно, что так или иначе, а руководству партии стало известно, с какой трудностью мы столкнулись в низовых организациях. Руководство партии обсудило этот вопрос, вынесло специальное решение и, как всегда, помогло нам справиться с трудностями, внесло полную ясность.
Руководство нашей партии и низовые ее организации – это единый организм, их соединяет как бы живой ток крови, который не останавливается ни на минуту… Что же сказано в резолюции Политбюро? Вот ее основной смысл: борьба против американской оккупации неотделима от борьбы против перевооружения Германии. То есть как раз противоположное тому, что говорил Робер. Вот та связь между двумя этими вопросами, которой сами мы не увидели. Сейчас я вам прочту…
Анри перебирает листки, отыскивая вырезку из «Юманите». Робер, воспользовавшись этим, садится, – он спохватился, что до сих пор стоит во весь рост, на виду у всех, стоит в неловкой, напряженной позе. А тут еще этот Папильон, которому до всего есть дело, машет ему издали рукой: «И тебе, брат, попало!»
– Слушайте, – начинает Анри. – Заголовок: «Не пропускать вооружения для нового вермахта». Слушайте дальше. «Политбюро еще раз подчеркивает, что, предоставив порты Бордо и Ла-Паллис в распоряжение американских вооруженных сил, правительство тем самым отказывается от французского суверенитета над этими двумя портами, что является открытой изменой интересам нации». Так. Об этом партия уже говорила. Теперь прослушайте дальше: «На французских правителей падает ответственность за доставку через территорию Франции оружия, выгружаемого в Бордо и Ла-Паллисе и предназначенного для формирующейся немецкой армии. Политбюро выражает решительный протест против этих антинациональных действии правительства. Политбюро приветствует докеров, которые отказываются разгружать военные материалы, предназначенные для немецких нацистов, замышляющих агрессию против нашей страны». И в заключение: «Политбюро призывает всех французов и всех француженок братски объединить свои силы для борьбы против ремилитаризации Германии, требовать прекращения американской оккупации французских портов. Французский народ не потерпит, чтобы наши порты превратились в базы для разгрузки военных материалов, направляемых в Западную Германию». Что здесь имеется в виду, товарищи? Возьмем хотя бы последнюю фразу. Она свидетельствует о том, что речь идет не о проблеме местного значения, которая кажется нам важной лишь потому, что все это творится на наших глазах, как говорит Робер. Руководство партии, напротив, подчеркивает, что это важнейшая задача общенационального значения. И в первую очередь это практически означает, что каждый наш удар по американским оккупантам является также ударом по перевооружению Германии. С другой стороны, подымая массы на борьбу против политики разжигания войны в любой форме, включая и перевооружение Германии, мы тем самым усиливаем борьбу против американской оккупации… Следовательно, вопрос не в том, чтобы взяться за одну задачу, а другую упустить, как предлагал Робер. Для нас борьба против американской оккупации – самое насущное дело. Думаю, что теперь это ясно и что мы должны еще раз поблагодарить руководство нашей партии… Ведь верно, Робер, все теперь ясно?
Анри с улыбкой поворачивается к Роберу. Но пока ясно лишь одно: Робер не выносит критики. Лицо у него угрюмое.
Он молчит, потому что против очевидности не пойдешь; все, что сказал Анри, верно от первого до последнего слова, и сам Робер теперь, конечно, понял свою ошибку. Однако вместо прямого ответа он пожимает плечами, неопределенно кивает головой, так что трудно даже понять, согласен он с Анри или нет. К счастью, все отлично знают, до чего Робер самолюбив. Чуть что-нибудь не так, и он уже становится на дыбы. А то собравшиеся могли бы подумать, что между Анри и Робером имеются серьезные разногласия. Анри, который уже пододвинул было себе стул, вдруг настороженно выпрямляется и добавляет:
– Но это, товарищи, еще не все. Каждый из нас должен воспользоваться этим случаем, чтобы уяснить себе вопрос во всей его глубине…
Теперь Анри надо взвешивать каждое слово. Слишком близко все это затрагивает любого из сидящих здесь… Если кто-нибудь поймет не так, как следует, придется непременно уточнить, добиться взаимного понимания. Конечно, неприятно, что так получилось с Робером. Но вольно же ему обижаться. Вот отвратительный характер! И Анри чувствует, что мимолетное колебание, боязнь больно задеть товарища уступают место желанию побороться, поговорить откровенно, по душам, ибо ничего, кроме пользы для всех, от этого не будет: после таких стычек люди становятся еще сплоченнее, ближе друг другу.
– Давайте спросим себя, не бывает ли у того или иного из нас невольного желания под благовидным предлогом уклониться от самой трудной борьбы? Я, конечно, только ставлю этот вопрос. Пусть каждый ответит на него сам для себя. Но обстановка сложилась так, что мы стоим на переднем крае. И потому нам подчас приходится вести более суровые бои, чем другим. Мы делаем то, что делают по всей Франции и другие, но мы делаем кое-что и сверх того – мы накапливаем опыт нового Сопротивления, опыт борьбы масс против выгрузки военных материалов. Это сложнее, чем собирать подписи под Стокгольмским воззванием. Вот и получается, что некоторым товарищам хотелось бы ограничиться более легкой, привычной работой. Тот, кто уклоняется от участия в битвах, обычно старается найти себе оправдание, прячется за так называемые политические соображения. И если мы не переломим такие настроения, они могут увести многих в сторону от борьбы…
Каждое слово этой речи Робер принимает как укор себе лично. Он решил, что теперь настала подходящая минута выразить свою досаду.
– Скажи уж прямо, что я трус! – кричит он, вскакивая с места. – Все ребята свидетели: в тридцать девятом году ты был еще мальчишкой, а вот спроси их, дрейфил я тогда или нет. И сейчас…
– Вот так история, – перебивает его, спокойно улыбаясь, Анри. – Сам председатель собрания выступает, не получив слова!
На скамьях раздается смех. Докеры почувствовали, что дискуссия принимает неприятный оборот, и им хочется как-то ослабить напряжение, которое нарастает в зале. Франкер порывается встать, ему, очевидно, тоже не терпится вставить слово. Но Анри кладет руку ему на плечо и усаживает на стул. Если вмешается Франкер, это уже будет похоже на серьезный инцидент. Нехорошо, особенно при сочувствующих. Или же Франкер проявит чрезмерное благодушие и все смажет. Анри уж как-нибудь справится без посторонней помощи и не допустит излишнего обострения, отнюдь, конечно, не сдавая принципиальных позиций.
– Почему ты все принимаешь на свой счет, Робер? То, что я сказал, относится ко всем нам и ко мне самому тоже. Ты отлично знаешь, что у многих возникает такой вопрос. И в этом никакого преступления нет, если вспомнить, сколько каждому приходится переносить, страдать, чтобы держаться. Я-то знаю, как это все не просто. В нынешнем месяце я работал только шесть дней. Мы должны все вместе бороться против тенденции некоторых товарищей забывать о главном. Ты, Робер, не больше виноват, чем все мы. До решения Политбюро я сам не лучше тебя разбирался в этом деле. Может, и я заслуживаю упрека за то, что пытался как-то обойти этот вопрос. И правильно сделали бы, если б меня упрекнули, как бы я ни протестовал, как бы ни доказывал обратное. Но теперь мы обязаны посмотреть прямо в лицо действительности. Вся наша борьба за мир, во всех ее формах, – борьба против перевооружения Германии, против удлинения срока военной службы, против фашизации страны, борьба за хлеб – все это должно быть подчинено основной цели: борьбе против американской оккупации, и, в частности, мы как следует должны быть готовы к отпору в момент прибытия американских кораблей с военными материалами. Было бы непростительной наивностью полагать, что янки не попытаются любыми средствами разгружать свои суда в нашем порту. Ведь таков их план. Как ваше мнение, товарищи?
– Правильно!
– Если мы сами не начнем, никто за нас не сделает.
– Да вовсе не об этом шла речь, – заявил Робер. – Разве я против?
– Что ж, тем лучше, – говорит Анри, садясь на место. – Поспорили и договорились. Теперь можно продолжать собрание. Ну, председатель, действуй.
– Посмотрим, когда дойдет до дела, кто как себя покажет, – говорит Робер и, силясь улыбнуться, спрашивает: – Кто теперь хочет взять слово, а то зря сколько потеряли времени.
Собрание шумно протестует. Никто не согласен с мнением Робера, что время потеряно зря. Анри все так же спокойно улыбается. Он чувствует, что выполнил свой долг. Конечно, лучше, если бы обошлось без столкновения, но раз уж оно произошло, иначе реагировать было невозможно. И, кроме того, это обсуждение всех встряхнуло. Можно смело сказать, что все теперь крепко запомнят резолюцию Политбюро. Так что в итоге даже хорошо получилось. Неугомонный Франкер снова наклоняется к Анри, как будто хочет сказать что-то очень важное.
– Теперь дело пойдет, а? – шепчет он, заслоняя лицо ладонью, но искоса поглядывая на докеров, которые тоже смотрят на него.
Опять начинаются выступления. Но главное уже сделано. Время больше десяти, а позже одиннадцати никак нельзя затягивать. Для открытого собрания это предел. А то на следующий раз ребят не созовешь. К тому же все прошло хорошо. Теперь Анри слушает ораторов рассеянно. Он обдумывает свое заключительное слово. Делает заметки на уголке блокнота, перелистывает написанный доклад, который подготовил дома. Прежде всего нарисовать общую картину американской оккупации, чтобы подчеркнуть важность задачи, которую многие, пожалуй, еще недооценивают. Конечно, та цель, которую мы ставили себе сегодня, достигнута не полностью: выскажется самое большее семь-восемь человек. Но зато собрание сыграло важную роль в другом отношении. И, во всяком случае, почва для следующего собрания подготовлена. Так или иначе, мы здорово подстегнули обе ячейки.
Однако трудно сосредоточиться, когда рядом все время говорят. После Папильона и Жерара, соседа Анри по бараку, – оба они выступали очень кратко, – слово берет Клебер. Он говорит очень интересные вещи о формах нашей борьбы. Совсем молоденький, почти мальчик, а умеет зажечь людей. И уж этот наверняка не сморозит какую-нибудь глупость.
– Я выйду на минуточку, – шепчет Анри Франкеру. – Ты мне потом расскажешь, о чем тут говорили.
Анри хочется собраться с мыслями, взять разбег. Но как только он выходит из зала, как только перестает видеть обращенные к нему лица товарищей, он чувствует, как вместе с ночным холодом его снова охватывает прежний глупый страх. Скрестив на груди руки, он шагает взад и вперед, чтобы согреться. Сквозь дощатые стены барака он неясно слышит милый юношеский голос Клебера. Но нужные мысли так и не приходят. И вдруг одно чувство, необычайное по глубине, пронизывает его всего. Возможно, пришло оно потому, что он здесь один, в этой бескрайней ночи, но Анри почти физически ощущает огромную ответственность, лежащую на нем. Он думает о Робере, о бесконечно преданном делу неутомимом работнике, и, однако, поди ж ты, от любого пустячного замечания Робер ощетинится, как еж, не переносит ни малейшей критики. Думает Анри также и о Гиттоне, который весь поглощен борьбой, хотя у самого душа разрывается – ведь пропал его сын и найдется ли? Борьба так трудна, так страшна эта нищета, что иной раз сжимается сердце, когда думаешь о других, о тех, кого ты вовлекаешь в борьбу. Но если она ослабнет хоть на минуту, что станется со всеми нами? И картины, одна другой чудовищней, встают перед глазами Анри. Бывают такие страдания, которыми ты можешь, ты вправе гордиться. Чем шире развертывается начавшаяся битва против этих извергов, тем громче в тебе говорит сознание, что иначе поступать нельзя. Приходит час, когда случай – если это только можно назвать случаем – ставит нас на перекресток, пусть самый незаметный, где сходятся дороги счастья и горя миллионов людей. Так мы растем. И Анри кажется, что в такие минуты, в такую именно ночь человек мог вообразить, что существует бог… А когда ты чувствуешь, что вырос, то иной раз дивишься, не веришь, тревожишься, но к этой тревоге примешивается необычайная, почти детская радость. Чорт побери, даже странно, до чего ярко блестят звезды, когда выйдешь из светлой комнаты и когда тебе так холодно.
И так голодно…
Едва Анри успел вернуться в барак и усесться на место, еще вздрагивая от ночной стужи, как Франкер уже снова нагнулся к нему: «Клебер – вот это да! Вот это настоящее выступление! Он совершенно прав: если мы возьмемся крепко, горы можно своротить…» Гаспар Дюбуа, сочувствующий, заканчивает свое выступление. Пора начинать заключительное слово. Все лица обращены к Анри, но контакт с присутствующими еще не восстановлен. В помещении не накурено, потому что табак тоже выдают по карточкам. Однако, когда Анри начинает говорить, он видит лица сквозь какой-то туман.
Анри почти не заглядывает в свои записи. Ему нужно столько сказать! Самое главное, думает он, набросать как можно ярче зловещую картину американской оккупации, распространившейся по всему юго-западу Франции. Сначала сказать о торговых портах, превращенных в военно-морские базы. Далее – аэродромы, военно-воздушные и морские базы, как те, которые уже заняты оккупантами, так и те, которые намечены к оккупации, о чем свидетельствуют непрерывные визиты американцев в Ла-Паллис, Ла-Рошель, Рошфор, Сен-Жан д’Анжели, Сэнт, Коньяк, Ангулем, Утэн, Периге, Бордо, Бержерак, Бискарос, пруд Казан, Ажен, Мон-де-Марсан, По. Примерно в тех же пунктах, а кроме того, в Пото и Ландах, – военные лагери, склады боеприпасов и горючего, с помощью которых можно взорвать и предать огню весь юго-запад Франции. Сеть строящихся стратегических путей сообщения – железных дорог и шоссе – говорит сама за себя. Захват новыми оккупантами бывших укреплений Тодта на линии Атлантического вала. Огромный треугольник, опирающийся своим основанием на франкистскую Испанию, где у американцев уже подготовлена мощная военная машина… Вот от этой-то зоны чума распространяется по Франции все дальше и дальше. Не проходит недели, дня, чтобы мы не узнавали о захвате американскими оккупантами новых лагерей, городов или заводов, расположенных в глубине страны. А ведь со всех точек оккупированной зоны все дороги и железнодорожные пути через Монлюсон, Бурж, Шательро, Тур устремляются к Западной Германии.
Затем, еще раз о целях нашей борьбы. Именно борьбы, ибо американцы во Франции – это война, американцы несут с собой разорение всему нашему району, превращают его в пустыню. Мы не против американского народа и его страны. Но здесь – это колонизация, это война.
В заключение кратко напомнить о том, что нужно делать сегодня. И не только докерам, но и всему населению… Мы не одиноки в нашей борьбе. С нами народ. Во всей Франции, во всем мире честные люди рассчитывают на нас, одобряют наши действия, поддерживают нас… И о нашем долге. Быть на высоте нашего долга. Сознавать свою ответственность.
Собравшиеся аплодируют. Анри садится и спрашивает Франкера: «Который час?» Уже четверть двенадцатого! Все-таки здорово затянули. Анри говорил целый час. Однако никто не ушел. Кто-то из товарищей предлагает послать Морису Торезу пожелание скорейшего выздоровления и еще раз заклеймить организаторов гнусного покушения на его жизнь.
– Мы об этом уже подумали, – говорит Робер.
И он зачитывает письмо.
Гром аплодисментов.
Собрание закрывается. Анри спрашивает у проходящего мимо докера:
– Ну, как сошло, по-твоему?
Тотчас вокруг стола президиума собирается кружок. Кто-то говорит:
– Надо бы почаще устраивать такие собрания с участием обеих ячеек. Совсем другое дело, когда чувствуешь, что стоишь с товарищами плечо к плечу.








