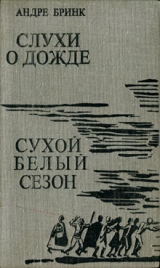
Текст книги "Сухой белый сезон"
Автор книги: Андре Бринк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц)
5
Она ждала его на ступенях, ведущих в здание суда, еще после второго или третьего заседания, после того как процесс был отложен на день, – этакая маленькая черноволосая девушка с большими карими глазами, затерявшаяся и неприметная в толпе газетчиков. Ему так и показалось, когда он увидел ее в суде, что она выглядит поразительно юной для такой серьезной работы. В окружении множества людей, старше ее по возрасту, плотных здоровяков, развязных репортеров, ее юность почти физически ранила его тогда. Юность и эта ее открытость, искренность, неподдельность. Но сейчас, столкнувшись с ней, вдруг словно выросшей перед ним, он с удивлением обнаружил, насколько она старше, чем он себе представлял. Определенно ближе к тридцати, а не восемнадцать-двадцать, как ему показалось вначале. Подведенные глаза, глубокие, а это уж не скроешь, морщинки непреклонной решимости или страданий вокруг рта. Пожалуй, в дочери ему годится, но зрелая и без иллюзий, и уж не без жизненного опыта; и никаких следов неуверенности, неверия в собственные силы. Твердая, непоколебимая и женственная. Знающая себе цену.
Бен вышел из здания суда раздраженный, недовольный собой. Вышел погруженный в собственные мысли. И не только от того, что произошло в суде, от чего-то гораздо большего: он уже свыкся с присутствием целой толпы лиц из тайной полиции в зале заседаний, откровенно разглядывавших присутствующих, перебирающих одного за другим на предмет более тщательного изучения. И каждый чувствовал себя виновным, пусть для этого и не было никаких причин. В тот день в первый раз здесь был и полковник Вильюн. И когда глаза этого, уже с проседью, слегка покровительственного в обращении офицера вдруг отыскали Бена в толпе, в них отразилось что-то: удивление? неодобрение? – не это даже. Просто констатация факта: ничто не укрыто от его взора. Вот от чего смешался Бен. Поэтому он едва заметил девушку, когда вышел из дверей. А она, загородив ему дорогу, заговорила неожиданно низким для такого создания голосом:
– Господин Дютуа?
Он с нескрываемым изумлением – не спутали ли его с кем-нибудь другим – оглядел ее.
– Да.
– Я Мелани Брувер.
Он остановился и стоял выжидательно, настороженно.
– Я так понимаю, вы были знакомы?
– С кем?
– С Гордоном Нгубене.
– Вы из газеты? – спросил он.
– Да. Я из «Мейл». Но это мой личный вопрос.
– Я предпочел бы не говорить на эту тему. – Бен сказал это тоном, не допускающим возражений, как если б разговаривал с Линдой или Сюзетт.
Но что его удивило, так это ее ответ.
– Понимаю, – сказала она. – А жаль. Мне хотелось бы узнать о нем побольше. Это, должно быть, был какой-то особенный человек.
– С чего вы взяли?
– Ну, хотя бы эта его решимость, с какой он пытался докопаться до причин смерти своего сына.
– Любой поступил бы точно так же, коснись это его ребенка.
– Чего же вы ощетинились?
– Я? Нет. Просто это был самый обычный человек. Как я, как все другие. В этом все дело. Неужели не понимаете?
Она вдруг улыбнулась всем своим полным и щедрым ртом.
– Это-то и заинтриговало меня. В наше время обычный человек – большая редкость.
– То есть как вас прикажете понимать? – Он смотрел на нее с подозрением, хотя уже обезоруженный ее улыбкой.
– А так, что очень редко встречаются люди, готовые быть просто человеком – и со всей мерой ответственности за это, знаете ли. Не согласны? Ну, за свою человечность.
– Я действительно здесь не судья. – Она удивительным образом заставила его почувствовать себя виновным. Что в конечном счете он сделал, чего добился? Выжидал, медлил, ну каких-то мелочей добился, и только-то. А может, она дурачит его?
– А как вы узнали об этом? – поинтересовался он, как бы прощупывая почву. – Ну, что я знал Гордона?
– Мне Стенли рассказал.
– Так вы и Стенли знаете?
– Кто ж его не знает.
– Ну так вряд ли он дал мне лестную характеристику, – ляпнул он и сам понял, что получилось неловко.
– О, Стенли на ваш счет удивительно деликатен, господин Дютуа. – Она посмотрела ему прямо в глаза. – Но вы сказали, что предпочли бы не обсуждать эту тему, так что прошу прощения. До свидания.
Он смотрел ей вслед, пока она спускалась по широкой лестнице. Там она махнула ему рукой на прощание, маленькая невзрачная фигурка. Он тоже вздернул руку, скорее в надежде вернуть ее, чем попрощаться. Но ее уже след простыл. И когда он спускался по лестнице, чтобы влиться в запруженную толпой и залитую солнцем улицу, перед глазами у него светились ее большие искренние глаза, а в душе саднило чувство утраты, словно он потерял нечто прекрасное и непостижимое, и, только протяни руку, возможное, хотя он и сам не мог себе объяснить, что именно.
Она лишила его покоя на весь остаток дня, и уснул он, размышляя о ней: что она сказала о Стенли, о Гордоне, о нем самом. Темные глаза и такая ранимость в линии губ.
Двумя днями позже в перерыве на второй завтрак он сидел в маленьком греческом кафе поблизости от здания суда. Почти все места были заняты. Он как раз принялся за свой чай с ломтиком хлеба, подрумяненным на огне, когда у его столика, накрытого несвежей, в пятнах, полиэтиленовой скатертью, вдруг возникла невесть откуда она.
– Не возражаете, я к вам присяду? Ни одного свободного места.
Бен вскочил, неловко двинув столик, чай расплескался на блюдце.
– Конечно. – Он потянул за спинку стул напротив, предлагая ей сесть.
– Не стану вам докучать разговорами, если вы не в настроении, – сказала она, а глаза ее смеялись. – Не обращайте на меня внимания.
– Нет-нет, почему же, – поспешил он. – В суде сегодня все шло отлично.
– Вы находите?
– А вы? – Он не мог скрыть возбуждения. – Как этот Тсабалала выступил против них, да и вообще. Все их дело на ладан дышит. Де Виллирс мокрого места от них не оставит.
Она усмехнулась:
– Вы действительно полагаете, что это изменит исход дела?
– А как же. Ясней ясного. Де Виллирс на их собственной лжи их и посадит в лужу.
– Хотелось бы верить.
Официант подал ей замусоленное меню и принял заказ.
– А почему вы так скептически настроены? – спросил Бен, когда тот ушел.
Она оперлась подбородком на согнутые в локтях руки и посмотрела на него.
– Что вы намереваетесь делать, если из этого ничего не выйдет?
– Мысли такой не допускаю.
– Боитесь?
– Чего?
– Я не имею в виду ничего конкретного. Просто так, не страшно?
– Боюсь одного – я вас не понимаю.
Он вынужден был смотреть ей в глаза.
– Распрекрасно вы все понимаете, господин Дютуа. И отчаянно хотите, чтобы это удачно обернулось.
– Один я? А другие?
– Да, мы тоже. Причины только разные. Вы ведь не просто зритель.
– Так, значит, вы все-таки за материалом для газеты, – задумчиво протянул он, не скрывая горького разочарования.
– Нет. – Она смотрела на него неподвижным взглядом, не шелохнувшись. – Я же сказала. Еще в прошлый раз. Просто мне самой хочется знать. Должна знать.
– Должны?
– Да. Хотя бы потому, что я и сама не умею оставаться зрителем. Я понимаю, я журналистка, и предполагается, что должна быть объективной и не причастной ничему на свете. А только я бы сама с собой не ужилась, если б на этом и поставила точку. Это, ну… понимаете, рано или поздно каждый ведь начинает доискиваться смысла собственного существования. Вот я и подумала, может, вы мне поможете.
– Мы с вами даже не знакомы.
– Да. И все-таки я готова рискнуть.
– Такой уж большой риск?
– А вы как думаете? – Было нечто обезоруживающе щутливое в том, как важно она это произнесла, – Может, вы знаете что-нибудь более опасное для человека, чем неожиданно оказаться над пропастью?
– Ну, как сказать, – тихо промолвил он.
– Уходите от ответа? Что бы я ни спросила, только и слышу: «как сказать», «возможно» или «что я имею в виду». А я хочу знать почему? А то, что вы не такой, как все, без вас знаю.
– Откуда это?
– От Стенли, от него.
– А если он ошибается?
– Он слишком много в жизни насмотрелся, чтобы ошибаться на этот счет.
– Расскажите мне о нем, – попросил Бен, ухватившись за спасительную мысль перевести разговор на другую тему.
Мелани поняла, расхохоталась.
– Вот уж кто мне ни разу в помощи не отказал. Обращаюсь не только по газетным делам, хотя и это тоже. Я в том смысле, что на ноги мне помог стать, особенно вначале, когда я только пришла работать. Вы этот его бесшабашный вид всерьез не принимайте. Это у него напускное.
– И такси просто камуфляж?
– Конечно. Ну и потом, так свободней, всегда сам себе хозяин. Похоже, пасется на контрабанде. Может, алмазы, – Она улыбнулась. – Он и сам чем-то алмаз напоминает, правда? Большой черный необработанный алмаз. Одно я только давно установила: если уж действительно понадобится человек, на которого можно положиться, так это Стенли.
Официант принес ей чай и бутерброды.
Она подождала, пока он уйдет, и тогда сказала, возвращаясь к началу разговора:
– Вот почему я и решила: воспользуюсь-ка случаем поговорить с вами.
Он налил себе еще чаю и, забыв положить сахар, пристально смотрел на нее.
– Знаете, – признался он, – я так и не могу понять, кто вы. Верить вам, или вы просто самая коварная журналистка, какую только можно себе представить.
– Испытайте, – сказала она спокойно.
– На что бы вы там ни рассчитывали, – выпалил он, – а я действительно мало что могу рассказать о Гордоне.
Она чуть заметно повела плечом и молча жевала бутерброд, крохотные крошки прилипли к губам. Она облизала губы, и его тронуло, как это у нее по-детски получилось.
– Ну не за этим же я пришла сюда.
– Понимаю. – Он улыбнулся, почувствовал себя вдруг по-мальчишески свободно.
– Меня потрясло, когда я увидела сегодня этого Арчибальда Тсабалалу, – сказала она. – Стоять и говорить им прямо в лицо, что они с ним сделали. Зная, что через несколько минут он снова окажется в руках своих палачей. – Ее темные глаза были доверчиво устремлены на него. – Не укладывается в голове. Да и весь их народ… они единственные, кто может позволить себе такое. Им нечего терять, только жизнь. Да и можно ли это прозябание назвать жизнью? Хуже некуда. Остается надеяться только на чудо, а вдруг?.. При условии, что их не перебьют всех до единого. А что, правительство может выиграть войну против целой армии трупов?
Он ничего не ответил, понимая, что вопрос не к нему.
– Но вы, – сказала она, помолчав. – У вас есть все, что человек может потерять. Вы-то как же?
– Не говорите так. Пожалуйста. Ничего я путного не сделал.
Она не спускала с него глаз, молча покачала головой. Длинные черные волосы мягко качнулись, и лицо стало как в раме.
– Что вы такое вообразили, Мелани?
– Ничего. Нам пора. Скоро начнется заседание. А то без места останемся.
Он поднялся, рукой подозвал официанта. Расплатился за обоих. А потом они шли по улицам, людным в этот час. И до самого здания суда не сказали друг другу ни слова.
И последний день суда. Едва дослушав приговор, он, ошеломленный, с трудом передвигая ноги от нахлынувшей вдруг усталости, поспешил прочь из зала и остановился уже на тротуаре. Его обтекала толпа, большей частью черные, кричащие и размахивавшие кулаками, поющие песни о свободе. А за ним сквозь толпу пробирались те, кто, как и он, вышли из зала суда. Он мешал, и его толкали. Но и это едва доходило до сознания. Слишком неожиданно все кончилось, будто кто взял и обрубил. Приговор звучал настолько нелепо, что он тупо повторял слово за словом, чтобы собрать их во что-то осмысленное. Следовательно, суд находит, что Гордон Нгубене покончил жизнь самоубийством через повешение февраля двадцать пятого дня и что на основании имеющихся свидетельств его смерть не может быть отнесена за счет какого-либо действия либо упущения, могущего быть рассмотренным как уголовное преступление с чьей бы то ни было стороны.
Двое из толпы пробирались к нему, но он обратил на них внимание, лишь когда кто-то тронул его за руку. Стенли в своих темных очках и с вечной улыбкой, хотя сейчас это была скорее гримаса какая-то. Стенли и повисшая у него на руке Эмили.
Первое, что бросилось в глаза, это ее безобразно искривленный рот. Она пыталась что-то сказать и все не могла и просто кинулась ему на шею и принялась рыдать у него на груди. Она повисла на нем всей тяжестью могучего тела, и, чтобы сохранить равновесие, он машинально обхватил ее за плечи. Так они и стояли, будто обнявшись, пока Стенли мягко, но решительно не оторвал ее от него. А на ступенях, ведущих в зал суда, вспыхивали блицы репортеров.
Как и она, Бен слишком был переполнен чувствами, чтобы говорить и замечать, что творится вокруг.
Один Стенли не терял присутствия духа. Он положил свою ручищу Бену на плечо и пророкотал:
– Ну-ну, белый, все в порядке. Главное, мы пока живы.
И они исчезли в толпе, словно их и не было.
И почти тут же что-то нежное коснулось его руки, и голос сказал:
– Идемте.
В самое время, потому что полицейские с собаками уже разгоняли толпу, прежде чем она могла бы вылиться в демонстрацию. Так они и оказались снова в том жалком кафе, что и накануне. В этот час там было почти пусто. На потолке горела единственная лампа дневного света, остальные мерцали. Они прошли к столу за зеленым барьером из пластика и заказали кофе.
Бен, занятый собственными мыслями, меньше всего был расположен сейчас разговаривать. Ей и не нужно было ничего объяснять, и, только допив кофе, Мелани спросила:
– Бен, вы действительно ждали другого приговора?
Он поглядел на нее, уязвленный этим вопросом, и молча кивнул.
– Что теперь?
– Зачем вы спрашиваете? – взорвался он.
Она промолчала, жестом показала официанту: еще два кофе.
– А вы что-нибудь понимаете? – спросил он с вызовом.
Она спокойно ответила:
– Да, конечно, понимаю. А на что еще они могли решиться? Не признаваться же, что сами кругом не правы?
– Не верю, – упрямо твердил он. – Это же не что-нибудь, это – суд закона.
– Назовем вещи своими именами, Бен. Ведь в функции суда вовсе и не входит решать, кто прав или не прав в абсолютном смысле. Его дело применить закон, букву.
– Откуда в вас столько цинизма? – Он был ошеломлен.
– Почему цинизма? – Она покачала головой. – Просто я стараюсь не витать в облаках. – Глаза у нее потеплели. – Знаете, я до сих пор помню, как отец, когда я была совсем маленькой, изображал, бывало, деда-мороза. Он всегда баловал меня самым немыслимым образом, но любимым его развлечением было рождественское представление. Но уже лет в пять или шесть я прекрасно понимала, что все эти деды-морозы сплошной вздор. А вот решиться сказать ему об этом никак не могла, ведь ему это доставляло столько радости.
Он тупо уставился на нее.
– Мы говорили о Гордоне. Не вижу, какая тут связь?
– А такая, что мы все разыгрываем друг перед другом дедов-морозов, – сказала она. – И все боимся посмотреть правде в глаза. А зачем? Рано или поздно все равно ведь приходится.
– И «правда» в том, чтобы отринуть понятие справедливости? – спросил он гневно.
– Вовсе нет. – Она отвечала ему тоном взрослого превосходства, когда хотят успокоить ребенка. – Я никогда не перестану верить в справедливость. Просто я вынесла из жизни, что в определенных обстоятельствах тщетно искать ее.
– Какой прок в системе, где больше нет места справедливости?
Она посмотрела на него с иронией.
– Это уж точно.
Он только качал головой.
– Вы еще очень молоды, Мелани, – сказал он. – И размышляете категориями молодости – все или ничего.
– Вот уж нет, – возразила она. – Я отвергла абсолюты в тот же день, когда перестала верить в деда-мороза. Но прежде, чем бороться за справедливость, надо очень отчетливо представить себе, что это такое – справедливость. А она познается от обратного. Надо знать своего врага. С этого надо начинать.
– И вы совершенно уверены, что знаете врага?
– По крайней мере не прячу голову в песок.
Раздраженный от сознания того, что его загнали в тупик, он рывком встал, двинул стулом, даже не притронувшись к кофе, который она заказала.
– Я ухожу, – сказал он. – Здесь не место для разговоров.
Ни словом не возразив ему, она тоже поднялась. И пошла за ним следом.
Уже затих гул городского транспорта, и улицы без толпы лежали мертвыми, как пустыня. Горячий, насыщенный запахами большого города воздух висел неподвижным маревом, вяло колышущимся между громадами, зданий.
– Не очень-то забивайте себе голову всем этим, – сказала Мелани, когда они вышли и зашагали по тротуару. – Прежде всего постарайтесь выспаться. Понимаю, вам нелегко пришлось.
– Вам куда? – спросил он, испытав вдруг панический ужас при мысли, что вот сейчас она уйдет, и все.
– Я на автобус. Мне на Маркет-стрит, – Она уже повернулась, чтобы идти.
– Мелани, – позвал он, решительно не понимая, что с ним происходит. Она обернулась, резко, так что взметнулись ее тяжелые длинные волосы. – Можно я провожу вас?
– Если вам по пути.
– Где вы живете?
– Вестден.
– Рукой подать.
Какое-то мгновенье они стояли лицом друг к другу, такие оба незащищенные в безжалостных лучах заходящего солнца. («И так-то вот решается жизнь, тривиально, случайно», – запишет он потом.)
– Спасибо, – сказала она.
И больше, до автомобильной стоянки, они не проронили ни слова. И после, в машине, и когда уже проехали мост и свернули на Ян Смэтс-авеню и уже миновали Эмпайр-роуд. Может, теперь он и раскаивался в чем. Он предпочел бы ехать домой в одиночестве. А ее присутствие слепило, как яркий свет.
Дом стоял в старом районе пригорода, на улочке, скатывавшейся с холма. Просторный дом на участке вдвое против обычного, огороженном белым штакетником, кое-где в нем виднелись проломы. Уродливый старый дом двадцатых или тридцатых годов, с осевшей и покосившейся верандой и колоннами, увитыми бугенвиллеями; зеленые ставни, тоже давно перекосившиеся и кое-как висевшие на полуистлевших от времени петлях. Но что радовало глаз, так это сад. Никаких там лужаек на новый лад, фонтанчиков и экзотических уголков, просто честные ухоженные клумбы, деревья, кустарник и пышная зелень овощных грядок.
Бен вышел из машины открыть ей дверцу, но она опередила его. И теперь он стоял перед ней нерешительный, удрученный, не зная, что сказать.
– Вы… это здесь вы живете? – наконец спросил он. Никак уж не сочеталось с ней то, что было перед глазами.
– Мы с отцом.
– Ну, – сказал он, – мне, пожалуй, пора. – И никак не мог решить, должен ли он попрощаться с ней за руку, ну, то есть первым подать руку.
– Вы не зайдете?
– Нет, благодарю вас. Никак не расположен для светской беседы.
– Папы нет дома. – Она сощурилась под ослепительно ярким закатным солнцем. – Он в горах, на Магалисберге, он ведь у меня альпинист.
– Один?
– Ага. Немножко беспокоюсь, ему ведь уже под восемьдесят и здоровьем не блещет. Но его не удержишь от этих гор. Обычно мы с ним вместе ходим, а на этот раз пришлось вот остаться из-за суда.
– И вам здесь не скучно жить?
– Скучно? Нет. Я ведь сама себе хозяйка, ничто меня здесь не удерживает. – И чуть погодя: – А потом, каждому нужно вот такое место, где можно уединиться, когда все опостылело.
– Понимаю. Это мне знакомо. – И тут же поймал себя на мысли, что, похоже, сказал больше, чем следовало бы. – Но знаете, я ведь постарше вас.
– Ну и что? У всех по-разному.
– Да, но вы молоды. Неужели вы не предпочитаете этому, – он показал на дом, – бывать в обществе, развлекаться, что естественно в вашем возрасте?
– Что вы называете развлекаться? – спросила она, снова с этой ее иронической усмешкой.
– Ну, что молодежь обычно имеет под этим в виду.
– A-а. Ну в этом я преуспела на свой собственный лад, когда была помоложе, – сказала она. И тут же, не без тени загадочности впрочем: – Знаете, я уже даже замужем побывала.
Его это по-настоящему заинтриговало. Нет, в самом деле, такая юная, такой ребенок. Но и это растворилось, едва он заглянул ей в глаза.
– Вы сказали, что торопитесь домой, господин Дютуа, – напомнила ему Мелани.
До этого она, помнится, называла его просто по имени. И неожиданно для себя, может быть, из-за этой официальности, он вдруг сказал, что с удовольствием зашел бы, если ему предложат чашечку кофе.
– Я ведь так и не выпил тот, что вы заказали, – сказал он.
– Ох уж эти мне угрызения совести. – И все-таки она с явным удовлетворением пошла к сломанной железной калитке и дальше по неровной, мощенной камнем тропке, едва угадывавшейся среди разросшейся зелени, к веранде. Она еще долго копалась в сумке, отыскивая ключ. И вот дверь открыта.
– Прошу!
И он пошел за ней, и они остановились в просторном кабинете. Две обычные комнаты с прорубленной в стене аркой, обрамленной с обеих сторон чудовищно огромными бивнями. Стены почти сплошь были уставлены книжными полками, встроенными вперемежку с чудесными антикварными шкафами со стеклянными дверцами, а рядом с ними – еще и еще, из обычных сосновых досок. По полу были разбросаны потрепанные персидские коврики, шкуры газели, антидорки и сернобыка. Занавеси на оконных проемах были из выцветшего вельвета, когда-то цвета старого золота, а теперь просто грязно-желтые. Репродукции в просветах между книжными полками: «Девушки на мосту» Мунка, «Тит» Рембрандта, натюрморт Жоржа Брака, ранний Пикассо, «Поле с кипарисами» Ван Гога. Несколько громадных кресел со спящими кошками на каждом; изысканной инкрустации шахматный столик с резными фигурками из слоновой кости и черного дерева, явно восточного происхождения. Старинный кабинетный рояль и тут же ящик от походного военного столика. Стол, как и два поменьше, как и все вообще свободное пространство, включая и каждый кусочек пола, был усыпан связками бумаг и книгами, открытыми, как пришлось, на какой-то странице, с обтрепавшимися от старости закладками. По полу вились провода, соединяющие проигрыватель с двумя стереоколонками. В комнате стоял застоявшийся запах табака, кошек, пыли и плесени.
– Устраивайтесь поудобней, – сказала Мелани, подхватив с первого попавшегося стула груду книг, газет, бумаг и заодно убеждая одного из этих бесчисленных, вконец обленившихся, жирных котов уступить место гостю. И тут же метнулась к шкафу с пластинками, дверцы которого были распахнуты настежь, потому что он был так забит, что его при всем желании не закроешь, и щелкнула выключателем маленькой настольной лампы. И весь этот живописный хаос тут же растворился в тусклом, серовато-коричневом от вечной пыли и желтом у самой лампочки свете. Каким-то непонятным образом она удивительно вписывалась в эту комнату, хотя в то же время казалась напрочь чужой и совершенно здесь не к месту. Вписывалась, потому что была здесь в собственном доме, так уверенно прокладывала себе дорогу в этой неразберихе; и не к месту, потому что все здесь было такое древнее, заплесневелое и отжившее свой век, а она такая юная.
– Ну от кофе вы, значит, не отказываетесь, – сказала она, еще не успев отойти от лампы. Желтый свет падал ей на плечи и на щеку, и золотым блеском в нем отливала темень ее волос. – А может, что-нибудь покрепче?
– А у вас найдется?
– После сегодняшнего нам с вами просто необходимо. – Она пошарила где-то сбоку арки, среди этих чудовищных бивней. – Бренди?
– С удовольствием.
– Содовой?
– Спасибо.
Она вышла, а он принялся исследовать эту двойную комнату, путаясь ногами в проводах, тянувшихся к динамикам, механически проводил рукой по корешкам на книжных полках. Похоже, в подборе книг здесь исповедовали то же абсолютное пренебрежение к системе, как и вообще ко всему в этой комнате. Хаос. В беспорядке поставленных как попало книг труды по праву, а рядом Гомер на древнегреческом, библия и целая подборка комментариев к ней, книги по философии, антропологии, фолианты с описаниями путешествий в старинных кожаных переплетах, история искусств, музыки, «Птицы Южной Африки», ботаника, пособия по фотографии, английский, испанский, немецкий, итальянский, португальский, шведский, латинский словари; сборник пьес, романы из серии «Пингвин-букс». И ни одной новой книги – все, видно, читаные-перечитаные, с замусоленными страницами. В тех, что он брал с полки и листал, были загнутые страницы, отчеркнутые абзацы, поля испещрены комментариями, написанными мельчайшим, едва различимым почерком, подлинно минускулами.
Он задержался только у шахматного столика и, нежно касаясь искусно вырезанных фигур, сделал несколько ходов, разыграв начало испанской партии и умиротворяясь ее классической гармонией, ход белыми, ход черными, белыми, черными. И вдруг это ощущение, внезапное и неожиданное, почти физически мучительной зависти: и что, можно вот так жить, играя этими фигурами после своих старых, облезлых, захватанных, прикасаться к ним ежедневно, как может позволить себе Мелани?
Она вошла так тихо, что он не слышал. И вздрогнул, когда она тихо сказала:
– Я вот здесь накрою.
Она сбросила туфли и теперь пристроилась в кресле, которое предлагала до этого Бену. Ноги поджала под себя и сидела с кошкой на коленях.
Он освободил от хлама стул напротив и взял рюмку со штабеля книг, на который она ее поставила. Две здоровенные серые кошки тут же потянулись к нему и стали тереться о ноги, поводя хвостами и довольно урча.
Так они с ней сидели и пили, молча и не считая времени, в сумраке этой беспорядочной комнаты. И он ощущал, как тупое, тяжелое оцепенение спадает с него, подобно намокшему пальто, медленно освобождает плечи и падает на пол. На улице, за окном спускалась ночь. А в сумерках комнаты, обласканные мягким, подобным желто-солнечному, свечением лампы, почти неразличимые, неслышно двигались кошки, держась дальше от этого единственного источника света, прячась от него по углам.
На какой-то миг, и только на один какой-то миг, грубая действительность этого долгого дня отпустила его: зал суда, смерть, нагромождение лжи, пытки, Соуэто и город – все, что так нестерпимо навалилось на него в этом жалком кафе. Не то чтобы это совершенно исчезло, остался след, шершавый, как на рисунке древесным углем, ощутимый под пальцами, но если легонько провести рукой, то линии стираются и размазываются.
– Когда приезжает ваш отец?
Она пожала плечами:
– Понятия не имею. Он живет вне расписания. Дня через два-три, наверное. Неделя, как он уехал.
Он обвел рукой комнату.
– Знаете, так я себе представляю кабинет доктора Фауста.
Она ухмыльнулась:
– Точно. Он здесь и обитает. Если б отец верил в дьявола, непременно продал бы ему душу.
– Чем занимается ваш отец? – Он с облегчением ухватился за эту тему, чтобы не говорить о себе, и о ней, и обо всем, что произошло.
– Был профессором философии. Несколько лет назад вышел в отставку. Теперь живет, как ему нравится. А время от времени отправляется в горы, собирает гербарии и всякую всячину. Исходил всю страну, до самой Ботсваны и Окаванго.
– Ну и вы не против оставаться здесь, предоставленной самой себе?
– Почему я должна быть против?
– Я просто спрашиваю.
– Мы прекрасно ладим. – В полумраке, едва рассеиваемом золотистым светом лампы, в знакомом окружении, где все до мелочей свое, было легче сбросить с себя скрытную сдержанность. – Понимаете, ему было около пятидесяти, когда он вернулся с войны, и в Лондоне они поженились. С моей матерью. Дочь его старых друзей. Намного моложе его. Три недели, всего-навсего, продолжался их роман, ведь до войны он знал ее совсем ребенком и не обращал на нее никакого внимания. И поженились. Но привыкнуть к Южной Африке она так и не смогла, ровно через год после того, как я родилась, разошлись. Она вернулась в Лондон, и с тех пор мы больше не виделись. Он сам один меня вырастил. – Она улыбнулась ему, широко и открыто. – Одному богу известно, как он справлялся, более непрактичного человека на свете не сыщешь. – Какое-то время они молчали, и только мурлыканье кошек нарушало тишину, да скрипнуло кресло, когда она устроилась поудобней. – Он учился на юридическом, с этого начинал, – сказала она. – Был адвокатом. Но затем решил, что сыт по горло, бросил практику и уехал в Германию изучать философию. Это уже в начале тридцатых. Какое-то время учился в Тюбингене, в Берлине, и еще год в Йене. Но был настолько подавлен всем, что произошло тогда в третьем рейхе, что в тридцать восьмом вернулся. Когда разразилась война, пошел в армию, чтобы воевать против Гитлера. А кончилось тем, что три года просидел в немецком концлагере.
– А вы?
Она вскинула на него глаза и минуту изучающе его разглядывала.
– Что я?
– Что вас привело в журналистику?
– Иногда я сама себя спрашиваю. – Она помолчала, и только ее большие загадочные глаза светились в сумраке комнаты. А затем, словно вдруг решившись на что-то очень трудное, сказала: – Ладно, я вам расскажу. Не знаю почему, терпеть не могу исповедоваться. Но если вам интересно…
Он сидел не шелохнувшись, боясь спугнуть разлившееся по телу расслабление, откровение души, еще недавно немыслимое, – к нему располагала угасающая вечерняя заря за окном, и мягкие сумерки, разливавшиеся в комнате, и сама кроткая доброта этого старого дома.
– Я росла под стеклянным колпаком, – сказала она. – Не то чтобы он был человек-собственник, но ограждал меня от чего только можно. Я думаю, просто он столько всякой грязи насмотрелся в этом мире, что хотел, как мог, меня защитить. Ну, не от страданий вообще, а от ненужных страданий. И потом, в университете, я избрала самое безопасное и привлекательное. Филологию. Надеялась преподавать литературу. Затем вышла замуж за человека, которого знала еще по школе, одного из своих учителей. Он обожал меня, на руках носил, ну совсем как отец. – Она тряхнула головой, и он смотрел на водопад ее темных волос. – Думаю, с этого и начались все беды.
– Но почему? – Он почувствовал внезапную острую боль тоски по Линде.
– Я не знаю. Может быть, просто во мне был заложен дух противоречия. Или наоборот. Я. между прочим, родилась под знаком Близнецов, знаете, – (с вызывающей улыбкой). – В глубине моего существа я страшно ленива. Не было ничего легче, чем потакать своим причудам, позволять себе, едва поднявшись, снова нырнуть в одно из этих старых добрых кресел. Но это опасно. Вы понимаете, что я хочу сказать? Я в том смысле, что каждый может, конечно, обложившись мягкими подушками, всю жизнь вести этакое восхитительное существование, пока, по сути, и жить-то не перестанешь, разучишься чувствовать и сочувствовать, пребывая в вечном трансе. – Она сидела и крутила бренди в стакане. – Пока в один прекрасный день не обнаружишь, что жизнь, собственно, давно ускользнула вот так, между пальцев, а ты давным-давно не больше чем этакая безногая личинка, и уже не человеческое существо, а просто-напросто вещь, милая и бесполезная. И даже если ты попытаешься звать на помощь, тебя не поймут. Господи, тебя и не услышат. А и услышат, так подумают, просто вот, мол, новая мода завелась, и станут над тобой сюсюкать.







