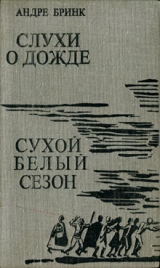
Текст книги "Сухой белый сезон"
Автор книги: Андре Бринк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)
12
7 марта.Начало, конец, убеждение, что назад пути нет: что это было? Несомненно, решающее. Отгородиться окончательно от всего, что случилось, и бог с ним, либо врасти в него корнями? Хожу вокруг да около, не в состоянии нанести это на бумагу, и в отчаянии, что не могу. Напуган, что это кончится? За себя самого боюсь?
Увы, отныне этого не избежать. Иначе я никогда, я никогда не смогу решиться.
Суббота 4 марта.
Полнейшее одиночество. Ни слуху, ни духу о Стенли. С тех пор как принес эту новость про Джонсона Сероки, точно в воду канул. Умом понимаю, что теперь он должен быть, как никогда, осторожен, и все-таки. Ни слова от Сюзан. Йоханн уехал с друзьями за город. Такая жизнь, что установилась в доме, не для молодого парня, я понимаю. (А как меня все-таки тронуло, когда он сказал: «Слушай, па, ты вправду здесь справишься один? А то если нужно что помочь, так я не поеду».) Больше недели уже не навещал Фила Брувера, тот еще в больнице. Мелани вся в работе. Когда человек слишком долго пребывает в вынужденном одиночестве, это опасно. Тут один шаг до мазохизма, самоистязания.
Но куда идти, к кому податься? Кто еще не отвернулся от меня? Молодой Вивирс? Этот общительный Карелсе? Пока и им тоже не придется расплачиваться. Думаю, что от меня не отвернулся бы преподобный Бестер. Но воротит от одной мысли обсуждать с ним то, что у меня на душе. Да и что там моя душа. Самому надоело в ней копаться.
Пытался работать. Заставил себя снова просмотреть все свои записи, целый пасьянс разложил. А ну как не выпадет? Собрал все и снова свалил в ящик для инструментов. Карты в колоду.
…Старый дом с полукруглой верандой стоял темный и пустой. Обошел его вокруг. На веранде у черного хода блюдечки для кошек. Шторы не задернуты, но везде темно. Где ее комната? Точно это имело значение. Просто хотелось знать в утешение. Мальчишество какое-то. Вот почему стареющим мужчинам, если они не хотят выглядеть смешными, следует избегать увлечений.
Долго сидел на ступеньках у парадной двери, курил. Ни-че-го. Ровным счетом ничего. Почти с облегчением вздохнул, когда заставил себя подняться и пошел к калитке. Чувствовал себя «спасенным». Боже милостивый, от чего? Судьба пуще смерти? Бен Дютуа, вам следует обдумать свои поступки.
Однако же стало покойней. Отказался от мысли ехать домой и снова оставаться наедине со своим одиночеством.
Но я еще не дошел до ворот (надо выбрать день и починить им ворота, совсем развалились), когда ее малолитражка скользнула в них и завернула на задний дворик. Истинно говорю, я почувствовал едва не огорчение. Ведь так легко было избежать всего этого. («Избежать», как я мог еще рассуждать о таких вещах? Хотя, ну что же, способен я был в ту минуту предвидеть, надеяться, если не предполагать, что может произойти? И как? Нет, конечно. Хотя, мне кажется, должно быть, есть все-таки некие неосознанные, неуловимые, что ли, предвидения.)
– Бен?! – Она глядела, как я поворачиваю из-за угла. – Это вы? Как вы меня напугали.
– Да вот, решил заглянуть. Уже собрался уезжать.
– Я ездила к папе в больницу.
– Как он?
– Без изменений.
Она открыла ключом дверь в кухню и решительным шагом пошла по темному коридору. Я за ней. Я еще наступил на кошку в этой тьме египетской. Мелани впереди, я – за ней. На ней было платье с чопорным высоким воротником – первое, что я увидел в слабом желтом свете, когда мы вошли в гостиную и она включила лампу.
– Я приготовлю кофе.
– Помочь?
– Нет. Садитесь, чувствуйте себя как дома.
Она вышла, и все в комнате сразу потеряло всякий смысл. Было слышно, как она звенела в кухне посудой, потом засвистел чайник. Она тут же и вернулась. Я взял у нее поднос. Мы пили кофе и молчали, ибо я чувствовал себя неловко. И ей тоже было неловко? Но ей-то почему? Я видел себя здесь посторонним человеком, прибывшим с официальным визитом.
Она допила кофе, включила проигрыватель, повернула ручку громкости.
– Еще кофе?
– Нет, благодарю вас.
Снова мурлыкали кошки. Музыка придала комнате более жилой вид, а полки с книгами защищали от окружающего нас мира.
– Когда папу выписывают, что-нибудь известно?
– Нет. Врачи, похоже, удовлетворены состоянием, но не хотят рисковать. А ему уже не терпится.
Я с облегчением ухватился за эту тему. Это давало возможность без слов говорить о самих себе и в то же время не говорить. О первом вечере в этой комнате. О той ночи в горах.
И опять какую-то минуту молчание.
– Я не отрываю вас от дел?
– Нет, – ответила она не сразу, – ничего срочного пока. В следующую пятницу еду. А пока ничего.
– Куда на этот раз?
– Кения. – Она улыбнулась. – Снова уповаю на свой британский паспорт.
– Не боитесь, что когда-нибудь попадетесь?
– Ну, как-нибудь и вывернусь.
– Слушайте, а это, должно быть, изматывает, вот так колесить вечно по белу свету, то одно, то другое, жизнь на колесах?
– Иногда изматывает. А только иначе ведь ноги протянешь.
Сам не знаю зачем сказал:
– По крайней мере вам хоть есть чем похвалиться, а я эти несколько месяцев почти безрезультатно прожил.
– Это на каких же весах вы результаты взвешиваете? – У нее потемнели глаза, в словах ее был не упрек, сочувствие. – А я думаю, мы с вами похожи. Оба обладаем удивительной способностью не осмысливать, как другие, но непременно познавать все на собственном опыте. Ведь умом-то легче?
– Возможно. Только мне иногда кажется, что, если осмыслить все до конца, с ума сойдешь… Выходит, труднее.
Было уже поздно. Теплая ночь несла ароматы ранней осени. И теперь мы не торопились искать слова и не тяготились молчанием; неловкость ушла, она растворилась во времени, как вечер в ночи. Вернулась прежняя близость душ в этой уютной комнате, где, как и прежде, стоял чуть уловимый запах трубочного табака, который курил ее отец, и запах старых книг на полках, и кошек, и истертых ковров.
Должно быть, было уже за полночь, когда я нехотя поднялся и проговорил, что мне пора.
С едва уловимой иронией:
– Ну конечно, «обязанности»?
– Нет, я один, все домашние разъехались.
Почему я раньше не рассказал ей про Сюзан? Ради самозащиты? Нет. Как бы там ни было, дальше скрытничать на этот счет не имело никакого смысла. Я и рассказал ей все. Она не произнесла ни слова, выслушала молча, и только глаза ее смотрели на меня теперь как-то по-другому. Задумчиво, почти с печалью, она поднялась из кресла и посмотрела мне прямо в лицо. Туфли она сняла, еще когда по привычке усаживалась с ногами в кресло, и теперь стояла совсем маленькая, ни дать ни взять школьница-подросток, худенькая стройная девочка; но нет, это была и зрелая, рассудительная женщина, утратившая иллюзии. Зато исполненная глубокого чувства сострадания, которое едва ли знакомо юности и уж никак не свойственно ей. Ибо юность жестока.
– Так почему бы вам не остаться? – произнесла она. Я растерялся, стараясь проникнуть в смысл сказанного. И, словно угадав мои мысли, она спокойно добавила: – Я постелю вам в комнате для гостей. Чего вы поедете среди ночи.
– С удовольствием останусь. Знаете, совсем не улыбается торчать в пустых стенах…
– Ну вот видите, я ж говорю, как мы с вами похожи, обоих только и ждут что пустые стены.
Она показала мне, куда идти, и пошла, неслышно ступая, впереди. Я помог ей постелить мне постель в пустой комнате, сам расстелил простыни на роскошной старой кровати резного дерева. И все это не обменявшись ни единым словом, в настороженном молчании.
Мы подняли глаза друг на друга, она по одну сторону этого резного чуда, я – по другую. Я еще поймал себя на том, что вместо улыбки у меня получилась какая-то вымученная гримаса.
– Ну, мне тоже пора на боковую, – сказала она и повернулась к двери.
– Мелани.
Она обернулась и молча ждала, что я скажу.
– Останьтесь.
Мне показалось было, что так оно и будет, что она скажет «да». У меня в горле пересохло. Я хотел протянуть руку к ней, но между нами была эта дурацкая постель. А она постояла и ответила:
– Нет. Зачем это? Нет.
Я понимал, что она права. Мы были так близко друг от друга. Все могло случиться. А что тогда? Что будет с нами? Как, к черту, нам справиться тогда с этим в нашем спятившем с ума мире?
Лучше как есть, пусть и безутешней. Нет, она не ступила мне навстречу, не обошла кровати, чтобы поцеловать меня, пожелать покойной ночи. Едва улыбнулась. Но эта улыбка выдавала душевное страдание. И решительно пошла к двери. Мучило ли ее сомнение? Не ждала ли она, что вот я ее окликну? Я безрассудно желал этого. Но в том, что я осмелился сделать, я и так зашел слишком далеко. Больше я рисковать не мог.
Я не знал, куда она ушла. Она ступала неслышно. Время от времени где-то в огромном доме, погруженном в темноту, поскрипывали половицы, но, может, это дерево от старости, а не потому, что там была она. Я как был, так и остался стоять у кровати, приготовленной для меня, и не помню, как долго простоял так. Я разглядывал все, каждую мелочь в комнате, словно оценщик, для которого не было ничего важнее. Узоры на старомодных обоях. Тумбочку у кровати, заваленную как попало книгами. Книжный шкафчик у стены. Туалетный столик с большим овальным зеркалом. Огромный гардероб в викторианском стиле с грудой чемоданов на нем.
Потом я подошел к окну. Шторы были не закрыты, одна створка окна была отворена. Постоял, вглядываясь в сад. Когда глаза привыкли к темноте, разглядел траву и деревья. В темноте ночи еще плыли ароматы нагретой за день земли, и неподвижную ее тишину будили лишь сверчки и лягушки.
И меня поразило, каким безмятежно мирным, оказывается, может быть отчаяние. Ибо ведь ее отказ и то, как она отвернулась от меня, не оставляло сомнений, что на чем-то окончательно поставлен крест. Я тешил себя надеждами, пусть нелепыми и самонадеянными, и вот все это мягко и безмятежно спокойно закрывается, точно дверь перед носом захлопнули. Как просто.
А потом она пришла. Повернул голову и увидел ее так близко от себя, что мог дотронуться до нее. Она пришла. Я смотрел на нее и не верил глазам, уставился и смотрел в совершенном молчании. Она и сама была в явном замешательстве и не знала, наверное, как я восприму этот ее поступок. Но она стояла молча и не думала уходить. Не могла же она не знать, что я оказался вынужденным глядеть на нее, как в то самое зеркало, о котором она тогда говорила. Посмотрите на себя, на свою природу, нагую как есть, на лицо, на тело, что каждый день видите в зеркале. В том-то и дело, что смотрели, но не видели. Никогда по-настоящему не видели. А тут вдруг точно глаза открылись…
Все те мгновения, что были у нас, теперь слились в одно это мгновение. Делить по порядку и степени важности, что было, утратило смысл. Мы были теперь вне времени, оно скользнуло и легло у наших ног, подобно никому не нужным одеждам.
Искренность ее тела. Оно захватило собой все, и, кроме него, ничего не было. Да что я, нелепо и пытаться выразить это словами, жалкие до обидного попытки. Но молчать – все равно что отречься.
Нет, не то. Что проку искать слова, если ими не передать и того, что доступно взгляду? Она же, по сути, сказала: вот, бери. Что большее способны мы даровать?
Вот что значат те ее слова, сказанные тогда еще, накануне всего: однажды в жизни, но только однажды, во что-то поверишь настолько, что всем на свете готов ради этого рисковать…
Мы не укрылись простыней. Она даже не сказала, чтобы я выключил свет. Нам не нужны были загадки. Новизна неизведанного, как рождение. Ибо рождаемся мы однажды. Я вдыхал аромат ее волос, уткнувшись в них лицом, и ловил их губами, и искал губами ее тепло, и она отдавала мне его прикосновениями, негу и сокровенное тепло своего дара. У каждого своя бездна, но вот мы с ней смешались на краю бездны, теперь одной для двоих, и вот оно открылось нам, чудо и таинство плоти, когда ее голос звучал в ушах моих, а ее дыхание было у меня на груди, где сердце.
Но и это не то. Совсем не в том дело. Что я осознал, как теперь могу понять, – это что мне было дано чувствовать, и видеть, и ощущать, и слышать, и обонять, ибо таковы пять чувств, и только тогда человеку дано чувствовать. И это не все. Господи, да не в том же дело, чтобы разложить все по порядку в отчаянных попытках доискаться, что же произошло. В чем-то еще, в чем-то совсем другом. Мне хотелось, чтобы годы и годы вместились в одну эту ночь, я же стал бы тем, что она, и все пять чувств моих исполнились ее чувствами, и так раствориться в ней без остатка. И чтобы вырваться из этих чувств и погрузиться в темноту небытия, в ту любовь, когда бы наша страсть была единственно праздником торжества и знаком его.
И, утолив жажду, я почувствовал безмятежный покой. Я смотрел на нее, и она внушала покой и благоговение; я дотрагивался до нее – полно, она ли это? – и осторожно гладил ее, едва касаясь пальцами, и все равно не верил своим глазам, своим рукам. Сама мысль о том, чтобы закрыть глаза, когда можно вот так смотреть и смотреть на нее, казалась нелепой. Я не смыкал глаз и хранил это видение, впитывая каждый миг этой короткой нежности, случайно и неправдоподобно дарованной нам.
Счастье? Это была одна из самых грустных ночей в моей жизни, ночь вечной печали, вот так незаметно вкравшейся в святая святых этого нового для меня мира и постепенно перераставшей в боль и муку. Вот она спит рядом, и нет ближе мне человека на свете, открытая и доверчивая. Открыть для себя неизведанное; и вместе с тем в этом своем глубоком сне – дальше самой далекой звезды, недостижимая, навсегда чужая. Я знал ее глаза и то, что укрыто от глаз, спокойную и в порыве чувства, каждую клеточку ее легкого и нежного тела. И ничего все это, ровным счетом ничего не значило. И во сне, улыбаясь и всхлипывая или безмятежно дыша, она была так далеко от меня, точно никогда мы с ней вообще не встречались. Мне хотелось кричать. Но боль была оглушающей, такую не выплачешь слезами.
Так я лежал почти до рассвета, потом задремал. А когда проснулся, солнце уже поднялось и в саду стоял птичий гомон. На тумбочке у кровати зачем-то горела лампа, вялое и ненужное желтое пятно среди буйных красок утра. А разбудило меня движение ее руки: она доверчиво обняла меня за плечо, совсем как я, чуть касаясь, пытался удержать ее всю эту ночь, пока она спала в далеком от меня далеке. Спешить некуда, было воскресенье, и ничего от нас не требовалось, ни одной живой душе мы не были нужны, но единственно друг другу…
Ибо одно я знаю, но уж это безусловно – тогда еще знал в этом свете нашего ночника, так храбро пытавшегося устоять и не сдаться перед безжалостным ослепительным светом дня вокруг, – что мы любим друг друга, но ни один из нас не сможет спасти другого, этого не дано. И что за этим порывом друг к другу последует отмщение. Наши имена будут связаны, теперь же это будет связь в определенном смысле, и еще месяцы, а то и годы нам полной мерой отмерят всего, что общество имеет в виду, говоря об интрижке, о шокирующей и пагубной страсти. И до конца дней не избавят меня от печали, что никогда и не снилась.
Три недели спустя Сюзан вернулась из Кейптауна. Не прежняя Сюзан, нет, но все же заметно успокоившаяся; она приехала более собранная, с какой-то даже определенной решимостью еще раз попытаться сохранить что осталось.
Через два дня после ее приезда, в четверг тридцатого марта, Бен обнаружил, придя домой с работы, в почтовом ящике большой конверт. Плотная коричневая бумага. Адресовано Сюзан. Он захватил вместе с остальной почтой. В конверте оказалась фотография, просто фото, без всякого сопроводительного письма. Обычная глянцевая бумага восемь на десять. Не очень профессиональный снимок, слегка размыто изображение. Так бывает при недостаточном освещении. Задний план явно не в фокусе, пошел зерном, но просматривается даже рисунок на обоях, тумбочка у кровати и сама постель, в беспорядке, со сбившимися простынями. Мужчина и девушка, нагие, сняты в скандальной позе.
Сюзан, едва взглянув, собиралась уже с отвращением порвать ее, когда что-то заставило вдруг присмотреться. Девушка с черными длинными волосами, нет, она видит ее в первый раз. Но мужчина… Это был ее Бен. Бен Дютуа.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ [18]18
Так в печатном издании: первые три Части, четвёртая Глава. (Прим. Verdi1)
[Закрыть]
1
Он открыл калитку, на веранде стоял капитан Штольц. Все эти месяцы знал ведь, что они не оставят его в покое, что все равно придут, когда – вопрос времени. Тем более после истории с фотографией, полученной по почте. И тем не менее не то что Штольцу, любому с первого взгляда стало бы ясно, какое это произвело на него впечатление. Шок, вот что он испытал. Это было третьего апреля. Мелани как раз на следующий день должна была вернуться из Кении. Офицер был один. Одно это было уже многозначительно.
– Поговорим?
Не окажись Бен так растерян, он под любым предлогом предпочел бы уклониться от разговора и не пускать его на порог. А тут он машинально посторонился, давая пройти этому сухому и костистому человеку в его неизменной спортивной куртке. А может, он просто испытал бессознательное облегчение от того, что наконец он снова видит противника во плоти и крови, нечто осязаемое, имеющее вид, форму, с чем можно схватиться. На худой конец и вправду хоть поговорить, несмотря на всю ненависть к нему.
Штольц оказался, по крайней мере поначалу, не в пример прошлому, настроенным чуть ли не благожелательно. Справился о здоровье, как супруга, как дела в школе?
Тут Бен осадил его и с колкостью выразился в том смысле, что нечего, мол, валять дурака:
– Полагаю, капитан, не затем вы здесь, чтобы справляться о моей семье.
У того ну просто злорадной радостью блеснули глаза, словно только и ждал этой вспышки.
– Но почему же?
– У меня не сложилось впечатления, будто вы очень уж озабочены моим семейным благополучием.
– Господин Дютуа, я сегодня прибыл сюда потому… – он сел, вытянулся, скрестив длинные ноги, – …потому что уверен, мы все-таки найдем общий язык.
– В самом деле?
– А вы разве не находите, что со всем этим давно пора кончать?
– И здесь решать вашему брату, я не в счет?
– Давайте-ка начистоту: ну скажите, вот все эти свидетельства-доказательства, в которых вы копаетесь в связи с Гордоном Нгубене. Ну и что, приблизили они вас хоть на шаг к этой вашей истине, которой вы доискиваетесь?
– Думаю, да.
Пауза, а потом:
– Знаете, я вправду рассчитывал, что мы сможем поговорить по-человечески.
– Не думаю, что это у нас получится, капитан, тем более теперь. С кем угодно, только не с вами.
– Жаль. – Штольц переменил позу, готовый встать и уйти. – В самом деле жаль. У вас курят?
Бен показал рукой на пепельницу.
– Ведь не очень-то у вас все вырисовывается, как хотелось бы, ведь правда? – заметил Штольц, затягиваясь сигаретой.
– Как посмотреть.
– Ну, если не закрывать глаза на определенные вещи, имевшие место. Между прочим, стань они известными, вам ведь туго придется, очень даже. А?
Бен напрягся, до боли стиснул зубы, но выдержал этот взгляд и, глядя Штольцу прямо в глаза, спросил:
– Какие вещи? Не понимаю.
– Слушайте-ка, – сказал тогда Штольц, – но только это между нами. Все мы живые люди, у всякого свои слабости. Ну, забил себе человек в голову таскать клубничку с чужой грядки, ради бога, его святое дело. Было бы все, как говорится, шито-крыто. Непременное условие. А то, согласитесь, ближнему может ведь и не понравиться, и тогда хлопот не оберешься. Ведь правда? Ну а особенно, если еще человек на виду, скажем там, учитель…
В наступившем молчании, которое, казалось, никогда не кончится, они мерили друг друга взглядами.
– Не понимаю, чего вы темните, – выговорил наконец Бен и, чтобы чем-то занять руки, машинально потянулся за трубкой.
– Господин Дютуа, то, что я вам скажу, уж совсем строго конфиденциально, – Штольц подождал, как Бен на это отреагирует, но тот только пожал плечами. – Полагаю, вам известно о некоей фотографии, которая ходит сейчас по городу и определенно может причинить вам неудобства? – сказал Штольц. – Так вот, волею обстоятельств и мне довелось подержать ее в руках.
– А меня это не удивляет, капитан. Как же без ваших рук обойтись, если вашими стараниями она и сработана. Разве нет?
Штольц неодобрительно расхохотался.
– Это же несерьезно, – проговорил он. – Ну признайтесь, господин Дютуа, что вы пошутили. Нет, в самом деле, точно у нас других забот не хватает.
– Вот и меня это удивляет. Подумать ведь, сколько человеческих усилий, сколько денег, времени, наконец, вы тратите на мою скромную персону. Казалось бы, вас должны занимать проблемы куда масштабней и, уж конечно, серьезней.
– Рад слышать это от вас. За этим я и приехал, с дружеским, так сказать, визитом. – Он как бы подчеркнул это последнее и помолчал, следя за дымком своей сигареты. – А то, понимаете, еще этой чепухи не хватало. Вот я и подумал, что мой долг рассказать вам.
– Почему же это?
– Потому, что не желаю видеть, как гибнет в общем вполне приличный человек.
Бен натянуто улыбнулся.
– Позволю себе сформулировать мотив вашего визита: если мы «находим общий язык», как вы выразились, если я перестаю обременять вас и тем более таить угрозу для вас, эти фотографии тихо-мирно исчезают. Так? И не ходят больше по рукам. Так?
– Ну, не дословно. Давайте просто скажем: это дает мне возможность использовать свое влияние, чтобы этот ваш неблагоразумный поступок наверняка не был использован против вас.
– А в обмен я должен заткнуться?
– Ну в самом деле, пусть усопшие покоятся с миром. Какой смысл продолжать тратить время и силы, как вы это делаете? Ну на что вы убили год жизни?
– А если я откажусь?
Штольц неторопливо затянулся, медленно выдохнул дымок.
– Я не настаиваю, господин Дютуа. Но все-таки подумайте.
Бен поднялся.
– Меня не удастся шантажировать, капитан. Даже вам.
Штольц не шелохнулся, продолжал сидеть, развалившись на стуле.
– А вы не спешите, не надо. Я вам даю шанс.
– Вы хотите сказать последний шанс?
– Кто знает.
– Я еще не доискался всей правды, капитан, – тихо сказал Бен. – Но картина вырисовывается. Нешуточная, поверьте. И я не позволю никому и ничему вставать у меня на пути.
Штольц неторопливо потянулся к пепельнице, тщательно затушил окурок.
– Это ваше последнее слово?
– Ну скажите, ведь ничего другого вы и не ожидали услышать?
– Как знать. – Штольц посмотрел ему прямо в глаза. – Вы уверены, что отдаете себе отчет, на что вы себя обрекаете? А ведь эти люди, неважно кто, ох как могут устроить вам желтую жизнь…
– Что ж, это останется у них на совести. Я верю, вы так и передадите им, капитан. Ведь есть у них хоть остатки совести?
Казалось, лицо офицера покрылось чуть заметной краской стыда, отчего еще явственней проступил шрам, прорезавший наискосок щеку.
– Ну-с, на том тогда и кончим. До свидания.
Бен не подал ему в ответ руки, попросту молча проводил до двери кабинета и захлопнул ее за ним. Больше не было сказано ни слова.
И что его поразило, так это открытие, что у него нет даже ненависти к этому человеку. На какое-то мгновение ему было почти жаль его. И только. Ты такой же невольник, как и я. С той разницей, что не знаешь этого…
В аэропорту, куда Бен поехал на следующий день встречать Мелани, ее и следа не оказалось. Стюардесса, к которой он обратился, нажала кнопки компьютера и подтвердила, что да, фамилия Брувер значится в списке пассажиров. Результатом же ее дальнейших поисков явилось неожиданное появление перед Беном служащего в форме, который сообщил, что стюардесса, увы, ошиблась. Особы с такой фамилией на борту самолета из Найроби не значилось.
Профессор Брувер принял это известие с удивительным спокойствием; Бен навестил его в больнице в тот же вечер. Никаких причин для беспокойства, сказал он. Мелани может передумать и перерешить что угодно в самую последнюю минуту, это за ней водится. Возможно, подвернулось что-нибудь интересное для газеты. Через день-другой преспокойно вернется. Его просто позабавило, как Бен тревожится, не более того.
На следующий день телеграмма из Лондона: «Добралась благополучно. Не беспокойся. Позвоню. Люблю. Мелани».
Звонок раздался около полуночи. Слышимость из рук вон, ослабленный расстоянием голос еле разобрать, чужой до неузнаваемости.
Бен через плечо глянул на дверь комнаты Сюзан.
– Что случилось? Где ты, Мелани?
– В Лондоне.
– Но ради бога, как ты туда попала?
– А ты встречал меня в аэропорту?
– Конечно. Что с тобой приключилось?
– Они не захотели меня пропустить.
Какое-то мгновение он просто остолбенело молчал. Потом переспросил:
– То есть ты тоже была там? В аэропорту?
Далекий смех. Ему показалось нервный.
– Конечно, а как же.
Наконец до него дошло.
– Паспорт?
– Ага. Нежелательный элемент. Иммигрант. Немедленно выслана.
– Но ты же не иммигрант. Ты такая же южноафриканская подданная, как и я.
– Была. Лишение гражданства, слышал?
– Поверить не могу. – У него вконец все перемешалось в голове от этой невероятной мысли, что она никогда не вернется.
– Ты не можешь сообщить папе? Но только как-нибудь деликатно. Я не хочу расстраивать его в его состоянии.
– Мелани, могу я чем-нибудь…
– Не сейчас. – Незнакомое, такое чуждое ей, усталое смирение в голосе. Точно уже примирилась и сдалась. Может быть, просто не хотела давать волю чувствам. Тем более в разговоре по телефону. – Только присмотри за папой, Бен. Пожалуйста.
– Не беспокойся.
– Потом мы что-нибудь придумаем. Может быть. У меня не было пока времени думать.
– Где, как я могу с тобой связаться?
– Через газету, Бен, я дам тебе знать. Может, мы что-нибудь придумаем. Сейчас такая путаница в голове.
– Но боже мой, Мелани…
– Не надо сейчас, Бен. – Безмерность расстояния между ними. Моря, континенты. – Все образуется… – На какой-то момент линию словно отключили.
– Мелани, ты меня слышишь?
– Да-да, слышу, – прорвался ее голос. – Я слушаю.
– Скажи мне, ради бога…
– Я с ног валюсь, Бен. Две ночи не спала. Сейчас в голову ничего не идет.
– Но могу я завтра тебе куда-нибудь позвонить?
– Я напишу.
– Обязательно, прошу тебя.
– Береги себя. И расскажи папе. – Сдавленным прерывающимся голосом, едва не с раздражением. Или это просто от расстояния?
– Мелани, ты абсолютно уверена?..
Телефон молчал.
Через десять минут снова звонок. Но теперь на другом конце провода молчали. А затем мужской голос хмыкнул кудахтающим смехом, и там положили трубку.







