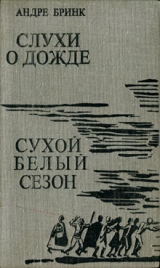
Текст книги "Сухой белый сезон"
Автор книги: Андре Бринк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц)
– И больше вы не видели Гордона? – настойчиво продолжал Бен.
– Когда они отправляли тело в морг.
– Когда это было? Точно.
– На следующий день.
– Джонсон, вы действительно не знаете, что было ночью, накануне?
– Откуда мне знать? Я от таких вещей держусь подальше.
– Почему ж вы в таком случае вообще не уходите из полиции? – резко бросил ему Бен. – Ведь вы им чужой?!
– Еще чего?! А семья? Я люблю свою семью.
И когда они ушли, этот нервный молодой человек и Эмили, заполнившая собой едва не всю комнату, Бен накоротке все записал.
На следующее утро, средь белого дня, его кабинет открыли отмычкой и обшарили самым дотошным образом, пока он сам был в школе, а Сюзан ездила за покупками. Ничего не взяли, только книги на полках переворошили, а содержимое ящиков письменного стола вывалили на пол и еще вспороли чем-то острым подушки на стульях и не удосужились даже зашить.
– А я что говорю, – негодующе прокомментировала Сюзан, – невесть уж сколько времени, что, если не прекратится эта бессмысленная возня, это вечное обшаривание дома, если ты не положишь этому конец, произойдет самое что ни на есть решительное. И это будет только по твоей собственной вине. Надо же, Бен, смотреть на вещи открытыми глазами! Ты что, делаешь вид, что ничего не замечаешь?
Он не отвечал. Подождал, пока она примет успокаивающую таблетку, и, когда легла после этого, заспешил в гараж. Нет, ящик с инструментами стоял на месте, не тронули.
6 сентября.Вчера вечером она отбыла в Родезию, летит через Малави. По крайней мере такова официальная версия. На самом-то деле в Лусаку, конечно. Для этого ей и потребовался ее британский паспорт. Я пытался было предостеречь, чем это грозит. Она только отмахнулась, плечами повела: «О господи, да это единственное, чем меня маменька облагодетельствовала. Так уж пусть послужит во благо». Когда в прошлом месяце кончился срок действия ее южноафриканского паспорта, она тревожилась, что его не продлят. В конце концов все обошлось благополучно, попросту зацепиться было не за что. Вспоминаю прошлую пятницу. С хохотом показывала мне какую-то новую фотографию. Ужасно, так она говорила. А мне даже понравилась. Она подарила мне ее на память.
Господи, ну точь-в-точь как девочка и мальчик в школе: дарю фото, помни оригинал. Да каких-то десять дней и всего-то разлуки, увещевала она. А на меня навалилась неведомая дотоле пустота, точно оставили одного без всякой защиты.
Через неделю еще новость, на этот раз результат ее контактов на Й. Форстер-сквер. Служитель, разносивший ужин заключенным, третьего февраля получил инструкцию, что отныне в камеру Гордона Нгубене допускаются лишь белые надзиратели. Это было именно в тот день, когда Гордон жаловался на «головные боли» и на зубную боль. Наутро как раз и появился доктор Герцог, окружной хирург.
И что еще более важно: когда тюремные надзиратели, и этот служитель среди них, вечером двадцать четвертого февраля пошли заступать на смену в блоке, где находились камеры заключенных, он видел у двери Гордона какого-то человека. Один из его черных коллег сказал ему: «Там больной, у него врач».
Таким образом, мои подозрения подтверждаются. Д-р Герцог знает больше, чем склонен рассказывать. Но кто вытянет из него остальное?
Сегодня, оставшись неожиданно в полном одиночестве, я от нечего делать заехал к Филу Бруверу. Застал его играющим на фортепьяно. По-прежнему такой вид, точно спал не раздеваясь. Застоявшийся запах спиртного и табака, в комнате не продохнуть. Откровенно обрадовался мне. Холод, как на улице. Играли в шахматы у камина. Раскуривает трубку длинными хворостинами. Полная жестянка хворостин, целый букет, специально для этой цели заготовленных.
– Что скажет Следопыт? – В бойких темно-карих глазах под нависшими кустистыми бровями играли смешинки. – Может, благостями разума своего одарит?
– Подвигаемся помаленьку, профессор. Полагаю, Мелани рассказала вам, что она выведала у этого надзирателя.
– М-м. Не сыграть ли нам партию в шахматы? А? Не возражаете?
Долго играли молча, словом не обменялись. Просто удивительно: я не чувствовал себя одиноким. Здесь же, на коврике у огня, дремали кошки. Какая-то цельность, вот именно, другим словом не передать впечатление от этого моего состояния. Законченное целое, не в пример той головоломке, картинке-загадке, что я складываю всю жизнь из мелких кусочков.
Вот я все никак не мог ухватить суть, а найдя слово, произнес, и тут же все стало на свои места. Цельность. Я-то просто не замечал изнанки этого бытия, подобно подкладке на собственном пиджаке.
– Знаете, что меня действительно пугает, профессор? – Только тут он бросил на меня взгляд сквозь клубы дыма от трубки и ждал, что я скажу. – Вот мы собираем по крупицам истину, стараемся. Порой кажется, все, стоп машина. А смотришь, нет, ведь дело все-таки развивается… Но предположим, в один прекрасный день картина готова, мы узнаем все, что с ним случилось, все до последней мелочи. И что же, все это ради того, чтобы до мельчайших деталей восстановить конец человека, о жизни которого тебе по-прежнему ровным счетом ничего не известно?
– Не многого ли вы хотите? – спросил он. – А что вообще человеку дано знать о себе подобном? Живут двое, любят друг друга, и даже они, что они знают друг о друге? Я много думал об этом, знаете ли… Моя жена. Наш брак. Ладно, я был много старше ее, и, положим, если разобраться, – (в сумрачном раздумье), – этот брак с самого начала был обречен. Но я-то полагал, тогда по крайней мере, что мы знали друг друга. Я был абсолютно в этом уверен. Пока она не собрала вещи и не ушла. Тогда только мне впервые в голову пришло, что я в своем существовании чуть не все двадцать четыре часа в сутки жил рядом с человеком, о котором ничего не знал. А возьмите концлагерь в Германии. Сколько нас там было, каждой крохой делились – это ли не истинная близость человеческая? И вдруг самый незначительный пустяк, и вы обнаруживаете, что по сути-то вы чужие люди, каждый сам по себе, безнадежно одинокие, одни в целом мире. Вы сами по себе, Бен, и ведете свой диалог с миром. Всегда. Так всегда.
– Может быть, это от природы человеческой – брать, – возразил я, он меня не убедил. – А потом, что касается Гордона, вот уж где, простите, я действительно только даю. И это не пассивное какое-то отношение, он действительно стал частью моего существования в полном смысле слова, он заполняет все мои мысли. Но вот все будет сказано и все будет сделано. И что я получу? Факты? Да, факты, подробности. А что они, собственно, расскажут мне о нем, об этом человеке, этом Гордоне Нгубене, который должен ведь существовать помимо этих подробностей? А возьмите всех этих людей, что толпами стекаются ко мне за помощью. Что я о них знаю? Нам даны речь, слух, осязание – и все это, чтобы оставаться этакими пришельцами из разных миров? Как бывает, мелькнет лицо в вагоне встречного поезда, человек прокричал тебе что-то и ты ему в ответ, но это лишь слуховое ощущение, звук пустой. Что, о чем? Нет ответа, и лишено смысла.
– Все-таки прокричал, – сказал профессор.
– Слабое утешение.
– Кто знает. – Он пошел слоном. – Большинство людей любят вздремнуть в дороге или читают, что им за дело до встречных поездов и чужого крика.
– Иногда я готов им завидовать.
У него в глазах мелькнула злая усмешка.
– Дело вкуса, – сказал он. – И выбора. Вас ведь тоже никто не принуждал обременять себя вопросами, не так ли? Единственное, что от вас требуется, – это принять, что произошло, как данное.
– И что, каждый свободен выбирать? Или, может быть, это нас выбирают?
– А что, большая разница? Адам и Ева сами выбрали вкусить яблоко с древа познания? Или дьявол за них выбрал? А может, господь бог с самого начала предупредил, что да будет так, и было по воле его? То есть по логике он ведь как рассуждал: ну будет эта яблоня похожа на все остальные деревца в моих кущах, они, чего доброго, на нее и внимания не обратят; налагая же свой запрет на плоды с древа сего, он, уж будьте любезны, с полной уверенностью знал, что они на остальные фрукты и смотреть не станут. А то как же, лег бы он преспокойно себе почивать в день седьмой? Заведомо все знал. А вы говорите – выбор.
– Допустим. По крайней мере они знали, что делают, Адам и Ева.
– А вы?
– Одно время, казалось, знал. Был даже убежден, что иду с открытыми глазами. Об одном не подумал, что ни к чему они, открытые глаза, коли вокруг тьма кромешная.
Брувер ничего не ответил, подхватился вдруг, точно его озарила идея, взял лесенку и полез доставать с верхней полки какую-то книгу.
– Вам лучше знать, это ваш предмет. Я в этих делах профан, – бросил он с лесенки, через плечо, занятый поиском. – Но согласитесь, что смысл, истинный смысл эпох, ну таких, как эпоха Перикла, например, или Медичи, основан на одном простом факте, а именно что целое общество, по сути вся цивилизация, движется на одной скорости и в одном направлении. В такую эпоху, эру, если угодно, субъекту нет почти никакой необходимости устраивать жизнь собственным разумом. Разум здесь формировался обществом, у индивидуума же с ним никаких противоречий, но, напротив, полная гармония. И с другой стороны, времена вроде тех, в которое мы с вами живем, когда история еще не определила свой новый устойчивый курс. Здесь каждый сам по себе. Всякий вынужден искать и формировать собственные дефиниции. Результат? Терроризм. И я, заметьте, имею в виду не только акции набивших на этом руку одиночек, нет, но организованные, на уровне государства, институты которого ставят под угрозу самое существование рода человеческого. А, вот она. – Он наконец нашел, что искал. – Вот, извольте-с. – Спустился и протянул мне томик. Мерло-Понти [16]16
Мерло-Понти, Морис (1908–1961) – французский философ-идеалист, представитель феноменологии.
[Закрыть]. – К сожалению, по-французски, на котором вы не читаете. – Он огорчился, но я обещал ему, что постараюсь разыскать книгу на английском и непременно прочту.
И вечное, день за днем, нагнетаемое беспокойное чувство, что за тобой следят. Идешь за покупками в супермаркет субботним утром, и в толпе ненароком замечаешь вдруг знакомый спортивный пиджак: да это же лейтенант Вентер отвечает кому-то сияющей улыбкой; или мелькнет Восло, человек мрачный и нескладный, или Кох, высокий стройный атлет с кистями баскетболиста.
Мелькнут в толпе и исчезнут, чаще всего именно так. И поди ломай себе голову. Полно, может быть, это просто показалось. Может, это говорит расстроенное воображение. Может быть. И вот человек ловит себя на том, что они везде, даже в церкви. Это и есть нужное им состояние. Докучливый сыск, вызывающий всеизничтожающую паранойю.
Или письма. Он вынимал их из почтового ящика в аккуратно надрезанных конвертах, точно некто, кто бы он ни был, вскрывавший их, не удосуживался даже дать себе труда подумать о том, что ведь они пойдут дальше, к адресату, – если, конечно, это не делалось преднамеренно, чтобы определенно дать понять: вашу почту кто-то читает. Ведь там не было ничего важного, ни разу. Да и кто мог писать ему что-либо угрожающее безопасности государства? А досаждало самое сознание, как в тот день, когда они выстукивали у него в кабинете шахматную доску, вывалив фигуры на пол, и искали потайное дно в вазе, что ни на какую неприкосновенность собственности он не может даже рассчитывать; нет для них ничего святого и неприкосновенного. Понятия нет такого. «Живу как рыба в аквариуме, – так было написано его почерком на странице, вырванной из учебника, – когда каждое твое движение под испытующим взглядом чьих-то пристальных глаз, отмечающих все и вся. Рыба дышит жабрами? А вот мы тебя за жабры».
А еще (датировано 14 сентября),«только оказавшись – и вполне осознав это – под докучливым сыском чужих глаз, начинаешь по-другому смотреть на себя. Начинаешь смотреть на вещи трезво, понимать подлинную цену непреходящим ценностям и отметать ложное. Поистине, не было бы счастья… несчастье же учит самоочищению; избавь себя от всего наносного, учит оно, и меньше полагайся на собственную силу либо своемыслие, не они украшают, но добродетель. Только она единственно вседозволена… Они могут ворваться в любую минуту дня и ночи. Даже когда ты спишь, не спит их недремлющее око. И что прошел день и еще день, час и еще час, а ты можешь сказать себе; вот еще день, вот еще час отпущен мне, – само по себе это становится столь непостижимым, что начинаешь воздавать богу хвалу не заученно, но поистине. Не то же ли чувствует прокаженный, когда один за другим отпадают члены его? Или больной раком, чьи дни сочтены? Вот он сухой белый сезон. Белая книга смерти».
Но это редкая запись, редкая попытка позитивного мышления. Большая же часть заметок Бена Дютуа за эти месяцы говорит о депрессии, озабоченности, тревоге, чувстве неопределенности. Напряженная обстановка дома, эти вечные трения с Сюзан, ссоры с Сюзеттой, так что раскалялся телефон. Размолвки на работе.
Можно было бы отнести это за счет эпизодов с мелким шантажом, слежкой, этими пусть булавочными, но постоянными уколами самолюбию человека. С этим можно было бы с отвращением, с тягостью мириться; но нет, было и другое. Например, утром ему намалевали на дверях серп и молот; на следующий день он выходит из школы, идет к машине, и все четыре покрышки исполосованы в клочья; анонимные звонки, чаще всего в два-три часа ночи. А чего, кроме тревоги, обескураживающей теперь уже вконец, стоили истерики Сюзан, у которой нервы сдали куда раньше, а ее вспышки неизменно кончались одним: что с нее хватит и подите вы на все четыре стороны.
Ну и к чему он уж совсем не был подготовлен, так это натолкнуться в своем собственном классе на явную глупость. Вот уж подлинно чушь так чушь, а они вывели ее печатными буквами на классной доске. И еще эти подавленные смешки. Как, кто там знает, а только это тут же стало известно в учительской, и тут же, в присутствии всего коллектива, Клуте, сам г-н директор Кос Клуте, не преминул заметить с уничтожающей иронией: «Позвольте, как учитель может рассчитывать, дабы ловили каждое его слово, если собственная его репутация отнюдь не вне всяких сомнений?»
18 сентября.Йоханн пришел из школы в ужасном виде. Рубаха порвана, синяк под глазом, губы распухли. Поначалу вообще отказался разговаривать. С трудом удалось все-таки вытянуть из него, что произошло. Ну, компания из выпускного класса. Которую неделю его изводили насмешками, вот твой, мол, папаша, любимец всех ниггеров. А сегодня он не выдержал. Ну и что, что рубаха, подумаешь, задели, синяк поставили, а им-то сколько синяков досталось. Самое страшное, всю эту стычку видел учитель, однако прошел мимо, словно это его не касалось.
Но меня не запугаешь, твердит Йоханн.
– Слушай, па, если они завтра снова пристанут, я из них не знаю что сделаю.
– И чего же ради, Йоханн?
– Пусть больше не трогают тебя, вот чего ради!
– Меня?! Меня это и так не трогает.
Йоханн говорил с трудом, я же видел, у него были разбиты губы, а только гнев душил его, и он выпалил:
– Я же пытался выяснить, чего они от тебя хотят, так они и слушать не стали. Они, получается, и знать не знают, чего ты добиваешься…
– Ты в этом уверен? – Я вынужден был задать ему этот вопрос, как ни жестоко это было с моей стороны, тем более по отношению к сыну.
Он повернулся, но так, чтобы я не видел его подбитого глаза.
– А я все знаю, – ответил он мне запальчиво. – А стыдиться тебя стану не раньше, чем ты сам сдрейфишь. Понятно?
Похоже, и сам испугался того, что вырвалось. Может, это я виноват, не надо было вызывать его на откровенность. Мне хотелось сказать ему спасибо, моему мальчику, но я промолчал, щадя его самолюбие. Остаток пути домой мы просидели, глядя прямо перед собой на дорогу. Но в тот единственный и неповторимый, в тот чудесный момент я понял: нет, все-таки стоило, хотя бы ради того, чтобы услышать эти слова от собственного сына, все это делать.
Он повернулся ко мне, только когда я остановил машину у дома, и подмигнул здоровым глазом.
– Знаешь, лучше не говорить маме правду, а? Ее это только расстроит.
И уж совсем другой силы удар ожидал Бена, когда он заехал в контору Д. Левинсона проконсультироваться по делу одного из очередных просителей. Д. Левинсон, как всегда, был резок до бесцеремонности, мог оборвать на полуслове. Не в этом дело. У Бена ноги подкосились, когда он увидел, что его ждут здесь и эти двое, адвокаты сторон по делу Гордона Нгубене: де Виллирс, тот, что выступал по иску, от семьи покойного, и Лоув, адвокат полиции.
– Вы знакомы? – бросил Д. Левинсон.
– Конечно. – Бен от души приветствовал де Виллирса, хмуро кивнул Лоуву. Этот последний встретил его на удивление радушно, едва не сердечно. И затем все трое еще с четверть часа самым дружеским образом болтали и обменивались шутками, прежде чем попрощаться.
– Вот уж не думал встретить у вас этого Лоува, – заметил Бен. Он чувствовал себя не в своей тарелке.
– Это почему же? Мы старые знакомые.
– Но… Помилуйте, после дела Гордона…
Левинсон усмехнулся, этак по-свойски потрепал его по плечу.
– Боже правый. Друг мой любезный, да мы же все профессионалы, один цех. Служба службой, как говорится, но не откажете же вы нам в простом человеческом общении. Ну-с, что у нас сегодня? Кстати, вы мой последний счет получили?
6
В начале октября нескольких сослуживцев Бена, четверых по крайней мере, вызывали на Й. Форстер-сквер. Расспрашивали о нем. Как давно они с ним знакомы, что им известно о его политических убеждениях, деятельности, круге интересов, его связях с неким Гордоном Нгубене, знают ли они о его «регулярных» поездках в Соуэто, не случалось ли им бывать у него дома, и, если да, не встречали ли они там небелых, и т. д.
Первым примчался доложить об этом Вивирс. Молодой человек буквально пылал от возбуждения и взахлеб пересказывал все подробности.
– Но я им прямо выложил, поверьте, что они попросту теряют время, оом Бен, – вот что я им сказал, – А то, что они от меня там услышали, так я полагаю, им это и так доподлинно от вас известно. Не тревожьтесь…
– Я вам признателен, Вивирс. Но…
Молодой человек был слишком возбужден, чтобы слушать.
– Нет-нет, вы только подумайте, они заинтересовались и мною тоже! Не связан ли я с вами? Что мне известно об АНК и так далее. А в конце все такие ласковые стали и по-отечески принялись меня убеждать, что вот, мол, господин Вивирс, вы происходите из добропорядочной семьи стопроцентных африканеров и мы ценим, как вы строго смотрите на вещи. И что, мол, конечно же, мы живем в свободной стране и каждый может высказывать собственные взгляды, это понятно. Но при этом вам одно надо себе уяснить: именно за такими вот, как вы, и охотятся эти коммунисты. Вы и понятия не имеете, как легко попасть им в лапы, вы и опомниться не успеете, как окажется, что в одну дуду с ними дудите.
– Прошу прощения, Вивирс, – сказал Бен, – но, право же, я не хотел доставлять вам столько хлопот.
– Что за церемонии? И почему вы должны просить прощения? Если они воображают, будто могут запугать меня, то, знаете ли, они глубоко ошибаются. – И с самодовольной улыбкой: – Скажите спасибо, что они еще именно меня вызвали. А то другие могли бы о вас черт-те чего наговорить, сами понимаете. Уж я-то их знаю.
Вскоре стало, конечно же, очевидным, что вызывали не одного Вивирса. И у Бена, увы, стало привычкой выслушивать отчеты коллег о доверительных беседах, что велись «где-то там» на его счет. Однако спокойствие духа было нарушено не этим. Очевидная организованность, с какой его сослуживцы являлись к нему, – не дурак же он, чтобы не понять, откуда ветер дует, – короче говоря, вся искусственность ситуации, осознание того, что все это подстроено с одной-единственной целью – довести, и по возможности в заданное кем-то время, до его сознания: о нем расспрашивают, допрашивают даже людей! – это и должно было разбередить сознание. Так и было. Не то чтобы его беспокоила мысль, а вдруг они, его коллеги, выдадут, вольно или невольно, нечто роковое для него. Отнюдь. Ему нечего было скрывать. Его приводило в смятение лишь сознание собственной беспомощности, то, что он решительно ничего не мог предпринять в ответ.
Остальные, впрочем, не в пример Вивирсу, восприняли эти допросы по-разному. Конечно, для веселого, общительного Карелсе, при его беззаботном отношении к жизни вообще и деталям существования в частности, все это явилось не более чем очередной шуткой, колоссальным событием. Он только и знал теперь, что горланить на этот счет в учительской, благо не на одну неделю хватало запаса пусть грубого, неумного, но беззлобного, в общем, юмора. «Как наш террорист поживает? – орал он теперь вместо обычного «доброе утро», входя в учительскую, – То есть я имею в виду с добрым утром, оом Бен, и не будете ли вы любезны снабдить меня одной из ваших бомбочек, ха-ха-ха! Я, знаете, хочу пустить на воздух наш седьмой класс. Да, а какая сегодня погода в Москве, не скажете?»
Иные стали избегать Бена Дютуа, причем более явно, нежели прежде. Ферейра, преподаватель английского, не глядя в его сторону, прошелся насчет того, что есть, мол, такое выражение в английском языке: «обжечь пальцы», то есть отучиться лезть в чужие дела.
Кос Клуте возгласил в своей обычной агрессивной манере на большой перемене, когда в учительской подавали чай:
– За все годы, что я учительствую, службе безопасности не доводилось, простите, беседовать со мной по поводу присутствующих. Чисто умозрительно я мог предположить вероятность такого поворота событий, однако допустить это практически… Ну нет, увольте.
– Я готов обсудить с вами этот вопрос, буквально по пунктам, – отвечал Бен, растерявшись перед этим запальчивым гневом в тоне директора, – тем более что мне абсолютно нечего стыдиться.
– И тем не менее. Если хотите играть на повышение, господин Дютуа, вам придется позаботиться о том, что о вас думают. Одно могу сказать: в настоящий момент департамент предельно щепетильно относится к такого рода вещам. Впрочем, вам это известно не хуже моего.
– Я прошу уделить мне ровно полчаса в вашем кабинете.
– Позвольте, почему в кабинете? Вам есть что скрывать от своих коллег?
Бен сглотнул застрявший в горле ком негодования. И тут же постарался взять себя в руки.
– Отнюдь. Я готов сообщить вам все, что вас интересует. Где вам будет угодно. Если вами действительно руководит забота обо мне.
– Куда как важнее разобраться с собственной совестью, – отвечал Клуте, – чтобы не стать обузой школе.
Чтобы не наговорить лишнего, Бен поднялся и молча пошел к себе в класс. Слава богу еще, у него был свободный урок. Он долго сидел в пустом классе, уставившись в одну точку, потягивал трубку, пока не успокоился. Гнев прошел, вернулась способность рассуждать. И тогда он понял, что должен сделать. Это было настолько очевидно, что он лишь подосадовал, как это ему раньше в голову не пришло.
Едва дождавшись конца занятий, он отправился на П. Форстер-сквер. Завел машину на стоянку в цокольном этаже здания и вызвал лифт. На формуляре, который дежурный ткнул ему в руку, написал фамилию полковника Вильюна. И через десять минут стоял перед письменным столом, знакомым по прошлому визиту сюда много месяцев назад. На этот раз полковник был один. Пусть так, но Бена не оставляло ощущение, что у него за спиной неслышные и невидимые люди появляются в двери, разглядывают его и тут же исчезают в коридоре. У него не было ни малейшего представления, где в этом громадном голубом здании может быть Штольц. Может быть, его сегодня вообще здесь не было. А ощущение такое, что он присутствует. Сверлит острым взглядом своих темно-карих глаз на неподвижном лице, перечерченном глянцевитым шрамом. И тут – как удар под ложечку, даже дыхание перехватило – в памяти мелькнуло другое лицо, Гордона, лицо и руки, сложенные на груди, и шляпа в руках.
«Будь это со мной, ладно. Но ведь это мой ребенок. Я должен знать. Видит бог, я не остановлюсь, пока не узнаю, что с ним случилось и где они его похоронили. Его тело принадлежит мне. Это тело моего сына».
Любезное, бронзовое от загара лицо человека средних лет смотрело на него выжидающе. Седые волосы подстрижены ежиком. Человек откинулся на спинку и покачивается взад-вперед, балансируя на задних ножках стула.
– Чем могу служить, господин Дютуа? Весьма польщен.
– Полковник, я подумал, нам самое время все откровенно обсудить.
– Очень рад это слышать. Что именно?
– Вы прекрасно знаете, о чем речь.
– Прошу уточнить. – У него чуть заметно дернулась щека.
– Не знаю, как это у вас заведено. Но вам, должно быть, известно, что ваши люди проводят кампанию по запугиванию меня и шантажируют вот уже несколько месяцев.
– Вы определенно преувеличиваете, господин Дютуа. Единственно, что мне известно…
– Но вам известно, что они устроили у меня дома обыск, не так ли?
– В установленном порядке. Полагаю, они вели себя вежливо?
– Ну еще бы, конечно. Не в этом дело. Как понимать все остальное? То, что обо мне расспрашивают моих сослуживцев, например?
– А почему вас это волнует? Я уверен, вам нечего скрывать.
– Не в этом суть, полковник. Суть в том… Ну вы же знаете, люди есть люди. Начались разговоры. Пошли самые нелепые слухи. Существует понятие: репутация семьи…
Хмыкнул.
– Господин Дютуа, я не врач, но и так видно, вам явно нужно хорошенько отдохнуть. – И прибавил, не без намека, который и не скрывал, впрочем: – Просто на какое-то время взять и отключиться от всего, а? Ну, уехать?
– Наконец, ряд других вещей, – настойчиво продолжал Бен, оставив замечание полковника без внимания, – мой телефон, моя корреспонденция.
– Что ваш телефон, что ваша корреспонденция?
– Не делайте вид, полковник, будто ничего не знаете.
– Именно?
Бен почувствовал, как кровь застучала у него в висках.
– Я вхожу в класс и вижу на доске оскорбительные для меня слова. На дверях моего дома некто рисует серп и молот. В клочья кромсают покрышки на моем автомобиле. По ночам нас будят анонимными звонками по телефону.
Полковник перестал раскачиваться на стуле, сел как положено.
– Вы заявляли обо всем этом в полицию?
– Какой смысл?
– Смысл тот, что для этого она и существует, не правда ли?
– Я одно хочу знать, полковник. Когда вы оставите меня в покое?
– Минутку, минутку, господин Дютуа. Вы что, меня в этом хотите обвинить, так я понял?
Ему не оставалось ничего другого, как идти до конца.
– Полковник, скажите, почему вам так важно не дать мне довести до конца расследование по делу Гордона Нгубене?
– Так вот вы чем занимаетесь, – протянул он. – И это вы серьезно?
Впечатление такое, будто ему никогда не скажут правды. И все-таки он убеждал себя, что с этим человеком, непохожим на других, он может быть откровенным. И что ему отплатят той же монетой. Он упрямо тешил себя мыслью, что они говорят на одном языке. Какую-то минуту он еще раздумывал, глядя на фотографию в рамке, разделявшую их на пустом столе.
– Полковник, – произнес он в неожиданном порыве, – вас привидения не мучают? То, что случилось с Гордоном Нгубене, вам не мешает спать по ночам?
– Все надлежащие свидетельства были представлены компетентному суду, который тщательно разобрался в обстоятельствах и вынес заключение.
– А как насчет свидетельств, что были не менее тщательно скрыты от суда?
– Ну, вот что, господин Дютуа. Если вы располагаете какой-либо информацией и с этим пришли, прошу. Выкладывайте, я готов.
Бен поглядел на него, прямого, приросшего к стулу с прямой спинкой. А тот подался к нему через стол, отодвинув фотографию в рамке. Голос звучал мрачно:
– Ибо, если обнаружится, что вы что-то намеренно скрываете от нас, господин Дютуа, если вы дадите повод заключить, что вы вовлечены в деятельность, которая может представлять опасность для всех – для вас самих и для нас, – я предвижу некоторые осложнения.
– Это что же, угроза, полковник? – спросил он, и у него запрыгали желваки на скулах.
Полковник Вильюн улыбнулся.
– Давайте выразимся так: предостережение. Дружеское предостережение. Знаете, бывает, человек исходит из лучших намерений. Но вы так увлеклись, что не в состоянии дать себе отчет во всем том, что за этим стоит.
– То есть, по-вашему, я пляшу под дудку коммунистов? Слышал. – Он не смог подавить сарказма в голосе.
– Почему вы это говорите?
– Это не я говорю, один из ваших людей буквально сказал моему сослуживцу.
Вильюн пометил что-то на листке линованной бумаги. Бен сидел достаточно далеко и, что именно, не разобрал. Но почему-то именно от этого больше всего защемило сердце.
– Так вы действительно ничего не хотите сказать мне, полковник?
– Я вот все жду, что скажете мне вы, господин Дютуа.
– В таком случае, не смею больше отнимать у вас время.
Бен поднялся и пошел к двери. Полковник тихо произнес вслед вместо привычного «до свидания»:
– Уверен, мы еще с вами встретимся, господин Дютуа.
Ночью, когда все в доме спали, кроме Йоханна, засидевшегося допоздна у себя в комнате за уроками, раздались три выстрела. Стреляли с улицы в комнату Бена на заднем дворике. Вдребезги разнесло телевизор, пуля угодила в трубку, по счастью не причинив другого ущерба. Он тут же позвонил в полицию, но преступника так и не нашли. К Сюзан пришлось все-таки вызывать врача.







