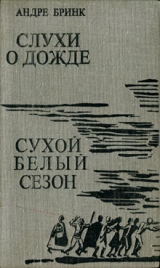
Текст книги "Сухой белый сезон"
Автор книги: Андре Бринк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 23 страниц)
– И что вас выбило из колеи?
– Ничего действительно драматического и захватывающего и не понадобилось. Просто одним прекрасным утром вы открываете глаза и обнаруживаете, что внутри что-то покалывает и не дает покоя, а что, вы не понимаете. Вы идете в ванную, возвращаетесь к себе и вдруг, когда проходите мимо гардероба, видите себя в зеркале. И замираете. Смотрите. Прочь одежды, они мешают вам вглядеться в себя. Лицо и тело – все, как обычно, вы смотрели на свое отражение тысячу раз. Ничего не изменилось, кроме одного. Ничего-то вы раньше не видели. Просто потому, что никогда и не смотрели. И сейчас, неожиданно это вдруг ударяет в глаза, потому что перед глазами абсолютно незнакомая фигура. Вы всматриваетесь в собственные глаза, и в свой нос, и в свои губы. Вы прижимаетесь лицом к гладкому, холодному стеклу, пока оно не запотеет, стараясь вглядеться в него, различить собственные черты. Отходите и оглядываете себя со стороны. Трогаете себя собственными руками, чтобы убедить себя, да вот же вы, вот. Но нет, не вы. Чужая, потому что касаешься и не чувствуешь прикосновения к своей плоти. И тогда в тебе возмущается твое живое естество. И, возмущаясь, требует бежать прочь, как есть нагой, на улицу, и прокричать все, что есть самого мерзкого, непристойного, что ты думаешь о людях. Но ты подавляешь это, конечно же. И оттого чувствуешь себя только еще крепче запертой в этой тюрьме. И потом вдруг осознаешь: вся твоя жизнь, которую ты провела в ожидании того нечто, что должно было случиться, и есть то особенное, действительно стоящее, ради чего стоит жить. А то, что было, – одна сплошная трата времени.
– Я знаю, – тихо сказал Бен, и произнес это скорее для себя. – Я могу понять это чувство: ожидание и ожидание, точно сама жизнь – вклад в какой-то банк. Такой, знаете ли, депозит, что может быть выплачен вам в любой день, ну целое состояние. А потом открываете глаза, и оказывается, что жизнь не больше чем скромная кредитка в заднем кармане брюк. Никаких депозитов.
Она выбралась из кресла и, обойдя заваленный бумагами письменный стол, остановилась у окна, а он смотрел на ее маленький изящный силуэт в оконной раме, какой-то по-детски беспомощный, на угловатые, как у ребенка, плечи, точеную округлость бедер.
– Если и было что-то конкретное, что открыло мне глаза, – произнесла она, оборачиваясь, – так самое что ни на есть тривиальное на свете. Однажды наша прислуга почувствовала себя плохо, и вечером я повезла ее домой, она жила в Александре. Я выросла у нее на руках, она служила еще у папы, а после моего замужества перешла к нам с Брайеном. Мы прекрасно ладили. Прилично платили ей и так далее. А тут я, понимаете, первый раз в жизни переступила порог ее дома. И меня это потрясло. Крохотный кирпичный домик в две комнатушки. Без потолка, без электричества, цементный пол. Как сейчас помню, стол, покрытый куском линолеума, пара расшатанных стульев да стенной шкафчик для посуды. Это в первой комнате, а в другой – кровать да жестянки из-под керосина. И все. Здесь жили она с мужем и тремя детьми и еще две сестры мужа. По очереди спали на кровати, остальные на полу. Никаких матрацев. Зима, дети кашляют. – У нее перехватило горло. – Вы понимаете, это была не бедность, ну как общепринятое понятие, что ли: всякий знает про бедность, читает в газетах, видим, не слепые, у иных даже общественное сознание развито. Но Дороти… Ведь я считала, что знаю. Она помогла отцу вынянчить меня; мы жили с ней под одной крышей, дня без нее не прошло, сколько я себя помнила. Такое чувство было, точно у меня первый раз открылись глаза на чужую жизнь. Словно впервые в жизни обнаружила вдруг, что, кроме меня, существуют, – проговорила она раздельно, – и другие, чужие жизни. И хуже всего сознание, что ничего-то я не знаю о жизни – ни о своей, ни о жизни других людей, – Она резко повернулась, обошла стол и взяла у него из рук пустой стакан. – Давайте я вам еще налью.
– Мне хватит, – сказал Бен. Но она уже исчезла, за ней бесшумными тенями мелькнули кошки.
– Позвольте, но не поэтому же вы развелись? – сказал Бен, когда она вернулась.
Она стояла спиной к нему, выбрала и поставила на проигрыватель пластинку. Бетховен, одна из последних его сонат. Повернула ручку громкости, сделала совсем тихо, и музыка вкралась в хаос комнаты.
– Ну кто ж тут однозначно ответит, – сказала она, сворачиваясь в клубок в своем кресле. – Конечно, нет. Было и много другого. Просто я все больше и больше стала бояться быть в четырех стенах. Я стала раздражительной, сама понимала, как я безрассудна и необузданна. Бедный Брайен терялся в догадках, что вдруг случилось. И папа тоже ничего не понимал. В сущности, примерно год мы были каждый сам по себе. Я избегала смотреть в его сторону потому, что просто не знала, что я могу ему сказать. После развода я тут же сняла себе квартиру.
– Но теперь-то вы снова с отцом, – напомнил он.
– Да. Но не для того, чтобы меня снова баловали и портили. Только потому, что теперь во мне нуждается отец.
– Ну а потом вы стали журналисткой, – напомнил он ей.
– Я думала, это заставит меня или хотя бы поможет проявить себя. Не даст снова погрузиться в это мое не оправданное реальной действительностью прежнее благодушие. Заставит открыть глаза и заметить наконец, что происходит вокруг.
– Радикальная мера.
– А мне и нужно было что-то радикальное. Я себя слишком хорошо изучила. Мне ведь ничего не стоило снова опуститься до эдакого самопрощения и беззаботного наслаждения жизнью. А я отважилась сказать себе: не будет этого больше. Вы понимаете?
– И помогло? – Бен почувствовал, как со вторым глотком бренди по телу разлилось тепло, вконец освобождающее его от недавней ледяной скованности.
– Мне и самой хотелось бы ответить прямо, – «А вы-то как думаете?» – говорил ее взгляд. А потом она сказала: – И я уехала, решила побродить по свету. Поначалу здесь, по Африке, а потом…
– С южноафриканским-то паспортом? Как это вам удалось?
– Не забывайте, по матери я англичанка. Так что паспорт я выправила британский. Кстати, и посейчас незаменимая вещь, когда газете нужно послать репортера.
– И что, не было никаких проблем?
Короткий, горький смешок.
– Не скажите. Хотя я их и не искала. Даже наоборот, бежала от них. – Подернула плечом с досадой. – Ей-богу, не пойму, чего ради мне плакаться вам в жилетку. Вам-то какая радость?
– Ну вот, теперь вы уклоняетесь от ответа.
Она посмотрела ему прямо в глаза, что-то взвешивая, раздумывая. А затем, в попытке отогнать нечто, вдруг навалившееся на нее, взметнулась с кресла и принялась ходить по комнате, машинально выравнивая стопки книг.
– В семьдесят четвертом я была в Мозамбике, – выдавила она наконец, – Тогда, после переворота, еще только набирал силы ФРЕЛИМО, в стране все бурлило. Кто за кого – не поймешь. – Нахлынувшие воспоминания, видно, мешали ей сосредоточиться. Так и не поворачиваясь к нему лицом, она сказала: – Ну вот, как-то вечером, когда я возвращалась в отель, меня остановили пьяные парни, кто, что – не знаю. Я предъявила мое корреспондентское удостоверение, но не это им было нужно.
– Ну и…
– Ну, вы не понимаете? – переспросила она. – Ну а то, что отволокли на какой-то пустырь, изнасиловали и бросили, – И с неожиданным смешком: – А знаете, что самое худшее было для меня во всей этой истории? Нет? Вернуться среди ночи в отель и обнаружить, что отключили горячую воду.
Он развел руками, протестующе, весь негодование.
– И вы что, не могли… ну, заявить, или как это называется?
– Кому?
– На следующее же утро вы улетели обратно и… – подсказывал он.
– Нет, конечно, – сказала она. – У меня ведь было задание от газеты.
– Безумие!
Она только плечами пожала, ее забавлял этот его бессмысленный гнев.
– Двумя годами позже, – спокойно продолжала она, – новая поездка.
– Только не говорите мне, что все повторилось.
– Ничего не повторилось. Как и всех иностранных журналистов, меня тогда задержали. Заперли в какой-то школе, пока проверяли аккредитацию. Продержали пять дней, в классе нас было человек пятьдесят, может шестьдесят. Ни сесть, ни лечь. Чувствуй плечо соседа. – Она хмыкнула. – Здесь главное была не жара, не духота или всякие там твари, а просто, что не выпускали. Можете себе представить, проторчать в джинсах, не снимая их, все пять суток? – Она плеснула себе из бутылки, которую принесла, машинально. Себе и ему. – А вскоре после этого газета направила меня в Заир, – продолжала она рассказывать, – когда началось восстание. Но там все обошлось не в пример лучше. Если не считать того, что однажды вечером, когда плыли на какой-то моторке, попали под перекрестный обстрел. Лодку в щепки; выплыли, цепляясь за обломки. Слава богу, хоть нас не изрешетили. Мужчину рядом со мной прошили пулей в грудь навылет, но он ничего, вытянул. К счастью, быстро стемнело, и стреляли наугад.
Она умолкла, и он молчал, а потом, просто ошеломленный, спросил:
– Скажите, и все это не испачкало вам душу? Ну вот это, что было в Мозамбике, разве это не заставило вас почувствовать, что вы никогда, никогда не сможете быть такой, как прежде?
– Может быть, я не хотела быть такой, как прежде.
– Но для человека вашего круга, женщины…
– В чем разница, не вижу. Наверное, мне было даже легче, чем другим.
– Простите, не понял?
– Ну, освободиться от себя самой. Переступить себя. Научиться меньше истязать себя вопросами.
Он одним глотком выпил Bces что было в стакане, тряхнул головой.
– А почему это вас удивляет? – спросила она. – Взять вот хоть вашу историю с этим Гордоном. То, что на вас свалилось естественно, само собой, мне пришлось постигать на пустом месте. Заставлять себя делать каждый дюйм вслепую. Порой просто страшно подумать, что я так ни к чему и не пришла. А может, «прийти к чему-то» – это тоже не больше чем частица великой иллюзии?
– Как вы можете говорить, будто мне что-то далось естественно? – запротестовал Бен.
– А разве нет?
И тут оно взметнулось в нем, внезапное освобождение от уз, подобно стае голубей, выпущенных из неволи. Вдруг и разом. Не пытаясь остановить или сдержать это в себе – откровенность Мелани и покой этой комнаты, растворившейся в полумраке, придали ему смелости, – он дал излиться всему, что долгие годы таил на душе. Он говорил о своем детстве на ферме в Оранжевом свободном государстве и страшной засухе, в которую они все потеряли; о вечных странствиях, когда отец устроился на железную дорогу, и рождественских путешествиях на поезде к морю; о годах, проведенных в университете, и этом своем нелепом бунте, который он учинил против преподавателя, когда тот велел его другу выйти из аудитории; о Лиденбурге, где он встретился с Сюзан; о недолгом учительстве в Крюгерсдорпе в школе для бедных, откуда они уехали по настоянию Сюзан, не ужившейся в этой глуши среди людей, которые им не ровня; о своих детях – своевольной и удачливой Сюзетте, мягкой и любящей Линде, не оправдавшем надежд Йоханне, агрессивном и необузданном. Он рассказал ей о Гордоне; о том, как Джонатан по субботам и воскресеньям работал у них в саду и как он рос угрюмым и непослушным, а потом связался с сомнительной компанией и пропал во время беспорядков; о том, как Гордон пытался выяснить, что же все-таки произошло, и о его смерти; о Дэне Левинсоне и Стенли и своей поездке на Й. Форстер-сквер; о капитане Штольце с белым глянцевитым шрамом через всю щеку, о том, как он стоял тогда у дверей и все играл апельсином, подбрасывая и ловя, и, поймав, давил его с откровенным чувственным наслаждением; рассказывал, не упуская ни малейших подробностей, обо всем, важном и не имеющем отношения к делу, а просто запавшем в голову, о своей жизни день за днем вплоть до сегодняшнего.
Потом они сидели и молчали. Долго-долго. За окном опустилась ночь. Время от времени в тишину врывались звуки проносившегося мимо автомобиля, далекой сирены «скорой помощи» или полицейской машины, лай собаки, голоса прохожих, но все одинаково приглушенные тяжелыми занавесями и рядами книг, выстроившихся на полках но стенам. Давно умолк Бетховен. И единственное, что нарушало застывший интерьер комнаты, – это кошки. Время от времени они, легкие как тени, двигались украдкой. Или их урчание, когда они, отвоевав любимое место, вылизывали себя розовыми языками, прежде чем успокоенно впасть в свою кошачью летаргию.
Но вот Мелани опустила ноги на пол, поднялась и взяла у него стакан.
– Хотите еще?
Он покачал головой: нет.
Какое-то мгновение она оставалась рядом с ним, совсем близко, так близко, что он чувствовал легкий запах ее духов. Но она повернулась и вышла из комнаты со стаканами, и платье метнулось от этого ее резкого движения и облегло ноги, и босыми ногами она неслышно ступала по полу. И от этой ее неслышной походки и непередаваемой грации ее движений ему ударило в голову, он почувствовал, как кровь прилила к лицу и пересохло горло. И еще от одного; от сознания, что вот он и она одни в этом полутемном доме, и еще только молчаливый свет лампы, и книги, и крадущиеся тени кошек, а за стенами этой странной комнаты с аркой, которую поддерживают бивни слонов, наверное, трудно себе предположить, сколько еще других комнат и других сумерек и тьмы, и все пустым-пусто, до осязания этой пустоты и сна, успокоения и тишины. Сознание же, помимо всего, ее присутствия здесь, этой молодой женщины, Мелани, двигающейся невидимо в темноте, знакомой и только более близкой оттого, что она неслышно ступала босыми ногами, достижимая, только протяни руку, переполненная своей неподдельной искренностью и открытой женственностью, заставило его почти в смятении подняться. И едва она вошла, он сказал, что подумать только, как поздно, и что ему пора уходить.
Она, ни слова не сказав, провела его к двери и вежливо открыла ее. На веранде была темень непроглядная, и только от накаленного за день каменного пола веяло теплом. Она не включила свет.
– Зачем вы пригласили меня к себе? – спросил он вдруг. – Зачем вы подошли ко мне там, в суде?
– Вы были такой одинокий, – отвечала она без тени сентиментальности. Просто и искренне.
– До свидания, Мелани.
– Обещайте, что дадите мне знать, если что надумаете, – только и сказала она.
– В каком смысле?
– Не знаю. Прежде сто раз подумайте. Не кидайтесь сломя голову. Но если решитесь идти дальше в этом деле Гордона и я вам понадоблюсь, – он чувствовал на себе в темноте ее взгляд, – я с удовольствием помогу.
Он ничего не ответил. Подставил лицо мягким порывам вечернего ветра и молчал. Она стояла в дверях, пока он шел к автомобилю. В нем боролись чувство холодной вежливости и другое, безрассудное и нелепое, – вернуться и войти с ней и закрыть за собой дверь. И выбросить из головы весь мир. Но он знал, что это невозможно. Она сама и вернула бы его обратно в этот мир, которому принадлежала. И не колеблясь, он поспешил через сломанную калитку и сел в свою машину. Включил зажигание, развернулся, вырулил на дорогу и покатил под уклон, мимо ее дома. Не разглядеть было, стоит ли она в дверях. Но он знал, она должна быть где-то там, в темноте.
– Где ты пропадал? Почему так поздно? – бросилась Сюзан с вопросами, в голосе ее звучали упрек, но и беспокойство. – Я уж думала, с тобой что-нибудь случилось, собиралась звонить в полицию.
– Почему со мной должно что-то случиться? – отмахнулся он досадливо.
– Ты знаешь, сколько времени?
– Просто я не смог сразу поехать домой, Сюзан. – Ему не хотелось объясняться, но она упрямо ждала в дверях кухни, и свет бил ему в глаза. – Суд объявил сегодня приговор.
– Знаю. Слышала в новостях.
– Тогда ты должна понять.
Она вдруг подозрительно оглядела его. И уже другим тоном:
– От тебя пахнет вином. – Теперь в голосе было только раздражение.
– Извини. – Он не стал оправдываться перед женой.
Возмущенная, она посторонилась, давая ему пройти.
– Я понимаю, ты устал, – сказала она, смягчаясь, – А я сегодня такой ужин сотворила.
Он с благодарностью и виновато заглянул ей в глаза.
– Ну зачем было беспокоиться.
– Йоханн уже поужинал, он спешил в шахматный клуб. А я тебя ждала.
– Спасибо, Сюзан.
Она накрыла в столовой, пока он принимал душ. Он вошел с мокрыми волосами, от зубной пасты покалывало язык. Она достала серебро, открыла бутылку «шато либерте», зажгла свечи.
– В честь чего это?
– Я знала, как это все должно тебя огорчить, Бен. И я подумала, мы с тобой заслужили спокойный вечер, вместе. Просто ты и я.
Он сел. Она машинально подала ему руку для вечерней молитвы. А потом она положила на тарелки рубленое мясо, рис и овощи, и все это у нее получалось, как всегда, изящно, каждое движение. Ему хотелось поблагодарить, сказать: «Право, Сюзан, не надо, я совсем не голоден». Но он не решился и, чтобы не огорчить ее, делал вид, что наслаждается едой, а сам боролся со смертельной усталостью, тяжелым комом лежавшей внутри, навалившейся вдруг так, что не разогнуться было.
Она говорила оживленно, изо всех сил старалась вызвать его улыбку и заставить расслабиться. А получилось все наоборот. Звонила Линда и просила ему кланяться, она и Питер, к сожалению, не смогут выбраться к ним на субботу и воскресенье, он весь в работе, готовится к лекции. Мать Сюзан тоже звонила, из Кейптауна. Отец должен открыть в ближайшие неделю-другую какое-то административное здание в Вандербил-парке, и они постараются побыть там. Сначала Бен еще пытался слушать, но усталость вконец сломила его.
И это не ускользнуло от Сюзан, и она умолкла на полуслове.
– Бен, ты ведь не слушаешь.
Он встряхнулся, посмотрел на нее.
– Извини. – И вздохнул. – Прошу прощения, Сюзан. Я действительно отключился.
– Я так рада, что все кончилось, – сказала она неожиданно с чувством и тронула его за руку. – Ты меня по-настоящему напугал последнее время. Ты не должен принимать все это так близко к сердцу. Ну да все страшное теперь позади.
– Позади? – еще переспросил он, пораженный. – Мне показалось, ты сказала, будто слышала в новостях о приговоре? Это после всего-то, что вскрылось при расследовании, такой приговор…
– Суд выслушал все факты, Бен, – сказала она мягко.
– Но и я тоже! – едва не взревел он. – И позволь мне сказать тебе…
– Ты не специалист, как и любой из нас, – терпеливо возразила она. – И мы с тобой ничего не понимаем в законах.
– А судья, он что понимает? Он даже не юрист. Просто служащий по гражданскому ведомству.
– Он должен знать, что делает, у него многолетний опыт. – И с неизменной своей улыбкой: – Ну хватит, Бен. Дело закрыто. Никто не может ничего изменить.
– Они убили Гордона, – сказал он. – Сначала они убили Джонатана, затем его. Неужели это сойдет им с рук?
– Будь они виновны, суд бы так и сказал. Я была не меньше твоего поражена, Бен, когда услышала о смерти Гордона. Но теперь-то что толку ломать над этим голову. – Она с силой сжала его руку. – Все кончилось, и хватит об этом. – И с улыбкой, пытаясь ободрить – кого только – его или себя, продолжала: – Ну, доедай свой ужин и пошли спать. Выспишься как следует, и все станет на свои места.
Он не отвечал. Сидел с отсутствующим взглядом и слушал, не понимая, словно она говорила на чужом, незнакомом языке.
6
В воскресенье утром фотография Эмили, обнимающей Бена, красовалась на первой странице английской газеты с заголовком через всю полосу: «Лицо печали». Во врезке давалось краткое изложение фактов расследования («подробно см. на стр. 2») и следовала подпись: «Г-жа Эмили Нгубене, супруга умершего в заключении, утешаемая другом семьи г-ном Беном Дютуа».
Его это покоробило, да. Но не больше. Ничего приятного, конечно, когда тебя выставляют напоказ всему свету. Но газетчики, что с них возьмешь. А вот Эмили явно потеряла над собой всякий контроль. Надо все-таки думать, что делаешь.
Что касается Сюзан, то ее это просто сразило. Настолько, что она не пожелала даже идти на воскресную службу.
– Как, как я буду сидеть там, зная, что на нас все пялятся? Что о тебе люди подумают?
– Идем, Сюзан. Я согласен, это совершенно неслыханно, вполне в духе бульварной прессы. Но что, в сущности, произошло? И потом, что мне оставалось делать, отшвырнуть ее?
– Если б ты держался от всего этого подальше с самого начала, ты не навлек бы на нас такого позора. Ты хоть понимаешь, чего все это может стоить моему отцу?
– Сюзан, ты делаешь из мухи слона.
Но после полудня телефон звонил, не переставая. Жизнерадостная пара, их друзья, ехидно поинтересовалась, правда ли, что Бен «завел новую зазнобу»; еще кто-то, включая молодых Вивирсов, пожелавших принести им свои заверения, что они и впредь могут рассчитывать на их симпатии и поддержку. Однако все остальные, почти без исключения, были настроены отрицательно, почти враждебно. Директор школы, тот без околичностей напирал на одно: осознает ли Бен, что он – служащий министерства просвещения, что политические акции учителей встречаются там крайне неодобрительно.
– Но господин Клуте, какое это имеет отношение, ради всего святого, к политике? Женщина потеряла своего мужа. Она убита горем.
– Чернаяженщина, если позволите, Дютуа, – холодно отчеканил директор.
– Не вижу никакой разницы. – Бен еле сдерживался.
– Похоже, вы и вправду потеряли способность видеть! – Прохрипел Клуте своим астматическим дыханием, – И вы еще спрашиваете, при чем тут политика? А как насчет Закона о нарушении нравственности, а?
Один из коллег Бена среди церковных старост, Хартценберг, позвонил вскоре после воскресной службы в церкви.
– Не удивлен, что вас не было на утренней службе, – сказал он в трубку, явно желая пошутить, что, впрочем, получилось топорно. – Стыдно на глаза появляться, так надо полагать?
Но что его по-настоящему задело, так это звонок Сюзетты.
– О боже, папа, я всегда знала, что ты – сама наивность, но это… Обниматься с черной толстухой при всем честном народе… это уж слишком.
– Сюзетта, – возразил он ей в сердцах, – если у тебя есть хоть элементарная способность думать о будущем…
– Думать о будущем? От тебя ли я это слышу?! – перебила она с едкой иронией. – Да у тебя хоть мысль единая шевельнулась, как все это может отразиться на твоих собственных детях?
– Не надо об этом, Сюзетта. К своим детям я всегда проявлял больше внимания, чем это делаешь ты. – Это прозвучало куда более зло и жестоко, чем ему хотелось бы, но просто не было сил выносить все это.
– Это ты с Сюзеттой разговаривал? Таким тоном? – спросила его Сюзан, когда он снова сел за стол.
– Да, с ней. Я ожидал от нее куда больше здравого смысла.
– А ты не находишь это нелепым? Получается, все кругом не правы, весь мир, один ты прав? – резко сказала она.
– Можете вы все оставить отца в покое? – взорвался вдруг Йоханн. – Ради бога, что он такого страшного сделал? Да что бы ни сделал, на сочувствие может человек рассчитывать? А ты как бы поступила…
– Я определенно не стала бы вручать свою судьбу в руки садового уборщика, – отвечала она холодно.
– Не надо преувеличивать, – с укором сказал ей Бен.
– Интересно, кто из нас начал?
Снова зазвонил телефон. На этот раз его сестра Элен, бывшая замужем за промышленником. Ее все случившееся скорее откровенно позабавило, и тем не менее даже она не преминула подпустить шпильку.
– Вот так так! И это человек, который всю жизнь пилил меня за то, будто бы я только и ищу возможности попозировать перед фотографом на приеме.
– Это не смешно, Элен.
– А по мне, так очень забавно. Правда, зачем только было осложнять, это делается проще, если так уж невтерпеж было увидеть свою личность в газетах.
И даже в голосе Линды, когда она позвонила ближе к вечеру, прозвучал мягкий упрек.
– Папа, я знаю, у тебя самые добрые намерения… Но право, не лучше ли держаться подальше от газет, тем более что тобой ведь руководит-то нелицемерное желание помочь людям.
– Звучит на манер доводов твоего Питера, скажи еще о нелицемерном братолюбии, – отвечал он, не в силах скрыть досады. Весь день он ждал ее звонка, надеясь, что уж она-то его поймет.
Секунду Линда молчала.
– А я и не скрываю, что это сказал Питер. Просто я согласна с ним.
– Так ты что же, действительно думаешь, будто я специально устроил всю эту затею с фотографами?
– Нет, конечно же, нет! – Он представил себе ее вспыхнувшее от возмущения лицо. – Извини, папа, я не хотела прибавлять тебе огорчений. Просто мне нелегко пришлось сегодня.
Он тут же забыл о своей мимолетной досаде.
– В каком смысле?
– Ну, что я могу сказать. Студенты… От них снисхождения не дождешься. А спорить с ними бесполезно.
И только одного звонка не было. Нет, он не ждал его, немыслимо. И все-таки весь этот тягостный день самым близким для него человеком оставалась она. Неотступно пребывала у него в мыслях, стояла перед глазами, как позавчерашним вечером в сумрачном свете этого старого дома в Вестдене.
Поговорив с Линдой, он отключил телефон и пошел пройтись. На улицах было пусто, и вечерняя тишина постепенно приносила умиротворение в смятенную голову.
Когда он вернулся, Сюзан собиралась ложиться спать. Она сидела в ночной рубашке за туалетным столиком, и из зеркала на него смотрело ее искаженное гневом, бледное без косметики лицо.
– Спать собираешься? – виновато спросил он. – А я прошелся, подышал.
– На сегодня с меня хватит. Ты не находишь?
– Ну пожалуйста, постарайся понять, – сказал он примирительно и потянулся было к ней обнять ее, но тут же опустил руки.
– Старалась. Больше нет сил.
– Ты так несчастна со мной?
Она резко повернулась к нему, и во взгляде ее мелькнул почти испуг, но она тут же заставила себя сохранить спокойствие.
– А разве ты пытался сделать меня счастливой, Бен? – сказала она безразлично. – Так что, пожалуйста, не терзай себя мыслями, что можешь сделать несчастной.
Он смотрел на нее во все глаза, не зная, что сказать. А она тут же отвернулась, закрыла лицо руками и разрыдалась.
Он подошел, нерешительно дотронулся до нее и почувствовал, как она вся напряглась.
– Оставь меня, пожалуйста, – произнесла она сдавленным голосом, – Все в порядке.
– Ну может, мы поговорим?
Она тряхнула головой – нет! – поднялась и молча ушла в ванную, даже не взглянув на него, и закрыла за собой дверь. Он еще подождал несколько минут и пошел к себе, как делал, когда пытался обрести утраченное вдруг равновесие, как всегда в таких случаях, раскрыл одну из своих книг по шахматам и стал разыгрывать на старенькой, выцветшей доске классические шахматные партии старых мастеров. Но сегодня и это не принесло радости. Мешало чувство, что вот он, самозванец, жалкий любитель, повторяет ходы, сделанные двумя давным-давно умершими мастерами. Раздраженный, он оставил шахматы и убрал доску в ящик стола. Затем, все еще не отказываясь привести мысли в порядок, принялся за свои записи: короткую, ему одному понятную летопись всего, с самого начала. На бумаге это было легче видеть в целом, создавалась объективная картина, где все стройно и неминуемо прослеживается, подобно прожилкам на листочке с живого дерева. Так было легче идти от частного к целому, сравнивать, оценивать. Однако в конечном счете и тут все сводилось к этому короткому вопросу Мелани: «А дальше что?»
Потому что ничего не ясно и ни с чем не было покончено, как полагала Сюзан. Теперь, после этой фотографии, меньше, чем когда бы то ни было. Может, это вообще только начинается. Если б знать.
В одиннадцать часов вечера, словно его кто подтолкнул, он поднялся, пошел в гараж и сел в машину. У самого дома священника он чуть было не передумал, когда увидел, что во всех окнах, кроме одного, темно. Но он решительно отринул всякую нерешительность и постучал в парадную дверь.
Ему пришлось подождать, пока преподобный Бестер в красном халате и шлепанцах собственноручно не открыл ему дверь.
– Оом Бен? Бог мой, что привело вас сюда на ночь глядя?
А он всматривался в это напряженное, узкое лицо.
– Отец мой, ныне я яко Никодим в доме твоем. Мне нужно слово твое, – сказал он шутливо.
Прежде чем посторониться и пропустить его – это не ускользнуло от Бена, – преподобный Бестер секунду пребывал в явном замешательстве.
– Конечно же. Проходите, – сказал он, но в голосе его послышался отчетливый вздох.
Они прошли в кабинет с пустыми стенами и паркетным полом.
– Чашечку кофе?
– Нет, благодарю вас. – Он достал из кармана свою трубку, – Вы не возражаете, если я закурю?
– Прошу вас, как вам будет угодно.
Теперь, когда он был здесь, он почувствовал неуверенность, не зная, с чего начать, как подступиться к тому, зачем пришел. И в конце концов сам священник начал в своем профессиональном тоне, сказав, что, как он полагает, Бен пришел побеседовать о том, что напечатано в газете?
– Да. Вы были у нас, когда Эмили приходила с просьбой помочь ей. Помните?
– Да, конечно.
– Так что вы знаете весь ход вещей.
– Итак, оом Бен, что же произошло?
Бен раскуривал свою трубку.
– Неприятности, – сказал он. – Дотоле я черпал уверенность лишь от сознания, что дело перейдет в суд, и все тайное станет явным. Я был уверен, что будет вынесен справедливый приговор. О чем не уставал твердить и всем остальным, тем, кто был менее моего уверен в исходе дела.
– Ну и?
– Зачем вы спрашиваете? Вы знаете, что произошло.
– Суд праведен, и ничто не укроется от ока его.
– Но разве вы не читали газет, отец? – спросил он. – И в радость ли вам то, что вышло на свет божий?
– Нет, конечно, – отвечал преподобный Бестер. – Всего несколько дней назад я сказал моей жене: стыд и срам то, что господь посылает на наши головы. Но теперь дело кончено, и справедливость торжествует.
– Вы называете это справедливостью?
– А что?
– А то, что я там был, – едва ли не крикнул он. – Я слышал каждое сказанное там слово. Как сказал адвокат де Виллирс, это…
– Однако, оом Бен, вам-то уж известно, как облекают они свои доводы по долгу службы.
– А долг судьи – делать вид, что фактов, которые очевидны, не существует?
– Да все ли это подлинно факты, оом Бен? Как мы можем сказать уверенно? В мире, куда ни глянь, столько лжесловия.
– Я знал Гордона. И то, что они говорили о нем, сплошная ложь.
– Никто, кроме бога единого, не видит в сердцах наших, оом Бен. Не самонадеянно ли говорить за кого бы ни было, кроме себя самого?
– У вас нет веры в вашего друга? И вы не любите ближнего своего?
– Погодите, – с величайшим терпением возразил ему Бестер, точно стремясь обратить непокорного. – Чем слепо опровергать, не задумаетесь ли вы о том, что у нас есть все резоны гордиться нашей юриспруденцией? Вот вы на газеты ссылаетесь. А что в газетах о России пишут, нуте-ка? А вы говорите, газеты… Да хоть и Африку взять, она большая. Уверяю вас, кое-где вообще бы до суда дело не дошло.
– А какой прок от того, что здесь дошло до суда, если сила все равно в руках горстки людей? Единственный, кому они позволили открыть рот, – это Арчибальд Тсабалала, разве он тут же не отрекся от всех показаний, что они силой навязали ему до суда? А эту девушку возьмите, которая рассказывала, как ее пытали…







