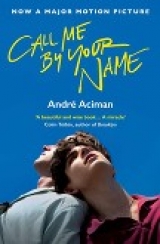
Текст книги "Зови меня своим именем (ЛП)"
Автор книги: Андре Асиман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
Но мои предположения оказались ошибочны.
– Ты слишком умен, чтобы не понимать, насколько редко, насколько особенно то, что разделили вы двое.
– Оливер – это Оливер, – сказал я, словно подытожив.
– Parce que c’était lui, parce que c’était moi90, – добавил отец, цитируя всеохватывающее объяснение Монтеля о его дружбы с Этьеном де Ла Боэси.
Я же думал о словах Эмили Бронте: потому что «он больше я, чем я сам».
– Может быть, Оливер очень образован… – начал я, и в очередной раз лукавое невидимое «но» повисло между нами. Что угодно, лишь бы не дать отцу подтолкнуть меня дальше по этой скользкой дорожке.
– Образован? Он более чем образован. То, что было между вами, полностью зависело от образования и одновременно не имело совершенно ничего общего с ним. Он был великодушен, и вам двоим повезло найти друг друга, потому что ты тоже великодушен.
Отец никогда прежде не говорил о великодушии в таком ключе. Это меня обезоружило:
– Думаю, он лучше меня, папа.
– Уверен, он сказал бы то же самое о тебе, такова ваша схожая сущность.
Он собирался стряхнуть пепел, но, потянувшись к пепельнице, коснулся моей руки:
– Впереди ждут очень тяжелые времена, – его голос изменился, тон говорил: «Нет необходимости говорить об этом, но давай не будем делать вид, будто не знаем, о чем я».
Говорить абстрактно для него был единственный способ говорить правду.
– Не бойся. Оно придет. По крайней мере, я на это надеюсь. Когда ты меньше всего будешь этого ждать. Природа находит хитрые способы найти наши слабые места. Прямо сейчас, возможно, ты можешь желать ничего не чувствовать. И возможно, ты захочешь поговорить не со мной об этих вещах. Но прочувствуй то, через что вы прошли.
Я посмотрел на него. Я должен был бы соврать, что он совершенно ошибается. Я собирался это сделать.
– Слушай, – продолжил он, опередив меня, – у вас была замечательная дружба. Может, даже больше, чем дружба. И я завидую вам. На моем месте большинство родителей понадеялись бы, что все это в прошлом, если осталась боль – попытались успокоить ее, если осталось пламя – не раздували бы его сильнее, или помолились, чтобы их сыны снова ступили на верный путь. Но я не такой родитель. На твоем месте, если осталась боль – лечи ее, а если внутри горит пламя – раздувай его еще больше, береги его. Отпускать кого-то может быть тяжело. Это не обязательно может будить среди ночи. Осознание, что другие забыли нас гораздо раньше того, как мы хотели бы, чтобы нас забыли, ничуть не лучше. Мы вырываем из себя много самих себя в надежде исцелиться раньше, но некоторые вещи должны пройти свой собственный путь. В нас остается все меньше того, что мы могли бы предложить кому-то новому, и к тридцати годам мы – уже пустые оболочки. Но чувствовать пустоту, как не чувствовать ничего – это растрата!
Я не мог переварить все это. Я опешил.
– Я озадачил тебя? – я потряс головой. – Тогда позволь я скажу еще кое-что. Это внесет ясность. Я был к этому близок, но никогда не имел того, что получил ты. Всегда что-то сдерживало меня, заставляло отступить. Как ты проживаешь свою жизнь – твое дело. Но запомни: наши сердца и наши тела даны нам только однажды. Многие из нас ничего не могут с этим поделать, но живут так, словно им даны две жизни: одна – тестовая модель, вторая – финальная версия, и множество вариантов между ними. Но на деле она одна, и прежде чем ты выяснишь это для себя, твое сердце окажется слишком изношенным, и наступает момент, когда никто на него, как и на твое тело, не посмотрит. Еще того меньше кто-то захочет оказаться рядом. Прямо сейчас это печаль. Я не завидую боли, как таковой. Но я завидую твоей боли, – он сделал глубокий вздох. – Мы можем больше никогда не говорить об этом, и я надеюсь, ты никогда не используешь это против меня. Я буду ужасным отцом, если однажды ты решишь поговорить со мной, а дверь окажется закрытой.
Я хотел спросить, откуда он узнал. А потом – как он мог не знать? Как все остальные не догадались?
– Мама знает? – я хотел сказать «подозревает», но передумал.
– Не думаю, – его голос говорил: «Но даже если знает, едва ли ее реакция будет отличаться от моей».
Мы пожелали друг другу спокойной ночи. По пути наверх я поклялся, что расспрошу отца о его жизни. Мы все наслышаны о его женщинах в молодости, но я никогда не имел ни малейшего представления о ком-то еще.
Был ли мой отец кем-то другим? И, если он был кем-то другим, кем тогда был я?
***
Оливер сдержал свое обещание, приехав буквально перед Рождеством и оставшись до Нового Года. Перелет его совершенно вымотал. «Ему нужно время», – подумал я. В общем-то, как и мне. Он коротал часы в основном с родителями, затем – с невероятно счастливой Вимини (между ними ничего не изменилось). Я испугался, что мы откатились назад к первым дням, полным обменом любезностями на террасе, избегания и безразличия. Почему его телефонные звонки не подготовили меня к этому? Мои родители что-то сказали? Он вернулся ради меня? Или ради них, ради их дома, ради расставания? Он вернулся из-за своей книги, уже изданной в Англии, Франции, Германии, а теперь – и в Италии. Она вышла элегантной, и мы все были за него рады, включая владельца книжного в Б., пообещавшего устроить чтения следующим летом.
– Может быть, там посмотрим, – ответил Оливер, когда мы остановили там велосипеды.
Фургончик с мороженым был закрыт – не сезон. Закрыты были и цветочная лавка, и аптека, куда мы заскочили из-за его ужасной ссадины, покинув берму в первый раз. Все они принадлежали прошлой жизни. Город опустел, небо заволокли серые тучи. В одну из ночей он долго разговаривал с отцом. Скорее всего, они говорил обо мне, или моих планах на колледж, или о прошлом лете, или о его книге. Когда дверь открылась, я услышал смех из коридора снизу, мать поцеловала его. Чуть погодя он постучал в мою комнату, в обычную дверь, а не во французское окно. Что ж, этот вход теперь должен был навсегда остаться закрытым.
– Хочешь поговорить?
Я уже улегся в постель. На нем был свитер, и, казалось, он собирался пойти прогуляться. Оливер сел на самый край моей кровати. Он выглядел неловко, наверное, я выглядел точно так же, когда он съехал из этой комнаты.
– Возможно, я женюсь этой весной.
Новость ошеломила:
– Но ты ничего не говорил об этом.
– Ну, периодически к этому все и шло уже больше двух лет.
– Думаю, это замечательно.
Любая свадьба – это всегда замечательно. Я был счастлив за них, и моя широкая улыбка была почти что искренней, хотя чуть позже я осознал, что это не сулило нам ничего хорошего.
– Ты не против?
– Не будь глупцом, – ответил я. Повисла долгая пауза. – Ну теперь-то ты заберешься в постель?
Он взглянул на меня настороженно:
– Ненадолго. Но я не собираюсь что-либо делать.
Это прозвучала как обновленная и гораздо более изысканная версия «Может быть, позже». «Так мы все-таки вернулись в прошлое, да?» У меня возникло желание передразнить его, но я сдержался. Он лег рядом со мной поверх покрывала, сняв лишь мокасины.
– Как долго, ты думаешь, это будет продолжаться? – в вопросе послышалась сухая ирония.
– Недолго, я надеюсь.
Он поцеловал меня в губы, но это был не тот поцелуй, каким он впился в меня после Пасквино, вжав в стену у церкви Санта-Мария-дель-Анима. Я немедленно вспомнил вкус. Я никогда не понимал, как сильно я его любил и как сильно скучал, расставшись. Еще один пункт в мой список, прежде чем я его окончательно потеряю. Я был готов выбраться из-под одеяла.
– Я не могу этого сделать, – сказал он, отшатнувшись.
– Я могу.
– Да, но я не могу, – должно быть, мой взгляд превратился в ледяные лезвия, потому что он вдруг понял, насколько я был зол в тот момент. – Я ничего не хотел бы сделать так сильно, как сорвать с тебя одежду и взять в последний раз. Но я не могу.
Я взял его лицо в свои ладони:
– Тогда тебе, может, лучше не задерживаться здесь. Они знают о нас.
– Я это уже выяснил.
– Как?
– По тому, как твой отец говорил. Тебе повезло. Мой отец отправил бы меня в исправительное учреждение.
Я посмотрел на него. Мне хотелось еще одного поцелуя.
Я должен был, мог и захватил его.
Следующим утром наши отношения официально стали прохладными.
Еще одна маленькая вещь случилась в ту неделю. Мы сидели в гостиной после обеда, пили кофе, когда отец принес большую папку из манильской бумаги. В ней хранились шесть заявлений с паспортными фотографиями. Кандидаты на следующее лето. Отец хотел узнать мнение Оливера, затем передал папку матери, мне, еще одному профессору с женой – его коллеги по университету, заехавшему в гости по той же причине, что и в прошлом году.
– Мой преемник, – Оливер выбрал одну из заявок и передал по кругу. Отец инстинктивно бросил короткий взгляд в мою сторону.
Точно такая же вещь случилась почти год назад, за день до этого. Павел, преемник Мэйнарда, приехал на Рождество и, просмотрев документы, настоятельно рекомендовал одного из Чикаго – вообще-то, он знал его очень хорошо. Павел и все остальные в комнате чувствовали равнодушие к молодому кандидату из Колумбии с постдокторскими исследованиями в области – из всех возможных – досократской философии. Я смотрел на его фотографию дольше необходимого и к собственному облегчению понял, что ничего не почувствовал.
Размышляя об этом сейчас, я не мог быть более уверенным, что между нами все началось именно в тот день рождественских каникул.
– Так вот как я был выбран? – спросил он с какой-то серьезной, неловкой откровенностью, которую мать всегда находила очаровательной.
– Я хотел, чтобы это был ты, – сказал я Оливеру позже в тот же вечер, помогая загрузить вещи в багажник машины. Манфреди должен был отвезти его на станцию с минуты на минуту. – Я сделал все, чтобы они выбрали тебя.
Той ночью я пробрался в кабинет отца и нашел файл с заявителями последнего года. Я нашел его фотографию. Расстегнутый ворот рубашки «Парус», длинные волосы, стремительность кинозвезды, ухваченной камерой папарацци. Без всяких мыслей я уставился на нее. Я бы хотел вспомнить, что именно чувствовал в тот момент год назад – натиск желания, преследуемый своим естественным антидотом – страхом. Настоящий Оливер, и каждый новый Оливер в разных купальных плавках, и голый Оливер в постели, и облокотившийся о подоконник в нашем отеле Оливер – все они стояли между мной и попыткой вспомнить свои первые смутные ощущения от его фотографии.
Я взглянул на лица других заявителей. Еще один был не так плох. Я пытался представить, как бы сложилась моя жизнь, если бы к нам въехал кто-то другой. Я бы не поехал в Рим. Но я бы мог поехать куда-то еще. Я бы не узнал первых фактов о Сан-Клементе. Но я бы мог узнать что-то еще, чего не знал и что, возможно, никогда не узнаю. Не изменился бы, никогда не стал бы тем, кто я есть сейчас, стал бы кем-то еще.
Мне было интересно, кто он – этот другой я. Счастливее ли он? Мог бы я окунуться в его жизнь на несколько часов, несколько дней, и увидеть самого себя – не только ради проверки и сравнения наших жизней, какими они станут в будущем без Оливера, но чтобы найти слова другому мне в этот краткий визит. Понравился бы он мне? Понравился бы я ему? Понял бы каждый из нас, почему он стал таким? Удивился бы каждый из нас, узнав, что другой, так или иначе, столкнулся с Оливером, мужчиной или женщиной? Могли ли мы оба сожалеть из-за того, кто остался с нами в то лето, возможно, это был бы один и тот же человек?
Мать ненавидела Павла, и она отговорила бы отца от любого, кого он предложил, прекратив доверять все руке судьбы. «Мы могли бы быть евреями, принимая решениях, – сказала она, – но этот Павел антисемит, и я не потерплю еще одного антисемита в своем доме».
Я вспомнил тот разговор. Он тоже отпечатался на его фотографии. «Так он тоже еврей», – подумал я.
А после я сделал именно то, что собирался сделать, всю ночь находясь в кабинете отца. Я притворился, что не знаю, кто такой этот парень Оливер. Это было последнее Рождество. Павел все еще пытался убедить нас принять своего друга. Лето еще не началось. Оливер должен был, скорее всего, приехать на машине. Я забрал бы его багаж, показал его комнату, проводил на пляж по лестнице среди камней, а позже, если позволит время, показал и всю нашу собственность вплоть до старой железнодорожной станции и рассказал о цыганах, живущих в заброшенных вагонах поезда с эмблемами Савойского королевского дома. Через несколько недель, если будет время, мы съездили бы на велосипедах в Б. Остановились бы освежиться. Я бы показал ему книжный. Я бы показал ему берму Моне. Все это еще не случилось.
***
Мы услышали о его свадьбе на следующее лето. Мы отправили подарки, и я добавил небольшую записку. Лето пришло и ушло. Меня часто одолевал соблазн рассказать ему о его «преемнике» и приукрасить истории о своем новом соседе по балкону. Но я ни разу ничего ему не отправил. Единственное посланное письмо спустя год – по случаю смерти Вимини. Он написал всем нам, выразив сочувствие. Он путешествовал в Азии, так что на момент, когда его письмо добралось до нас, оно стало утешением не для свежей раны, а для поверхностной царапины, которая однажды заживет сама по себе. Писать ему о Вимини напоминало пересечение старого моста между нами, особенно с учетом того, что мы решили больше никогда не ворошить прошлое, и, если уж на то пошло, мы никогда и не ворошили. Возможность написать ко всему прочему позволила рассказать, в какой колледж Штатов я поступил, если мой отец, всегда поддерживающий связь с прошлыми постояльцами, еще ему не сообщил. По иронии судьбы Оливер написал в ответ на мой адрес в Италии – еще одна причина запоздания.
Потом настали годы пустоты. Если бы я решил расставить реперные точки в своей жизни людьми, с кем делил постель, и если бы их можно было разделить на две категории: до и после Оливера – то самым великим даром, что сделала мне жизнь, оказалась возможность подвести к этому знаменателю весь отрезок времени. Многие помогли мне четче выделить в жизни «До Х» и «После Х» части, многие принесли с собой радость и горе, многие сбили мою жизнь с курса, в то время как другие не оказали совершенно никакого влияния. Поэтому Оливер, так долго выступавший мерилом жизни, в конечном счете приобрел преемников, затмевавших или низвергавших его до первого указательного знака, до второстепенного ответвления на дороге, до маленького сверкающего Меркурия, бегущего к Плутону и за него. Представляя это, я мог сказать: «Раньше я знал Оливера и еще не знал того и этого». И все-таки без «того и этого» я не представлял свою жизнь.
Однажды летом, спустя девять лет после последнего письма, мне в Штаты позвонили родители.
– Ты ни за что не угадаешь, кто заехал к нам на пару дней! В твоей старой спальне. И сейчас стоит прямо передо мной, – я уже догадался, конечно же, но сделал вид, что понятия не имею. – Тот факт, что ты отказываешься сказать о своих догадках, уже о многом говорит, – отец заявил это со смешком, прежде чем попрощаться.
Родители устроили небольшую перепалку, решая, кто передаст трубку. В конце концов, я услышал его.
– Элио.
Я слышал голоса родителей и визг детей на фоне. Никто не произносил мое имя так, как это делал он.
– Элио, – повторил я, подтверждая, с одной стороны, с другой – желая напомнить о нашей старой игре, которую я не забыл.
– Это Оливер, – а он забыл. – Мне показали твои фотографии, ты совсем не изменился… – он рассказал о своих двух сыновьях, которые прямо сейчас играли в нашей гостиной, восемь и шесть лет, мне стоит познакомиться с их матерью. – Я так счастлив снова оказаться здесь, ты даже не представляешь, не представляешь…
– Это самое красивое место в мире, – я притворился, будто он имел в виду наш дом и город.
– Ты не понимаешь, насколько я счастлив быть здесь.
Слова прощания, и он передал трубку матери. Она все еще договаривала ему что-то.
– Ma s’è tutto commosso91, – наконец сказала она мне.
– Я бы хотел сейчас оказаться там вместе с вами, – собранно ответил я, а внутри просыпались чувства к человеку, о котором я практически перестал думать.
Время делает нас сентиментальными. Возможно, в конце концов, именно время заставляет нас страдать.
***
Четыре года спустя, проезжая мимо его студенческого городка, я сделал необычную вещь: решил показаться на глаза. Я пришел на его дневную лекцию и после занятия, пока он убирал свои книги и складывал распечатки в папку, подошел к кафедре. Я не собирался заставлять его гадать, но и не собирался облегчать задачу.
Один из студентов хотел о чем-то расспросить. Я дожидался своей очереди. Студент, в конце концов, ушел.
– Ты, наверное, меня не помнишь…
Он прищурился, стараясь распознать меня, и вдруг отшатнулся, как будто охваченный страхом, что мы познакомились в месте, о котором лучше было бы не напоминать. Взгляд стал осторожным, ироничным, вопросительным. Неловкая, слабая улыбка. Словно он репетировал какую-то фразу, типа: «Боюсь, вы приняли меня за кого-то другого». Затем он замер.
– Боже мой! Элио! Твоя борода сбила меня с толку!
Он обнял меня и потрепал по щеке несколько раз, как будто я был даже моложе, чем в то давнее лето. Он обнял меня так, как не смог обнять в ту ночь, когда зашел в мою комнату сообщить о женитьбе.
– Сколько лет прошло?
– Пятнадцать. Я сосчитал по пути сюда, – и тут же добавил. – Нет, вообще-то это неправда. Я всегда знал.
– Пятнадцать, да… Только взгляни на себя! Слушай, давай выпьем, оставайся на ужин сегодня вечером, познакомишься с моей женой, моими мальчиками. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!
– Я был бы рад…
– Мне надо закинуть кое-что в офис, и мы можем быть свободны. Тут славная улочка вдоль стоянки.
– Ты не понял. Я был бы рад. Но я не могу.
«Не могу» не значило, что я был занят, оно значило, что я не мог найти в себе силы сделать это.
Он взглянул на меня, по-прежнему убирая бумаги в кожаный дипломат.
– Ты так и не простил меня, да?
– Простил? Мне нечего было прощать. Во всяком случае, я благодарен за все. Я запомнил только хорошее.
Я слышал, как люди говорили это в фильмах. Кажется, они действительно в это верили.
– Тогда почему?
Мы покинули его аудиторию и вышли в сквер на территории кампуса. Долгий, томный осенний закат Восточного побережья окрашивал окружающие холмы в ярко-оранжевый.
Как я собирался объяснить ему, или даже себе, почему не мог прийти в его дом и встретить его семью, хотя каждая частичка меня жаждала этого? Жена Оливера. Дети Оливера. Домашние животные Оливера. Исследования, рабочий стол, книги, мир, жизнь Оливера. Чего я ожидал? Объятия, рукопожатия, небрежного приятельства и в конце неизбежного «Бывай!»?
Сама возможность встретиться с его семьей неожиданно испугала меня – слишком реально, слишком внезапно, слишком прямо-в-лицо, недостаточно отрепетировано. Целые годы я упорно держал его в прошлом, моего замечательного возлюбленного. Заморозив, смешав с камфорными шариками воспоминания моих дружеских бесед с призраком по вечерам. Время от времени я сдувал с него пыль и возвращал обратно на каминную полку. Он более не принадлежал земле или жизни. В тот момент я, кажется, обнаружил не только расстояние между нашими жизнями, еще это было осознание, как велика была потеря. И эта потеря едва ли не сбивала с ног. О ней можно было размышлять в абстрактных терминах, но вживую она причиняла мне боль. Подобно ностальгии, причиняющей боль гораздо дольше свершившихся событий, потерянных вещей, решений не вспоминать.
А может быть, я завидовал его семье, той жизни, что он для себя создал, завидовал вещам, которые я никогда бы не разделил и возможно даже не узнал в своей жизни? Вещи, которых он жаждал, которые он любил и потерял, и потеря которых раздавила его. Он был счастлив с ними, но я этого не видел. Я не был первым, кому он о них сообщал. Я не был там, когда он их обрел, не был там, когда он сдался.
А может, все было гораздо, гораздо проще? Я пришел убедиться, что все еще что-то чувствую к нему, что внутри все еще что-то живо. Проблема была лишь в том, что я не хотел, чтобы что-то было живо.
Все эти годы, когда бы я ни думал о нем, я вспоминал либо Б., либо наши последние дни в Риме, и все это делилось на две сцены: балкон в сопровождении агонии и Санта-Мария-дель-Анима, где он толкнул меня к стене и поцеловал, позволив мне закинуть ногу на его. Каждый раз, возвращаясь в Рим, я приходил на то место. Оно до сих пор было живо для меня, все еще отзывалось чем-то удивительно реальным, как будто сердце, украденное из сказки По, все еще билось под древним сланцем тротуара, напоминая, как здесь я наконец-то столкнулся с жизнью, предназначенной для меня, но которую я не сумел удержать в своих руках. Я никогда не мог думать о нем в Новой Англии, хотя между нами было не более пятидесяти миль. Я продолжал представлять его застрявшим где-то в Италии, нереальным и призрачным. Места, где он жил прежде, также ощущались неодушевленными, и как только я пытался думать о них, они ускользали и исчезали, становясь нереальными и призрачными. Сейчас, как выяснилось, не только города в Новой Англии оказались очень живыми, но и он сам. Я легко мог столкнуться с ним годы назад, женатым или нет – в конце концов, это я, несмотря на все внешнее, был все это время нереальным и призрачным.
А может, я пришел с гораздо более низменными мотивами? Найти его, живущим в одиночестве, ожидающим меня, жаждущим вернуться в Б.? Да, обе наши жизни на искусственном дыхании, в ожидании, когда мы наконец-то встретимся и вернемся к мемориалу Пьяве.
В конце концов, у меня вырвалось:
– По правде говоря, я не уверен, что ничего не чувствую. И если я познакомлюсь с твоей семьей, я бы предпочел в тот момент ничего не почувствовать, – наступила драматичная пауза. – Возможно, это никогда не пройдет.
Говорил ли я правду? Или момент напряженный и деликатный, каким он был, заставил меня сказать вещи, в которых я никогда до конца не признавался сам себе и не мог поспорить, что из этого правда.
– Я не думаю, что это когда-либо пройдет, – повторил я.
– Итак.
Его «итак» стало единственным словом, подводящим черту под всей неопределенностью. Но возможно, это было и вопросительное «итак?» – как невероятное удивление из-за того, что я мог бы хотеть его спустя столько лет.
– Итак, – повторил я, словно обращаясь к измученной и грустной третьей стороне. Которой и являлся я.
– Итак, поэтому ты не можешь зайти выпить?
– Итак, поэтому я не могу зайти выпить.
– Вот же ты гусь лапчатый!
Я забыл и это его ругательство.
Мы добрались до его офиса. Он представил меня двум или трем коллегам, оказавшимся в отделе, и удивил своей полной осведомленностью о всех аспектах моей карьеры. Он знал все, был в курсе всех значительных деталей. В некоторых вопросах он располагал информацией, получить которую можно было только зарывшись в сеть. Это тронуло меня. Я считал, что он совершенно меня забыл.
– Хочу тебе кое-что показать.
В его офисе был большой кожаный диван. «Диван Оливера, – подумал я. – Вот где он сидит и читает». Бумаги были раскиданы по всему сиденью и полу, кроме небольшого места в углу под алебастровой лампой. «Лампа Оливера». Я вспомнил листы, устилавшие пол его комнаты в Б.
– Узнаешь ее?
На стене висела цветная репродукция плохо сохранившейся фрески бородатой фигуры Митры. Каждый из нас купил по такой в то утро у Сан-Клементе. Я не видел свою целые годы. Рядом с ней висела открытка бермы Моне. Я немедленно ее узнал.
– Она была моей, но ты владел ею гораздо дольше.
Мы принадлежали друг другу, но жили так далеко, что стали принадлежать другим. Сквоттеры и только сквоттеры были истинными претендентами на наши жизни.
– У нее давняя история.
– Я знаю. Когда я прикреплял ее, то увидел надпись на обороте, поэтому сейчас ты можешь легко ее снять. Я часто думал об этом парне, Мэйнарде. «Вспоминай меня иногда».
– Твой предшественник, – поддразнил я его. – Нет, ничего такого. Кому ты отдашь ее?
– Я надеялся, однажды один из моих сыновей передаст ее лично, когда приедет погостить. Я также добавил строчку от себя, но ты пока не можешь ее прочитать. Ты остановился в городе? – спросил он, сменив тему и надев плащ.
– Да. На одну ночь. Встречусь с кое-какими людьми завтра в университете, а потом уеду.
Он взглянул на меня. Я знаю, тогда он вспомнил ту ночь на Рождество, и он знал, что я это знал.
– Так значит, я прощен? – он сжал губы в молчаливом извинении.
– Давай выпьем в моем отеле, – я почувствовал, как он напрягся. – Я сказал «выпьем», а не «перепихнемся».
Он буквально покраснел, и я не мог отвести взгляд. Он все еще был удивительно красив, густые волосы, подтянутый, все еще бегал по утрам, как он сказал, кожа все такая же гладкая, как тогда. Только несколько веснушек на руках. «Веснушки», – эта мысль захватила меня.
– Что это? – я указал на его руку и коснулся их.
– Они у меня повсюду.
Веснушки. Они разбили мое сердце, мне хотелось прижаться губами к каждой из них.
– Слишком много солнца в юности. Кроме того, в этом нет ничего удивительного. Я старею. Через три года моему старшему сыну исполнится столько же лет, сколько было тогда тебе… фактически, он ближе к тому человеку, кем ты был, когда мы были вместе, чем ты к Элио, какого я тогда знал. Странный разговор.
«Так вот, как ты это называешь: ”когда мы были вместе”?» – подумал я.
В баре старого отеля Новой Англии мы нашли тихое местечко с видом на реку и большой цветущий в это время года сад. Заказав два мартини («Бомбей Сапфир», – уточил Оливер), мы сели рядом друг с другом в кабинку в форме подковы. Словно два мужа, вынужденные делить слишком близкое пространство, пока их жены отошли в дамскую комнату.
– Еще через восемь лет мне будет сорок семь, а тебе – сорок. Еще через пять мне будет пятьдесят два, а тебе – сорок пять. Тогда ты согласишься прийти на ужин?
– Да. Я обещаю.
– Иными словами, ты на самом деле хочешь сказать, что придешь, только будучи слишком старым, чтобы о чем-либо беспокоиться. Когда мои дети разъедутся. Или, когда я стану дедушкой. Я прямо вижу нас: тем вечером мы сядем рядом и выпьем крепкий кальвадос, как твой отец порой наливал граппу по вечерам.
– И как старики, сидящие по периметру piazzetta лицом к мемориалу Пьяве, мы поговорим о двух молодых людях, нашедших много счастья в нескольких неделях и проживающих остаток своих жизней, макая ватные тампоны в ту чашу счастья, боясь испить из нее больше, чем ритуальный наперсток в день праздника.
Мы замолчали.
Об одной вещи, настолько неуловимой, неосознаваемой, словно и не существовавшей вовсе, но всегда манившей к себе, я хотел рассказать и не мог. Это двое никогда не смогли бы отменить это, никогда не смогли бы переписать это, никогда не смогли бы стереть воспоминания или отпустить их – это просто застряло там, как вид светлячков над летним лугом, продолжая твердить: «Вы могли бы иметь все это вместо ваших нынешних жизней». Все обернулось провалом. Двигаться вперед – это ошибка. Смотреть в другую сторону – ошибка. Пытаться исправить свои ошибки тоже было бы ошибкой.
Их жизнь напоминала искаженное эхо, навсегда похороненное в усыпальнице Митра.
– Боже, как они завидовали нам через весь стол в ту первую ночь в Риме, – сказал он. – Пялились на нас: младший и старший… Мужчины, женщины – каждый за тем обеденным столом – пялились, потому что мы были так счастливы.
– И в тот вечер, когда мы состаримся, мы все еще будем говорить о тех двух молодых людях, как будто они незнакомцы, которых мы повстречали в поезде, которыми мы восхищались и которым хотели помочь. И мы бы хотели назвать это завистью, потому что, назвав это сожалением, мы бы разобили себе сердце.
Снова тишина.
– Возможно, я все еще не готов говорить о них, как о посторонних, – признался я.
– Если это позволит тебе почувствовать себя лучше, я не думаю, что кто-то из нас когда-либо сможет.
– Думаю, нам стоит выпить еще.
Он сдался прежде, чем в его голову пришел первый слабый аргумент о возвращении домой.
У нас были общие сведения друг о друге. Его жизнь, моя жизнь, что он сделал, что сделал я, что хорошего, что плохого. На что он надеялся, на что надеялся я. Мы избегали разговоров о моих родителях. Полагаю, он знал. Не спрашивая, он подтвердил эту догадку.
Прошел час.
– Твое лучшее воспоминание? – наконец прервал он.
Я немного подумал.
– Первая ночь, я помню ее лучше других, может, потому что я оказался слишком неумелым. Но еще Рим. Есть одно место на улице Санта-Мария-дель-Анима, я навещаю его каждый раз, оказавшись в столице. Мне достаточно взглянуть на него всего секунду, и все воспоминания неожиданно возвращаются. Я снова переношусь в ту ночи по пути из бара, когда ты меня поцеловал. Мимо шли люди, но мне было плевать, как и тебе. Тот поцелуй все еще отпечатан там, слава богу. Это все, что у меня осталось от тебя. Это и еще твоя рубашка.
Он помнил.
– А что у тебя? – спросил я в ответ. – Какой момент?
– Тоже Рим. Как мы пели вместе до самого рассвета на площади Навона.
Я совершенно об этом забыл. Тот вечер не закончился просто неаполитанской песней. Группа молодых голландцев достала гитары и пела песни Битлз одну за другой, и все вокруг главного фонтана присоединились к ним, и мы тоже. Даже Данте показался вновь, и тоже запел на своем ломаном английском.
– Они пели нам серенады или я что-то путаю?
Он взглянул на меня в недоумении:
– Они пели серенады тебе… и ты был беспамятно пьян. В конце концов, ты взял у одного гитару, начал играть и вдруг ни с того ни с сего начал петь. Они все уставились на тебя. Даже наркоманы слушали тебя, как овцы – Генделя. Одна из голландских девушек совершенно потеряла голову. Ты хотел забрать ее в отель, и она была не против. Что за ночь… В итоге мы оказались на открытой террасе одного из закрытых кафе за площадью, каждый из нас буквально рухнул на стул. Только ты, я и девушка – мы наблюдали за рассветом, – он взглянул на меня. – И я рад, что ты пришел.
– Я тоже рад, что пришел.
– Можно, я задам тебе вопрос?
Почему это вдруг заставило меня нервничать?
– Давай.
– Ты бы повторил все это, если бы мог?
Я взглянул на него:
– Почему ты спрашиваешь?
– Потому что. Просто ответь.
– Повторил бы я? В ту же секунду. Я выпил два и собираюсь заказать третий.
Он улыбнулся. Очевидно, настал мой черед задать такой же вопрос, но я решил не смущать его. Это был мой любимый Оливер: тот, кто думал, как и я.
– Видеть тебя сейчас, словно пробудиться от двадцатилетней комы. Ты оглядываешься и понимаешь, что твоя жена ушла от тебя, твои дети, чье детство ты совершенно упустил, выросли во взрослых мужчин, кто-то уже женился, твои родители умерли давным-давно, у тебя нет друзей, и это личико, глядящее на тебя через очки, принадлежит никому иному, как твоему внуку, приехавшему поприветствовать дедушку после долгого сна. Твое отражение в зеркале бледное, как лицо Рип ван Винкля. Но вот в чем загвоздка: ты все еще на двадцать лет моложе окружающих. Поэтому я могу быть двадцатичетырехлетним – в ту же секунду и я двадцатичетырехлетний. И если ты немного увеличишь срок, однажды я могу проснуться и окажусь моложе моего младшего сына.








