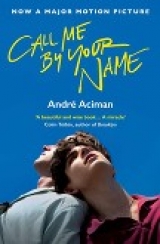
Текст книги "Зови меня своим именем (ЛП)"
Автор книги: Андре Асиман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
Я завидовал их жизни, вернувшись мыслями к жизни моих родителей, совершенно лишенной эротики, но наполненной отупляющими обедами и обеденной каторгой, к нашей кукольной жизни в нашем кукольном доме и моему надвигавшемуся выпускному классу. Все казалось детской игрой по сравнению с этим. Зачем уезжать в Америку через год, когда я могу просто провести следующие четыре года здесь, устраивая чтения, болтая, как это делают все они? Здесь было гораздо больше вещей, которым следовало научиться, чем в университетах по ту сторону Атлантики.
Пожилой мужчина с куцей длинной бородкой и животом Фальстафа подал мне стаканчик виски:
– Ecco63.
– Для меня?
– Конечно, для тебя. Тебе понравились стихи?
– Очень сильно, – почему-то я старался звучать иронично и фальшиво.
– Я его крестный отец, и я уважаю твое мнение, – сказал он, словно увидев насквозь мой блеф и решив не давить. – Но еще больше я уважаю твою молодость.
– Через несколько лет, я вам обещаю, во мне будет гораздо меньше молодости, – я попытался перенять ту самоиронию, что была присуща всем окружающим мужчинам, хорошо знавшим самих себя.
– Да, но меня уже не будет, чтобы это заметить, – были ли это нападки с его стороны? Он снова подал мне стаканчик. – Так что бери.
Я помедлил, прежде чем взять его. Это был тот же самый виски, что пил дома отец.
Люсия заметила это:
– Tanto64, на виски больше или меньше – это не сделает тебя менее развратным, чем ты уже есть.
– Я бы хотел быть развратным, – я повернулся к ней, игнорируя Фальстафа.
– Почему, чего не хватает в твоей жизни?
– Чего не хватает в моей жизни? – я хотел сказать «всего», но поправил сам себя. – Друзей, здесь все так легко становятся ими, я бы хотел иметь таких друзей, как у вас, как вы.
– Будет уйма времени для такого рода дружбы. Но спасут ли тебя друзья от dissoluto? – это слово возвращалось вновь и вновь словно обвинение за мою глубокую и уродливую черту характера.
– Я бы хотел иметь одного друга, которого мне было бы суждено не потерять.
Она взглянула на меня с задумчивой улыбкой:
– Ты говоришь о целых томах, мой друг, а сегодня мы обсуждаем лишь короткие стишки, – она не отводила глаз. – Я чувствую к тебе что-то, – ее ладонь в легком и грустном жесте коснулась моей щеки, как будто внезапно я стал ее ребенком.
Мне это тоже нравилось.
– Ты еще слишком молод, чтобы понять, о чем я говорю… но однажды, скоро, я надеюсь, мы поговорим вновь и посмотрим, достаточно ли я взрослая, чтобы забрать свое слов этого вечера обратно. Scherzavo65, – поцелуй в мою щеку.
Что это был за мир! Она была вдвое старше меня, но я мог заняться с ней любовью в тот момент и разделить ее слезы.
– Мы собираемся поднимать тост или нет? – кто-то закричал на другом конце магазина.
Вокруг стояла какофония звуков.
А потом пришло это. Рука на моем плече. Аманда. И еще одна рука на моей талии. Ох, я знал эту руку так хорошо. «Пусть она не исчезает этим вечером. Я боготворю каждый ее палец, каждый обкусанный ноготь на каждом пальце, мой дорогой, дорогой Оливер, не отпускай меня пока что, мне нужна твоя рука здесь». Вдоль позвоночника пробежали мурашки.
– И меня зовут Ада, – кто-то произнес это, почти извиняясь, словно прекрасно зная, что слишком долго добирался к нам, и сейчас, добравшись, решил оповестить всех в нашем уголке, что именно она – Ада и именно о ней, безусловно, мы все здесь говорили. Было что-то резкое и вздорное в ее голосе, или в выборе момента назвать свое имя, или в нежелании принимать все всерьез – книжные чтения, знакомства, даже дружбу – неожиданно это раскрыло мне, в какой заколдованный мир я вошел тем вечером.
Я никогда не путешествовал по этому миру. Но я любил этот мир. И я полюбил бы его еще больше, выучив его язык, потому что это был мой язык, та форма обращения, где наши глубочайшие страстные порывы втайне обернуты в шутки, не потому что безопаснее надеть улыбку на наши страхи, но потому что оттенки желания, всего желания мира, в который я ступил, могли быть выражены только в игре.
Все были открыты, жили открыто – как и весь город – и допускали, что остальные желали того же. Я страстно жаждал быть как они.
Владелец магазина позвонил в колокольчик кассы, и все замолчали.
Слово взял поэт.
– Я не собирался читать это стихотворение сегодняшним вечером, но поскольку кое-кто, – здесь он возвысил голос, – кое-кто упомянул его, я не смог отказаться. Оно называется «Синдром Сан-Клементе». Должен признать, то есть, если стихотворцу позволено так сказать о своей работе, «мое любимое», – позже я узнал, что он никогда не называл себя поэтом, – потому что оно было самым сложным, потому что оно наводило на меня ужас, потому что оно спасло меня в Таиланде, потому что оно объясняет всю мою жизнь мне самому. Я считал свои дни, свои ночи, держа в голове Сан-Клементе. Вариант вернуться в Рим, не закончив это стихотворение, пугал меня гораздо больше еще одной недельной задержки в аэропорту Бангкока. И все-таки именно в Риме, где мы живем не в двухстах метрах от базилики Сан-Клементе, я добавил завершающие штрихи стихотворению, которое по иронии начал миллионы лет назад в Бангкоке, ощущая Рим на расстоянии галактики.
Пока он читал свои стихи, мне пришла в голову мысль, что, в отличие от него, я всегда находил способ избежать подсчета дней. Мы разъезжались через три дня – и, несмотря на то, что было между мной и Оливером, оно должно было подняться в воздух и раствориться. Мы разговаривали о встрече в Штатах и обсуждали письма и телефонные звонки. Но скорая разлука имела свойство таинственное, сюрреалистическое, словно намеренно скрывалась нами за непрозрачным пологом. Не потому что мы хотели, чтобы вещи застали нас врасплох и мы могли бы винить во всем обстоятельства, а не самих себя, но потому что, не планируя сохранить вещи живыми, мы отрицали саму возможность, что они могут умереть. Мы приехали с общим чувством избегания: Рим стал последней тусовкой, прежде чем учеба и путешествие разлучили бы нас. Рим стал способом расстаться, продлив вечеринку чуть дольше после закрытия. И, может быть, того не понимая, мы ухватили гораздо больше, чем просто короткий отпуск: мы сбежали вместе, но с билетами обратно в разные концы света.
Возможно, это был его подарок мне.
Возможно, это был подарок моего отца нам обоим.
«Смогу ли я прожить без его руки на моем члене или бедрах? Не целуя и не скользя по ссадине у него на боку, которая будет заживать еще недели, но уже вдали от меня? Кого еще я когда-либо смогу назвать своим именем?
Будут другие, конечно, и другие после других, но называть их моим именем в момент страсти будет вторичным наслаждением, притворством».
Я вспомнил опустевший шкаф и собранный чемодан рядом с его кроватью. Скоро я должен был вновь спать в комнате Оливера. Спать рядом с его рубашкой, спать в его рубашке.
Стихи закончились, больше аплодисментов, больше торжественности, больше выпивки. Подходило время закрытия магазина. Я вспомнил о закрытии книжного в Б. Тогда я был с Марсией. Как давно, насколько иначе. Как совершенно неправдоподобна она теперь.
Кто-то предложил всем вместе отправиться на поздний ужин. Всем – это почти тридцати. Кто-то другой предложил ресторан на озере Альбано. Вид ресторана под звездным небом возник в моем воображении, как образ из древних книг Средневековья. «О, нет! Не так далеко!» – возразил кто-то из гостей. «Да, но представьте огни на озере!..» «Огни на озере ночью подождут другого раза». «Может, что-нибудь по улице Кассия?» «Да, но это не решит проблему машин: у нас их недостаточно». «Нет же, у нас их хватает. Никто же не будет против присесть на кого-то сверху?» «Разумеется, нет! Особенно, если удастся сесть рядом с этими двумя красавицами!» «А что если Фальстаф сядет с ними?»
Было всего пять машин, и они были припаркованы в разных узеньких улочках поблизости от книжного. Поскольку мы не могли приехать все разом, мы собирались возле Мульвиева моста, а после – вверх по Кассие к trattoria66, расположение которого знал один-единственный человек.
Мы добирались минут сорок-сорок пять – это гораздо дольше, чем дорога к Альбано, где огни в ночи… Это был большой al fresco trattoria67 с клетчатыми скатертями на столах и расставленными повсюду противомоскитными свечами. Было около одиннадцати ночи. Воздух все еще был очень влажным. Он оседал на наши лица, на нашу одежду, мы выглядели уставшими и взопревшими. Даже скатерти выглядели уставшими и взопревшими. Но ресторан располагался на возвышенности, и время от времени туда добирался ветерок, шелестя листвой окружающих деревьев. Было ясно, что завтра снова будет дождь и сырость никуда не денется.
Официантка, женщина лет шестидесяти, быстро подсчитала нас и попросила помочь расставить столы в форме подковы, что было немедленно исполнено. Она спросила наш заказ. «Слава богу, нам не надо выбирать, потому что выбирать блюда с ним, – сказала жена поэта, – это еще час размышлений, и к тому времени на кухне закончится любая еда». Она пробежалась по длинному списку antipasti68, немедленно возникшей на столах: хлеб, вино, минеральная вода, frizzante и naturale69.
– Простая пища, – объяснила она.
– Простота – то, чего мы хотим, – эхом отозвался поэт. – В этом году мы опять в долгах.
Еще тост за него. За издателя. За владельца магазина. За жену, за дочерей, за кого еще?
Смех и дружеская атмосфера. Ада изъявила желание произнести небольшую импровизированную речь. «Ну, не совсем импровизированную», – поправилась она. Фальстаф и Тукан приложили к ней руку.
Тортеллини в сметане возникли на наших столах лишь через полчаса. До того момента я решил не притрагиваться к вину из-за выпитых впопыхах двух стаканчиков шотландского виски, чей эффект начал полностью проявляться только сейчас. Три сестры сидели между нами, и все с нашей стороны расположились очень кучно. Рай.
Гораздо позже появилось второе блюдо: тушеное мясо с горохом. Салат.
Затем сыры.
За одним блюдом следовало другое, мы разговорились о Бангкоке.
– Все там красивы, но красивы как неожиданный гибрид, скрещенный образец, вот почему я хотел отправиться туда, – сказал поэт. – Они не азиаты, не белые, а евроазиаты – слишком простой термин. Они экзотичны в чистом смысле этого слова, и, тем не менее, они земные. Вы немедленно узнаете их, даже если прежде ни разу не видели, и вы ни за что не поймете, что в них есть от вас и что в вас есть от них.
Сначала я думал, они полностью другие. Позже я осознал: они иначе ощущают вещи. Они невыразимо милые, милые настолько, что нельзя представить кого-то настолько милого здесь. О, мы можем быть добры, и мы можем проявить заботу, и мы можем быть очень, очень добродушными и солнечными, страстными на средиземноморский манер, но они милые, самоотверженно милые. Это в их сердцах, в их телах, без налета горя или злобы, они милые как дети, без иронии и смущения. Мне было стыдно за свои чувства к ним. Это могло быть раем, как я и представлял прежде. Двадцатичетырехлетний ночной портье в моем допотопном отеле носил бескозырку, видел всех входящих и выходящих, смотрел на меня, и я смотрел в ответ. У него были девичьи черты. Он выглядел как девушка, выглядящая как парень. Девушка в отделении Американ Экспресс смотрела на меня, и я смотрел в ответ. Она выглядела как парень, выглядящий как девушка, при этом она и была парнем. А молодежь, парни и девушки, всегда хихикали, если перехватывали мой взгляд. Даже девушка в консульстве, свободно говорящая по-милански, и студенты, в одно и то же время ждущие один и тот же со мной автобус, смотрели на меня, и я смотрел в ответ – все это как будто лишний раз подтверждало мои размышления, что на самом деле все мы, люди, говорим на одном зверином языке.
Еще один раунд граппы и самбуки.
– Я хотел переспать с каждым таиландцем. И каждый таиландец, как выяснилось, флиртовал со мной. Вы не можете и шагу ступить, не запав на кого-нибудь.
– Держи, сделай глоток граппы и скажи, разве это не работа ведьмы, – прервал владелец магазина. Поэт позволил официанту наполнить свою стопку повторно. В этот раз он выпил медленно. Фальстаф прикончил ее за глоток. Straordinario-fantastico шумно проглотила. Оливер облизал губы. Поэт сказал, что выпивка молодит.
– Мне нравится пить граппу по ночам, это бодрит. Но ты, – он посмотрел на меня, – не поймешь. В твоем возрасте, бог знает, ты не нуждаешься в заряде бодрости, – он взглянул на меня через стопку. – Ты чувствуешь это?
– Чувствую что?
– Она бодрит.
Я сделал еще глоток:
– Не очень.
– Не очень, – повторил он с недоумением, его взгляд стал разочарованным.
– Все потому что в его возрасте, бодрость в нем сама по себе, – добавила Люсия.
– Все верно! – сказал кто-то. – Твое «бодрит» работает только с теми, кто совершенно размяк!
– В Бангкоке нетрудно взбодриться. Однажды теплой ночью в своей комнате я едва не сошел с ума. То ли это было одиночество, то ли гвалт людей с улицы, то ли происки дьявола. Но именно тогда я начал думать о Сан-Клементе. Оно пришло ко мне, как неясное, туманное чувство: немного возбуждения, немного тоски по дому, немного метафоричности. Ты едешь куда-то, имея в голове картинку, и ты хочешь парочку таких картинок со всей страны. А потом ты выясняешь, что ты и придуманный тобой образ не имеете ничего общего. Ты не понимаешь никаких базовых знаков и жестов, а раньше считал: их разделяет все человечество. Ты решаешь: это все ошибка, все было лишь в твоей голове. Потом ты копаешь глубже и выясняешь, несмотря на твои обоснованные сомнения, что все еще хочешь их всех, но не знаешь, чего именно, и не знаешь, чего они хотят от тебя, потому что они тоже, как выясняется, все смотрят на тебя с единственной мыслью в голове. Но ты убеждаешь себя в ошибочности этих домыслов. И ты готов паковать вещи и лететь обратно в Рим, потому что все эти мимолетные сигналы сводят тебя с ума. Но потом что-то неожиданно щелкает, раскрывается, как секретная подземная тропа, и ты понимаешь: они тоже в отчаянии и страдают из-за тебя. И самая худшая вещь заключается в том, что, несмотря на весь твой опыт, чувство иронии, умение преодолеть смущение в любой ситуации, где бы оно ни грозило показаться, ты все равно впадаешь в ступор. Я не знал их язык, не знал язык их сердец, не знал даже свой собственный. Все было скрыто вуалью: то, что я хотел; то, что я не знал, что хотел; то, что я не хотел знать, что хотел; то, что я всегда знал, что хочу. Все это тоже было миражом. Или адом.
Как всякий пережитый опыт, который накладывает свой отпечаток на нас до конца дней, я обнаружил себя разорванным изнутри, выпотрошенным и четвертованным. Это было итогом того, кем я являлся в жизни и даже больше: кем я был, когда пел и тушил овощи для своей семьи и друзей воскресными днями; кем я был, когда просыпался холодными ночами и ничего не хотел так сильно, как теплый свитер, добраться до письменного стола и написать о человеке, кого, как я знаю, никто не знает, но который на самом деле был мной; кем я был, когда жаждал оказаться голым рядом с другим голым телом, или когда я жаждал оказаться единственным в мире; кем я был, когда ощущал каждую частичку своего тела в бесконечности друг от друга, и каждая частичка при этом клялась, что все еще принадлежит мне.
Я назвал это синдромом Сан-Клементе. Сегодняшняя базилика Сан-Клементе построена на фундаменте бывшего убежища для преследуемых христиан. Дом римского консула Тита Флавия Клеменса, сожженный во времена правления Нерона. Рядом с его обугленными останками римляне построили подземный языческий храм Митры, бога Утра и Света в мире. Должно быть, то место изобиловало подземными пещерами. По прошествии лет ранние христиане построили над ним еще один храм, посвященный – совпадение или нет, это вопрос дальнейших раскопок – другому святому – Папе Клементу. На нем построили еще один храм, впоследствии сожженный. И уже на его фундаменте покоится нынешняя базилика. А раскопки могут продолжаться и продолжаться. Как подсознание, как любовь, как память, как время само по себе, как каждый из нас, базилика построена на руинах более ранних храмов. В ней нет камней фундамента, нет ни начала, ни конца, только слои, секретные ходы и запечатанные комнаты. Почти как христианские катакомбы. И рядом с ними – даже еврейские катакомбы.
Но, как сказал Ницше, друзья мои, я раскрыл вам мораль до притчи.
– Альфредо, любовь моя, пожалуйста, сократи ее.
К тому моменту управляющий ресторана понял, что мы все еще никуда не собираемся, и распорядился подать всем граппы и самбуки.
– Так вот, в ту теплую ночь, когда я думал, что сойду с ума, я спустился в допотопный бар моего допотопного отеля. За соседним столом оказался ночной портье все в той же странной бескозырке. «Не на службе?» – спросил я. «Нет», – ответил он. «Почему тогда вы не отправитесь домой?» «Я живу здесь. Просто хочу выпить перед сном».
Я смотрел на него, и он смотрел в ответ.
Без промедления он взял свой стакан в одну руку и графин в другую. Я подумал, что оскорбил его, что он хочет побыть один и решил пересесть подальше. Как вдруг – только представьте! – он подходит к моему столу и садится напротив. «Хотите попробовать?» – спросил он. «Конечно, почему нет», – подумал я. В Риме, в Таиланде… конечно, я слышал всякие истории, и, полагаю, в этом было что-то сомнительное и подозрительное, но решил подыграть.
Он щелкнул пальцами и безапелляционно заказал мне чистую стопку. Быстрее сделано, чем сказано.
«Глотните».
«Мне это может не понравится», – заметил я.
«Все равно попробуйте», – он налил немного мне и себе.
«Довольно вкусный напиток», – стопка казалось такой маленькой, как наперсток моей бабушки, с которым она штопала носки.
«Попробуйте еще, чтобы удостовериться».
Я выпил еще одну стопку. Не задавал вопросов, что это. Оно напоминало граппу, только более сильное и менее терпкое.
А ночной портье все смотрел на меня. Мне не нравилось находиться под таким пристальным вниманием. Его взгляд был практически невыносим! Я едва не захихикал.
«Вы на меня смотрите», – в конце концов, сказал я.
«Я знаю, – он наклонился ближе ко мне. – Потому что вы мне нравитесь».
«Послушайте…»
«Давайте выпьем еще по одной», – он наполнил наши стопки.
«Позвольте мне сказать иначе: я не…» – но он не дал мне закончить.
«Еще больше оснований выпить».
Мой разум включил красный сигнал тревоги. Они напоят тебя, она заберут тебя невесть куда, они обкрадут тебя, и, когда ты пожалуешься в полицию, не менее коррумпированную и криминальную, чем сами воры, они примут все заявления и сделают копии в подтверждение. Еще меня захватила обеспокоенность по поводу счета за выпивку: он мог быть астрономическим. Старый книжный трюк, когда один заказывает разбавленный чай и притворяется пьяным. Я же не вчера родился, черт возьми!
«Не думаю, что я действительно заинтересован. Пожалуйста, давайте мы…»
Еще стопки.
Улыбки.
Я собирался в очередной раз протестовать, но практически услышал его «еще по одной». Из-за этого я рассмеялся.
Ему было плевать, почему я смеюсь, его волновало лишь, чтобы я продолжал улыбаться.
Он налил еще себе.
«Послушай, amigo70, я надеюсь, ты понимаешь, я не буду за это платить», – маленький буржуй во мне, в конце концов, проснулся. Я знал все эти крошечные тонкости, которые всегда, абсолютно всегда можно провернуть с иностранцем.
«Я не прошу вас заплатить за выпивку. Или за меня».
Иронично, но он не был оскорблен. Он наверняка догадывался, к чему все шло. Должно быть, проделывал такое миллионы раз… издержки работы, возможно.
«Вот, еще одна… за дружбу».
«Дружбу?»
«Вам нечего бояться меня».
«Я не буду с тобой спать».
«Может быть, не будете. Может быть, будете. Ночь молода. И я не сдаюсь».
На этом моменте он снял бескозырку, выпуская волосы. Я не мог представить, как столько волос могли быть уложены под такой маленькой шапочкой. Он оказался женщиной.
«Расстроились?»
«Нет, наоборот».
Тонкие запястья, застенчивое выражение лица, мягкая кожа, обласканная солнцем, нежность, казалось, перельется через край в ее глазах, без самоуверенной напористости тех, кто вертится вокруг с душераздирающими обещаниями ночи сладострастия и целомудрия. Был ли я расстроен? Возможно, потому что острота ситуации исчезла.
Рука коснулась моей щеки и замерла там, словно старалась стереть шок и удивление. «Теперь лучше?»
Я кивнул.
«Вам надо выпить еще».
«И тебе тоже», – сказал я, в этот раз разлив нам выпивку.
Я спросил ее, почему она намеренно вводит людей в заблуждение, притворяясь мужчиной. Я ожидал ответа в стиле «так безопаснее», учитывая сферу работы, или что-то чуть более щегольское: «Ради таких моментов».
Тогда она ухмыльнулась, на этот раз искренне, как будто собиралась устроить шаловливую выходку, а не потому что была слегка разочарована или удивлена моим вопросом. Она ответила: «Но я парень».
Она кивала в ответ на мое неверие, как будто даже кивок был частью этой выходки.
«Ты парень?» – я был не менее разочарован, чем когда узнал, что она не парень.
«Боюсь, что да».
Оперевшись обоими локтями на стол, он подался ближе, почти соприкасаясь кончиком носа с моим, и сказал: «Вы мне очень нравитесь, синьор Альфредо. И я нравлюсь вам тоже, очень, очень сильно – и вся прелесть в том, что мы оба это знаем».
Я смотрел на него, на нее, кто знает. «Давай выпьем еще».
«Я как раз собирался предложить, – сказал мой озорной друг. – Так вы предпочли бы видеть меня мужчиной или женщиной?» Его вопрос был странный, как будто можно было легко переключать наше филогенетическое древо.
Я не знал, что ответить. Мне хотелось сказать: «Я бы предпочел видеть тебя intermezzo71», – поэтому я признался: «Я хочу видеть тебя обоими или кем-то между ними».
Казалось, он опешил: «Шаловливый, какой же вы шаловливый», – как будто впервые за эту ночь мне удалось его поразить действительно чем-то развратным.
Когда он поднялся в туалет, я заметил, что он все-таки был женщиной и носил шпильки. Я не мог оторвать взгляда от самой прекрасной кожи самых прекрасных лодыжек.
Она знала, что опять подловила меня, и захихикала.
«Не присмотрите за моим кошельком?» – она попросила об этом, очевидно сочтя, что в противном случае я бы мог расплатиться и покинуть бар.
Это то, что в двух словах я называю синдромом Сан-Клементе.
Раздались аплодисменты, и это были задушевные аплодисменты. Нам понравилась не только история, но и рассказчик.
– Evviva il sindromo di San-Clemente72, – произнесла Straordinario-fantastico.
– «Sindromo» не мужского рода, а женского, «la syndrome», – поправил кто-то, сидящий рядом с ней.
– Evviva la sindrome di San-Clemente! – воскликнул один мужчина, которому явно не терпелось что-нибудь выкрикнуть. Он с несколькими друзьями прибыли на ужин гораздо позже остальных, выкрикивая на римском диалекте «Lassatece passà!»73 владельцу ресторана и желая тем самым обозначить свое прибытие остальной компании. Все давно поели. Его машина не туда свернула близ Мульвиева моста. Он не сразу нашел ресторан. И так далее. В результате он пропустил два первых блюда и сейчас сидел в конце стола вместе с остальными опоздавшими, доедая остатки сыра. Плюс по два открытых пирога с фруктами, потому что больше в кухне ресторане ничего не осталось. Он решил восполнить нехватку еды вином. Он услышал бóльшую часть речи поэта о Сан-Клементе.
– Я считаю, вся эта клементизация, – сказал он, – весьма очаровательна, хотя я совершенно не представляю, как твоя метафора поможет нам разобраться в самих себе, разобраться в наших желаниях, устремлениях. Не более чем вино, что мы пьем! Но если работа поэта подобна работе вина и позволяет нам увидеть двойной силуэт, то я предлагаю еще один тост, пока мы не напьемся достаточно, чтобы видеть мир четырьмя глазами – а если мы не будем осторожны, то и всеми восемью!
– Evviva! – прервала Аманда, поднимая стакан в сторону опоздавших, желая тем самым их заткнуть.
– Evviva! – подхватили все остальные.
– Лучше напиши еще книгу или стихотворение… и поскорее, – сказала Straordinario-fantastico.
Кто-то предложил пройти к фургончику с мороженым, расположенному недалеко от ресторана. «Нет, пропустим мороженое, давайте сразу перейдем к кофе». Мы все утрамбовались в машины и проехали по Ланготевере в сторону Пантеона.
Я был счастлив, сидя в машине. Но я не прекращал думать о базилике и тому, как это похоже на наш вечер, одна вещь тянет за собой другую, и другую, к чему-то совершенно непредсказуемому. И едва ты решишь, что цикл наконец замкнулся, происходит что-то новое, и за ним – еще, пока ты не осознаешь, что в любой момент ты можешь вернуться к началу в самое сердце древнего Рима. «Сутки назад мы плавали под луной. А сейчас мы оказались здесь. Через несколько дней Оливер уедет. Если бы только он вернулся в это же время через год». Я взял его под руку и прислонился к Аде. Меня разбирала дрема.
Было около часа ночи, когда наша компания добралась в «Sant’Eustachio». Мы заказали всем кофе. Кажется, я понял, почему все обожали кофе в «Sant’Eustachio». Или я хотел бы думать, что понял, не будучи уверенным, что он мне нравится. Возможно, никто не был уверен, но, поддавшись всеобщему порыву, каждый клялся, что не может без него жить. Огромная толпа, пьющих кофе стоя или сидя, собралась перед знаменитой римской кофейней. Мне нравилось наблюдать за этими легко одетыми людьми. Я был окружен ими, и все мы в тот момент любили ночь, любили город, любили горожан и жгуче желали разделить это с кем-нибудь. Любовь к чему угодно, что позволит этой небольшой группе людей побыть рядом чуть дольше.
После кофе, когда все должны были бы разойтись, кто-то сказал: «Нет, мы еще не можем попрощаться». Кто-то предложил паб неподалеку. Лучшее пиво в Риме. Почему нет? Мы двинули в его сторону вниз по длинной и прямой улочке в сторону Кампо-деи-Фиори. Люсия шла между мной и поэтом. Оливер, разговаривая с двумя сестрами, был за нами. Старик сошелся с Straordinario-fantastico, и они оба беседовали о Сан-Клементе.
– Что за метафора жизни! – восклицала Straordinario-fantastico.
– Пожалуйста! Не стоит переусердствовать с клементофикацией этого и клементизацией того. Это всего лишь фигура речи, вы же понимаете, – отвечал Фальстаф, добавив щепотку славы своему крестнику в ту ночь.
Заметив, что Ада идет одна, я притормозил и взял ее за руку. На ней было белое платье, и ее загорелая кожа поблескивала. Мне хотелось прикоснуться к каждой поре на ее теле. Мы не разговаривали. Я слышал стук ее каблуков по тротуару. В темноте она казалась привидением.
Мне хотелось, чтобы эта прогулка длилась вечно. Тихая и пустая улочка была погружена в дымку влажного воздуха, а ее мощеные булыжники отражали блики фонарей, как будто древний разносчик пролил вязкое масло из своей амфоры, прежде чем исчезнуть в подземельях древнего города. Все покинули Рим. И опустевшая столица, видевшая столь многое и видевшая всех, сейчас принадлежала только нам и поэту, создавшему это волшебство, пусть и на одну ночь. Парниковая мгла не собиралась отступать. Мы могли сделать круг, и никто бы не заметил, никто не был бы против.
Пока мы спускались вниз по пустым лабиринтам скудно освещенных улочек, мне становилось все интереснее, что все эти разговоры о Сан-Клементе сделали с нами – как мы движемся сквозь время, как время течет сквозь нас, как мы меняемся, продолжаем меняться и возвращаемся на исходную. Кто-то может состариться, не узнав ничего, кроме этого. «Таков урок поэта», – полагал я. Через месяц или около того, когда я снова посетил бы Рим, наш небольшой отпуск с Оливером здесь показался бы абсолютно нереальным, как будто случился с совершенно другим мной. И желание, родившееся тут три года назад, когда мальчик на побегушках, пригласивший в дешевый кинотеатр, известно, зачем, казалось бы не менее несбыточным через три месяца. Он пришел. Он ушел. Ничего не изменилось. Я не изменился. Мир не изменился. И все-таки ничто более не могло быть прежним. Все это должно было остаться сном и странным воспоминанием.
Паб практически закрывался, когда мы подошли.
– Мы работаем до двух.
– Что ж, у нас все еще есть время на стаканчик!
Оливер хотел мартини, американский мартини.
– Что за блестящая идея! – поддержал поэт.
– Мне тоже! – поддержал кто-то из гостей.
Музыкальный автомат выдавал заезженный июльский хит. Услышав слово «мартини», старик и издатель сделали аналогичный выбор.
– Ehi! Taverniere!74 – прокричал Фальстаф.
Официант сказал, мы можем взять либо вино, либо пиво; бармен ушел рано тем вечером, потому что его мать тяжело болела и оказалась в больнице. Все давились смехом из-за акцента официанта. Оливер уточнил, какую плату они брали за мартини. Официант прокричал этот вопрос девушке за кассой. Она назвала цену.
– Ну, что если я сделаю коктейли, а вы поставите счет за все смешанные напитки?
Официант и кассир долго молчали. Владелец паба давно ушел.
– Почему бы и нет, – сказала девушка. – Если вы знаете, как это делать, faccia pure75.
Порция аплодисментов Оливеру, вставшему за стойку. За секунду добавив лед и вермут в джин, он принялся энергично трясти шейкер, но не нашел маленького холодильника под стойкой. На помощь пришла кассир, тут же достав миску:
– Оливки, – она сказала это, глядя прямо на него, таким тоном, словно говоря: «они были у тебя под носом, куда ты смотрел?» – Еще что-нибудь?
– Может, я уговорю вас выпить с нами? Это был сумасшедший вечер. Один коктейль не сделает его хуже. Сделаю вам небольшой. Хотите, я вас научу?
И он принялся объяснять тонкости приготовления сухого мартини. Он был не против побыть барменом.
– Где ты этому научился, – спросил я.
– Базовый курс миксологии. Преподавался в Гарварде. По выходным я зарабатывал себе на жизнь, подрабатывая барменом в колледже. Потом я стал шеф-поваром, потом ресторатором. Но прежде всего – покер.
Каждый раз, как он говорил о своих студенческих годах, словно набирала яркости волшебная лампа. Те годы принадлежали другой жизни. Жизни, к которой у меня не было доступа, потому что она принадлежала прошлому. Доказательства ее существования просачивались в настоящее, как сейчас, в его умении смешивать напитки, или разбираться в секретах граппы, или находить язык с любой женщиной, или в таинственных квадратах конвертов со всего света, доставленных к нам и адресованных ему.
Я никогда не завидовал его прошлому, не чувствовал из-за этого угрозы. Все эти грани его жизни имели таинственные черты тех же событий, что произошли с моим отцом задолго до моего рождения, но чьи отголоски слышались до сих пор. Я не завидовал жизни до меня, мне не хотелось до боли путешествовать в прошлое, когда ему было столько же лет, сколько мне.








