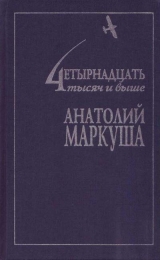
Текст книги "Завещание грустного клоуна"
Автор книги: Анатолий Маркуша
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
15
Не однажды жена допрашивала меня с пристрастием – почему, ну почему все герои твоего несравненного Хемингуэя, только к ним привяжешься, прикипишь душой, непременно погибают? Ведь все концы в его произведениях непременно плохие, почему? Не так оно просто отвечать за автора. Думаю, писателем руководила лишь правда жизни и ничего более – человек смертен, и тот, кто нами ведает, не выдумал альтернативного варианта существования на планете Земля. Стоит ли возражать против такой данности? Едва ли. Верно, смириться с неизбежностью смерти бывает не просто, особенно в детстве. Помню, как ребенком я просыпался в холодном поту, скованный мерзким, липучим страхом и думал, думал, думал, вглядываясь в ночную черноту – как это так, как это может случиться, что меня вдруг не станет? Совсем? Навсегда?
С годами ночные ужасы отступили, не исчезли – приутихли, стушевались. Видать, природа позаботилась – человек не смог бы исполнять своего земного предназначения в постоянном оцепенении от черных мыслей.
И странное дело, стоило только приобщиться к авиации, казалось бы, приблизиться к возможности закончить бренное свое существование задолго до старости, как страхи ушли куда-то далеко в сторону, провалились вглубь сознания. А ведь пережить пришлось такого…
На авиационном празднике в Тушино парашютист покидает борт У-2 и падает, падает, падает, не раскрывая парашюта, пока не впечатывается в землю. Кошмарный мокрый шлепок – и нет человека, а праздник продолжается…
Годы спустя выруливаю на взлетную полосу. Мой грациозный истребитель Ла-15 чуть-чуть пританцовывает на бетоне, когда я вдруг вижу – окутанный черным дымом к земле валится четырехдвигательный туполевский корабль, видно – пилот тянет из последнего, пытаясь сесть поперек аэродрома, но не судьба – машина под углом втыкается в землю, и костер разгорается в полную силу. А в это время диспетчер запрашивает по рации: «Чего встал? Давай на ВПП! Задерживаешь работу». Казалось бы, так с чего бы убавиться страху? А если еще вспомнить…
Забайкалье. Зима. Морозы дикие. Летаем (и это в открытых кабинах) до температуры минус пятьдесят градусов! В такие дни один из наших ребят, срочно вводившихся в строй, сломал руку в спортзале. Полковой врач запаниковал и настаивал на немедленной эвакуации пострадавшего в госпиталь. Погода неважная. Бездорожье. До госпиталя километров сто с хвостиком. Командир эскадрилий принимает решение лететь на УТИ-4, двухместном учебно-тренировочном истребителе, родном брате И-16. Командир летит сам. Радио средств на борту никаких. 1941 год.
До госпиталя долетел благополучно, пострадавшего сдал с рук на руки госпитальным врачам. Примерно через час вылетел – телеграфное подтверждение на сей счет пришло, а он не прилетел. И пурга ко всему еще поднялась в атаку, и видимости почти никакой. Ждали, искали, весь его маршрут туда и обратно прошли на лыжах… лишь весной, когда снег немного осел, обнаружили на границе собственного аэродрома торчащий над блестящим настом темно-зеленый кончик киля. Принялись копать. Прежде, чем освободили почти целую машину, отрыли голову командира, отделенную от туловища.
Такой опыт вроде бы должен нагнать страха. Но нет… Почему же? Долго и много думал над этим, прежде, чем, кажется, понял. Человек летающий тем и отличается от пешехода, что ему дано постоянно преодолевать смерть, если можно так сказать, убивать костлявую, душить ее собственными руками. Ты – победитель, понятно, пока жив, и в этой профессиональной способности одерживать верх над смертью кроются корни нашего оптимизма. Не знаю, кто первым доказал: летчики не погибают, они, случается, не возвращаются из полета, но в одном не сомневаюсь, он был настоящим пилотягой, преданным нашему ремеслу.
К сожалению, с очень большим опозданием мне довелось близко узнать одного из заслуженнейших пилотов-полярников, как он сам себя иронически именовал, «окрыленного крестьянского сына». Был он не прост, умел себя подать, держался строго и с достоинством. Обращало на себя его медно-бурое и в зиму и в лето всегда обветренное лицо. Много лет он жил Арктикой, Антарктидой и снова Арктикой. Летал практически на всем, что только могло держаться за воздух. Когда же его списали с летной работы врачи, старательно пытался описать свою жизнь, чтобы молодые могли воспользоваться его опытом, познакомиться с его жизнью, приключениями и непременно – мыслями и переживаниями, порожденными высокими широтами.
Летая над арктическими просторами своего родного Севера, он постоянно видел серые прямоугольники бараков, бараков, бараков, бараков… По долгу службы ему довелось не год и не два провести над ГУЛАГОМ. С людьми, что принадлежали этой страшной стране, встречался не часто, но всякий раз после такой встречи долго не мог успокоиться. «Понимаешь, – говорил он мне, – в существование врагов народа я тогда верил, их злокозненность меня пугала, но не мог понять, откуда их столько, почему – бараки, бараки, бараки, бараки полные несогласных, недовольных, вредивших, отказывающихся перетерпеть наши трудности?»
Мы сдружились не в одночасье, но когда пригляделись, причувствовались, ощутили себя вроде бы из одного экипажа. Помню, он спросил однажды:
– Ты можешь мне ответить, где все-таки случился прокол? Ведь изначальные идеи, на которых мы росли, были так прекрасны… или ты не согласен?
– Скажи, социализм – это когда от каждого по способностям и каждому – по труду. Так?
– Ну-у, так.
– А коммунизм – это когда от каждого по способностям, но каждому – по потребностям? Так?
– Ну-у… и что тебе не нравится в такой постановке вопроса?
– А чем ты станешь измерять эти самые потребности? Как? И неужели тебе никогда не приходило в галопу, что у проходимцев, прохиндеев и чистопородных подлецов потребности всегда выше, чем у людей совестливых?
Мы много спорили, никогда не ссорясь, стараясь понять друг друга, людей, события, правильно оценить обстоятельства. Его сын, человек некоммунистической ориентации, как-то сказал отцу: «Придет время и такие, как ты, правоверные будут на столбах висеть». Он сильно переживал такое. От сына легко ли услышать?
Заслуженный полярник испытывал тревожную потребность оправдать свое существование не только тысячами ледовых посадок, сотней боевых вылетов в тыл противника, безупречной пилотской службой, но еще и пониманием жизни, во имя которой безропотно трудился год за годом. И это давалось ему с трудом.
Наше интенсивное сближение еще продолжалось, когда он, случалось, пропадал надолго. Сначала я беспокоился, потом он пояснил – рецидив Арктики, время от времени испытываю потребность в уединении. Забираюсь на подмосковную дачку и какое-то время избегаю всяких встреч. Когда декабрьским вечером прозвенел телефон, я никак не ожидал беды.
– С приближающимся Новым годом! – услыхал я его приглушенный голос, как мне показалось, звучавший из невероятной дали.
– Откуда ты говоришь?
– Да из больницы, прихватило…
– Подожди… давай координаты, я завтра приеду.
– Не суетись. Ничего не надо. Желаю тебе жизни, а я через два-три дня помру. – И прежде, чем я нашелся, что сказать, он закончил: – Я хорошо погулял на этом празднике, пора и честь знать. Прощай!
Есть же настоящие люди на нашем свете. Жить умеют не суетясь, умирать не кокетничая, они нас учат не столько словами, сколько собственным примером.
16
Сначала коротенький пролог. В свое время был у меня, как говорится, несколько затянувшийся, лениво текущий роман с чужой авиационной женой. Мой друг характеризовал эту даму сердца так: а ничего себе, канашка! И так уж получилось, когда ее муж вернулся из затянувшейся загранкомандировки, я оказался в положении друга дома. По молодости лет мне льстило его расположение и привязанность детей, сказывалось, наверное, влияние французской литературы. И вот приезжаю однажды, как было договорено, и узнаю – хозяевам невозможно не уйти из дома: сослуживец пожалован полковником и, что еще важнее, отмечает новоселье. Обижаться не на что: непредвиденные обстоятельства у кого не случаются, и я готов был тут же отработать полный назад. Но и жена и муж решительно воспротивились: пойдешь с нами.
– Да что я попрусь в полковничье общество? Как я буду там выглядеть в тощих лейтенантских погонах, среди совершенно незнакомых людей?
– Можешь надеть мой штатский костюм, – предложил муж, – если тебя смущают погоны…
– Не торгуйся, ступай в спальню, переодевайся, – распорядилась жена, – ты прекрасно знаешь, я не люблю опаздывать.
Короче говоря, я подчинился.
На новоселье собралась большая компания и, когда мы, немного запоздав, появились в обществе, разогрев уже начался – тихо позванивали рюмки, временами раздавались подвизгивающие смешки милых дам. Словом, все шло, как это обычно бывает в офицерской компании.
Едва очутившись в незнаком доме, я заметил – надо всем сборищем возвышается могучий человек-гора в новеньком генеральском мундире, густо увешанном орденами и медалями.
Прошло совсем немного времени. Шум заметно усилился. С разогревом покончили, началась раскрутка, хозяин дома врубил оглушительную музыку, кто-то порывался танцевать. Не скажу, что вся эта кутерьма доставляла мне большое удовольствие, но сбежать я не мог, как и куда уйдешь в чужом костюме? К тому же и дама сердца успела шепнуть:
– Терпи, мы долго тут не пробудем, очень шумно и пьяно идет, а я этого не люблю.
Почти следом замечаю – генерал вроде бы мне делает знаки из коридора – подойди, как я понял. Ни сном, ни духом не ведая, на что я понадобился, иду. Он тихо так, почти шепотом спрашивает:
– Рыжую курву в зеленых шелках наблюдаешь? Поработай клоуном, Петя, выручи! Эта курва – моя жена… надо ее отвлечь, чтоб не шипела. Она на молодых падкая, Петя…
Почему он окрестил меня Петей, ума не приложу… На брудершафт мы не пили – точно. С какой стати мне развлекать его жену?..
– Она на самом деле твоя жена, Петя? И до какого уровня ты позволяешь мне опускаться, Петя? Клоуны любят терять штаны по ходу дела.
Он смотрит на меня с нескрываемым изумлением и говорит:
– Однако, ты нахал крупного калибра и веселый малый, откуда ты такой взялся?
– Откуда все берутся, Петя… просто мы почему-то быстро забываем об этом.
Генерал хлопает меня по плечу, одобрительно и сильно припечатывает своей тяжелой лапищей:
– Давай, действуй! А я пошел…
Занять рыжую в зеленой упаковке было бы не так уж, наверное, трудно, если б не присутствие дамы сердца, я знал – она наблюдательна, она вспыльчива и ревнива, к тому же, кажется, давно дружит со своей соседкой-генеральшей. Пришлось работать на два фронта – веселить, развлекать и отвлекать. При этом мне почему-то грустно вовсе не по душе навязанная роль клоуна, а что делать, когда обстоятельства снова оказались сильнее меня. Не надо переодеваться в штатское, не надо было тащиться в незнакомый дом, тем более не следовало принимать предложение «Пети»… А что? Послал бы его в задницу: какой я тебе клоун! – и дело с концом. Оробел перед золотым погоном…
Как бы все могло пойти дальше, сказать трудно, если бы не обнаружилось – генерал-то исчез.
– А Петя где? – (правда забавно, его на самом деле звали Петром) – спросила жалобно супруга и ужасно разволновалась. – Ведь глаз с него не сводила…
Кинулись туда, кинулись сюда – нет. Шинель на вешалке, папаха – тоже. А самого, как говорится, и след простыл. Кому-то пришло в голову глянуть на лестницу. Чудеса! На площадке перед дверью обнаружился сперва один, потом другой орден «Крайнего Знамени», сорванные с парадных колодок этажом ниже валялась медаль «За отвагу» и орден Ленина, видать, генерал за что-то зацепился орденской колодкой и растерял свои награды по дороге на улицу. Но дальше следы терялись, куда и зачем он шел, оставалось загадкой.
Все разговоры в доме разом закрутились вокруг бегства самого высокого гостя. Его рыжая жена перестала всхлипывать, когда все одновременно услышали странный звук – казалось за закрытыми дверьми тихо рычала большая собака. Пошли на звук и обнаружили – в ванной, неловко скрючившись, тяжело всхрапывая, спит генерал Петя. Ему тесно и, наверняка, чертовски холодно: он заполнил ванну чуть больше, чем на половину, вода остыла, а он – в полном параде, включая лаковые сапоги.
С превеликим трудом извлекли грузное тело, мешая друг другу, долго приводили «Петю» в чувство, но мне в первую очередь запомнилось не это, а как генеральша без устали повторяла:
– Ну, что, что за страсть такая напиваться до бесчувствия?! Давеча приехал с дачи, оба крыла помяты. Что такое? Молчит. Потом выяснилось, он вместо ворот в калитку толкался – ма-ши-ной! Ну, что это за страсть такая, что за дикость?! И познакомиться с его жизнью, завтра будет возмущаться, будет меня ругать – вот головой ручаюсь! – почему его не тормознула… А куда сбегал, ни за что не скажет…
Странно, прошло время, и оттого гостевания ярче всего мне запомнилось, с каким недоуменным ожесточением произносила слово страсть зеленая генеральша. И я снова и снова пытался ответить себе, что же оно такое – страсть, почему столь нелепо звучало это слово в жалобе чужой жены.
Пожалуй, мне крупно не повезло в жизни, если я, сколько ни стараюсь, так и не могу вспомнить ни одного женского имени и сказать – вот с Валей, Маней, Олей или Зоей я испытал это штормовое, сокрушающее полю чувство. Было всяко – хорошо, очень хорошо, замечательно, бесподобно, но до ощущения страстного обладания, еще чуть-чуть и – умру, подняться не довелось.
Хотя… только, пожалуйста, не смейтесь!
Это случилось восьмого марта. С закрытием лыжного сезона в том году почему-то припозднились, снег подтаял и заметно осел, лыжня сделалась – ни к черту. На старт вышли человек двести. Дистанция растянулась на пятнадцать километров, из них последние пять предстояло одолеть лесом. Долго колдовали над мазью. В конце концов пошли. Первые километров пять было еще терпимо, хотя снег и хватал за ноги, вроде примагничивал лыжи, и все-таки какое-то скольжение сохранялось, а потом – пригрело солнышко и караул!..
Тяну ноги, вода хлюпает, дыхание прерывается, становится все короче и все горячее, в ушах комариный звон чудится. И мысли зудят вредные: да брось ты… не можешь ведь больше… плюнь… Будь то соревнования с личным зачетом, я бы, пожалуй, и бросил… И ничего бы, я это понимал, не случилось. Ну, не добрал каких-то сомнительных крошек славы, недополучил бы, допустим, какую-то памятную медаль, да плевать… Но я шел в команде. И как держатся ребята, растянувшиеся на дистанции, не знал. Брошу – подведу мужиков… Иди, сука, шевели ногами, падаль, иди… поносил я себя и медленно приближался к лесу. Подумал: та-ак, осталось пять. Если бы только я мог вообразить в этот момент, какие пять километров меня ждут. В лесу лежал наст, жесткий, как терка. Ледовыми кристалликами лыжи ободрало до основания, и крошка смазки не осталось на скользящей поверхности. Я отрывал лыжи от разбитой колеи и шлепал ими по бывшей лыжне. Я задыхался, умирал, теперь могу признаться – я плакал солеными слезами, затекавшими в рот, обжигавшими язык и еще плелся к финишу, хотя понимал – мучения мои бессмысленны, гонка проиграна. Где-то на повороте, перед самым выходом из леса вплотную к лыжне выбежал тренер, он сунул мне в рот здоровенный кусок лимона и прокричал вслед: «Хорошо идешь! Давай!»
И вот тут случилась. Кислый лимонный сок, соленые мои слезы, «давай» тренера непонятным образом соединились в нечто взрывчатое и оно рвануло, дрызнуло, ахнуло у меня глубоко в груди, – это открылось второе дыхание. Поздно, да, слишком поздно, но все-таки прорвалось, и я ожил. Только что умирал, ну, форменным образом готов был отдать концы и вот в порыве… чего?… в порыве дикой страсти вернулся к вылинявшему весеннему небу, к белой финишной прямой.
В тот окаянный день гонку закончили человек двадцать, остальных лыжня одолела, послала в нокаут. Я занял восьмое место, во это, клянусь, не имело никакого значения, по сравнению с испытанной атакой подлинной страсти; я понял: сделай все, что ты можешь, и считай – значит прожил достаточно. Не удивительно ли, почему лыжи подарили мне такое высокое чувство восторга. И когда потом особенно удавался пилотаж на И-16 ли, на Як-3 ли, на МиГ-15 ли, я всегда вспоминал мартовскую разбитую лыжню, думал о «любвях» прошедших и надеялся – не все позади, раз я доподлинно знаю, что такое страсть!
17
Задание вроде проще некуда – взлететь, набрать три с половиной тысячи метров, пройти по треугольному маршруту и вернуться домой. В этом полете не требовалось даже строго соблюдать заданные режимы – скорость и высоту, вся соль задания была отдана в руки штурмана – ему предстояло колдовать с настройкой новой навигационной аппаратуры, переходить с одного канала связи на другой, пеленговаться, контролировать курсы. Словом, штурман работает, а я его катаю на старом, давно снятом с вооружения бомбардировщике, приспособленном под летающую лабораторию.
Тем удивительнее показалось, что перед самым вылетом меня отозвал в сторонку старый друг и сказал придушено конфиденциальным тоном заговорщика:
– Тебе известно, с кем полетишь? Учти, за человеком – восемь лет лагерей каторжного режима… удивительно, как он уцелел, еще удивительнее, что восстановился на летной работе. Он был в свое время одним из сильнейших навигаторов страны… Понимаешь? Поделикатнее держись, нервы у него сильно попорчены, заводится бедняга по каждому пустяку…
Слушая друга, я невольно представлял белые просторы Севера, загаженные серыми прямоугольниками арестантских бараков – так они смотрелись с высоты. И на ум шли кошмарные рассказы летчиков из полярки, припоминалась удивительная книга Владимова – «Верный Руслан»… Чего только не досталось на долю нашего поколения… С лучшими намерениям я направился в летную комнату, но обласкать штурмана добрым словом не удалось: он только-только ушел на стоянку.
Мы встретились у самолета. Грузнеющий, очень не молодой на вид армянин глянул на меня в упор своими большими, печальными глазами и коротко представился. Обменялись рукопожатием и поднялись в кабину. Штурмана я пропустил в машину первым, и мне показалось, что он оценил этот крошечный знак уважения.
Этот вполне рутинный для меня полет проходил в молчании. Штурман был предельно занят аппаратурой и я не пытался отвлекать его. Перед каждым изломом маршрута, как и положено навигатору, он предупреждал меня: «Командир, внимание! Смена курса» – и называл, с каким показателем компаса следует топать дальше. Облачность держалась кучевая, не очень мощная, и мы то ныряли в белую влажную муть, то выскакивали на голубой простор чистого неба. Признаюсь, я не слишком въедливо следил за пролетаемой местностью: во-первых, по заданию не требовалось выходить на какой-то точечный, трудно опознаваемый ориентир; во-вторых, сам по себе маршрут не отличался какой-либо особой сложностью в-третьих, на борту присутствовал знаменитый в прошлом штурман, и читать землю входило в круг его обязанностей. Говорю это без тени иронии, его – штурмана – знали и Военно-воздушные силы и Полярная Авиация, и Аэрофлот.
В таком раскрепощенном полете я мог думать, о чем мне заблагорассудится. И я стал вспоминать о времени, когда «пахал» инструктором учебно-тренировочного центра. Кого только не пришлось вывозить на новой материальной части, ставить, так сказать, в строй. Досталось учить и болгар. Славные они были ребята – сообразительные, до ужаса дисциплинированные, хотя и шустрые. Представляете, в первых полетах на спарке пытались даже честь отдавать, едва заслышав и поняв мою команду. Все бы ничего, да вот беда – качает слушатель головой из стороны в сторону, по-болгарски это означает – да, а по-нашему-то – нет, мотает сверху вниз – по-ихнему понимай – нет, а по-нашему, сами знаете, – да. Вот и гадай – понял меня слушатель или не понял? Перевел он с русского на болгарский или с болгарского на русский, когда и туда и сюда головой повертел. Но ничего, постепенно привыкли, точнее сказать, приспособились друг к другу и залетали мои шустрые мальчики, как положено.
Было. Приятно вспомнить – ведь это я дал ребятишкам реактивные крылья. Горжусь – я! А лет через десять, прилетев в Софию, разыскал одного из своих «крестников». Оказалось, с истребителями он расстался, пересел на транспортные корабли, преуспел, выдвинулся, был допущен возить высокое начальство. Заметно заматерел парень, привык – перед ним двери открывают, но меня встретил с полным почтением – учитель, как никак, а в авиации на этот счет традиции строгие. Случилось, что его жена с дочкой были в отъезде, отдыхали, кажется, в Греции, поэтому он пригласил нас отобедать в аэропортовском ресторане. Усадив нас с женой в отдельном начальственном кабинете, сказал: извините, я на пять минут отлучусь, надо распорядиться… И сразу заколыхались двери – в кабинет поминутно заглядывали и тут же исчезали симпатичные молоденькие мордахи. Позже выяснилось – мой «крестник» был любимцем всей аэродромной обслуги, и официантки ринулись разглядывать учителя своего кумира, полагая, очевидно, увидеть этого авиационного дедушку с седой бородой и круглой лысиной. Кажется, девушки были сильно разочарованы, а я только тогда осознал, что разница в возрасте между мной и «крестником» никак не больше пяти-семи лет. Смена авиационных поколений идет куда быстрее, чем в обычных, земных ремеслах…
И тут я услыхал глуховатый голос штурмана.
– Курс восемьдесят шесть, вертикальная пять в секунду, начали снижение, командир.
Точно исполнив штурманские указания, я глянул на землю – вправо посмотрел, влево и не сразу понял, где же именно мы находимся, то есть наше общее местоположение никаких сомнений не вызвало, а детальная ориентировка требовала уточнения. Вытаскиваю из-за голенища потрепанную карту миллионку, пробегаю взглядом вдоль реки, нахожу характерное пересечение шоссейной дороги и железки… та-ак, все ясно. До дому нам остается лететь минут шесть.
Точно в расчетное время приземляемся. К моему полнейшему удивлению штурман молча выбирается из кабины и, не произнеся ни слова, шагает прочь от самолета.
Немного позже, уже в летной комнате, на меня буквально набрасывается мой главный друг. Раздосадован он предельно:
– Ты сдурел, старикашка? Я же тебя специально проинструктировал, предупредил, человека щадить надо, восемь лет тюряга – не фунт дыма! Вот уж не думал и не гадал, что ты такое отмочишь…
– А что случилось? – ничего не понимая спрашиваю я, – Чего такого непозволительного я сделал?
– Не прикидывайся наивняком! Ты вытащил на подходе к дому карту? Ну, вытащил, что же тут такого?
– Как что?! Человек решил – контролируешь точность его прокладки! У такого штурмана командир корабля должен спрашивать: где мы? И верить ему, а не ползать, как муха, по изжеванной миллионке и искать, куда он залетел…
– Слушай, мне ужасно обидно, я совсем ненароком обидел хорошего человека, я вовсе не представлял, что такое может быть… Что же теперь делать?
– Иди, извинись, он ведь переживаете. Ему наверняка метится – опять казнят недоверием… Пожалей старика.
– А что я ему окажу?
– Не знаю. Думай!
И я пошел разыскивать штурмана.
А-ты баты, шли солдаты, шли солдаты на базар… не то!
Старый барабанщик, старый барабанщик, старый барабанщик долго спал… не то! Левой правой, левой правой марширует черт кудрявый, и тут поток мыслей, если только это были мысли, резко оборвался. Я увидел штурмана, пригорюнившись он сидел на садовой, в прошлом зеленой лавочке. Вид у него был отсутствующий.
– Приношу извинения, – сказал я громко, – и прошу учесть – семнадцать лет я летал исключительно на истребителях, сам себе штурман, сам себе радист, сам себе стрелок… Привык… Извините.
– А командиром на бомбере давно начал? – спрашивает штурман довольно миролюбиво.
– Сегодня был четвертый полет.
– Какой, какой? Четвертый? Знал бы, ей богу, не полетел с тобой, мне нельзя приключения на свою жопу искать, дочке второй годик только.
Вот тебе и старик – подумал я.
А он протянул мне руку:
– Подружим. Ничего… истребитель.







