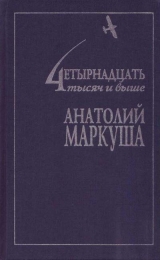
Текст книги "Завещание грустного клоуна"
Автор книги: Анатолий Маркуша
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
11
В самом начале дружбы мы часто и, случалось, весьма ожесточенно спорили. Он, старший годами, очевидно испытывал потребность настаивать на своем, не очень-то стеснялся в выборе выражений, а я, в силу характера свободолюбивого и достаточно вздорного, ни в какую не желал признавать его преимуществ лишь по причине старшинства. Однажды мы крепко сцепились из-за воспитания детей. Мой главный друг обозвал меня сопливым или может быть слюнявым интеллигентом за то, что я, как он выразился, цацкаюсь с ребятами, когда «вливание с южного конца» решило бы многие проблемы буквально за пять минут… Для начала я осудил его непочтительный взгляд на интеллигенцию, сославшись при этом на авторитет Максима Горького. «Между прочим – сказал я с запальчивостью, – сам Горький считал интеллигенцию лучшей частью народа, вынужденной отвечать за все худшее, что происходит в стране…» Продолжить он мне не дал: «Успокойся! Твой буревестник и гордый сокол много чего наговорил… Лично я в нем единственное уважаю – это способность к самообразованию и, пожалуй, умение подать себя», Я не успокоился: «Позволь, позволь! Давно ли ты говорил, что любишь «Сказки об Италии»? Тут мой друг вскинулся, как грубо пришпоренный жеребец: «Любишь?! Ну и что? Я может варенье из крыжовника тоже обожаю… Дурацкая у тебя голова, никакой в ней логики нет…» Вероятно, в тот день у нас было много шансов рассориться всерьез и надолго, не хвати у моего друга мудрости тормознуть в самый критический момент: «Слушай, старикашка, а почему нам обязательно обсуждать то, что нас разделяет, а не то, что объединяет?» Это был случай, когда он начисто переиграл меня в очередном столкновении. Замечу попутно – с годами мое ученическое отношение к буревестнику и гордому соколу заметно изменилось явно не в его пользу. Наверное, претендующий на положение народного радетеля не должен обставлять собственную жизнь с купеческой роскошью и размахом.
Кстати в этом плане друг мне не противоречил. Когда ему случалось крупно заработать, а за летные испытания сталинским соколам платили щедро, он со странной торопливостью норовил от полученных денег избавиться. Характерно – на одежду, мебель, безделушки, вроде бы украшающие быт, он тратился весьма осмотрительно, чтобы ни сказать – скуповато, а вот в ресторанах мусорил легко, с явным удовольствием, широко финансировал родственников, покупал много книг, никогда не спрашивая о цене. Больше всего меня удивляло его отношение к родне. Почему? Вероятно это недоумение было вызвано тем, что самому мне с родней не повезли – ханжа на ханже, хамелеоны собрались, да еще кое-кто на руку был не чист. Я пытался его «просветить», но, увы… «Чушь городишь!» Но почему чушь? «Во-первых, мы родственников не выбираем, во-вторых, как всякая система, система человеческих отношений должна иметь единицу отсчета…» Не выдержав этого академического тона, я неудачно сострил: «В твоем случае за единицу отсчета следует принять тетю, посвятившую тебя в мужчины?» Он налился темной кровью, я почувствовал, что хватанул лишнего и поспешил загладить неловкость: «Ладно, не психуй, оставим родственников в покое и будем обсуждать то, что нас объединяет.
Любопытно, мы так долго взаимодействовали, помогая друг другу, выручая, защищая, страхуя от возможных неприятностей, что среди своих получили кличку заклятых друзей. Как нам удалось сохранить нерушимость этой дружбы? Говорят – лучше плохой мир, чем хорошая ссора. Признаюсь, я этой народной псевдомудрости не принимаю, жизнь подсказывает – мир, дружеское расположение, преданность без компромиссов не бывают и вряд ли возможны даже в теории.
Людей без недостатков я лично не встречал. И мой лучший друг не составлял в этом отношении исключения. Самый неприятный его грех назову повышенным тяготением к знаменитостям. Странно, но ему льстили публичные рукопожатия знаменитых артистов, заслуженных медиков, видных ученых. Он млел от удовольствия, когда ему случалось даже мимолетно очутиться на телеэкране в обществе Юрия Никулина, рядом с академиком Сахаровым, кокетничающим с Аллой Пугачевой. Обидно мне было наблюдать его суетливым, едва ли не заискивающим, ну, совсем не аэродромным, где он представал всегда спокойным, властным, опасно ироничным…
В этой связи вспоминаю порой конфуз, испытанный мной много лет назад. Видать, и во мне теплился зачаток того же греха. А вылечился я от него в одночасье. Впервые пришел к Марку Лазаревичу Галлаю. Дверь открыл хозяин. Был он в форменных брюках, в защитной рубашке без погон. «Товарищ майор, – рапортую, как учили, – младший лейтенант… по вашему приглашению прибыл». Но это было только начало конфуза. Войдя в комнату, обнаружил висевший на спинке стула подполковничий китель. Что я понес! Как постыдно вилял воображаемым хвостом, пока Галлай не остановил меня: «Да полно вам, в подполковниках я хожу второй день. И вообще, мы же – летчики».
И такое было. Теперь думаю – пусть уж лучше меня обвиняют в авиационном чванстве, чем заподозрят в подхалимстве. Да, мы летчики. Я – летчик, и этим горжусь…
12
Дни, недели, годы смешаются в памяти, впрочем, хронология меня не очень занимает: я же не автобиографию пишу, тем более – не летопись. Для меня важно – было? Было!
Только-только ввалился в дом, из командировки прилетел – звонок.
– Прибыл? Все в порядке? Сегодня шестнадцатое сентября, не забыл?
– Привет! И что?..
– Старикашка, тебе не стыдно?
И тут я вспоминаю – это случилось шестнадцатого, в прошлом сентябре. Машина валилась до самой земли под углом градусов в семьдесят… Там, где он упал, образовалась воронка метров в тридцать диаметром и глубиной – страшно вообразить… Копали, копали, практически ни до чего не дорылись, нагребли чуть-чуть железок… так что схоронить пришлось пару пригоршней земли с места падения. Символически… И никто не мог толком сказать как, за что Земля приняла нашего товарища. В таких случаях слышишь: глупая катастрофа. И всегда вздрагиваю от этих слов: катастрофы не бывают ни глупыми, ни тем более – умными, только более или менее неизбежными…
– Приводи себя в порядок, старикашка, в семнадцать тридцать заеду за тобой. Быть в параде! И не ершись… ты же знаешь вдову…
Ехать придется. И в парадную форму влезать придется, хотя я терпеть не могу крахмальных воротничков, белых рубашек, удавок-галстуков и идиотских висюлек на плече… Честно – я и вдову терпеть не могу за ее убогий умишко и непомерные претензии.
В назначенное время прибывает мой друг. Мы оглядываем друг друга.
– Почему у нас такой глупый вид, – говорит он, – ты не можешь мне объяснить, старикашка?
– Хотел бы, но не могу. И никак не возьму в толк, почему мы должны считаться с этим… как его?.. общественным мнением?
– О времена, о нравы! – так, кажется, говорилось когда-то. Ты же знаешь, у покойного была слабость к регалиям, знакам отличия, он готов был спать в погонах, особенно когда был пожалован золотыми генеральскими. Сегодня его день. Летчик-то он был, сам знаешь, божьей милостью…
По дороге мы покупаем цветы. Белые махровые гвоздики. И не потому, что они самые роскошные и самые дорогие, мы велим снять с букета розовые ленты и убрать полусеребряный полупрозрачный пакет: нам нужны именно белые гвоздики в натуральном виде. Дело в том, коль цветы выбирал бы он сам, то выбрал белые, махровые на высоких и толстых стеблях гвоздики. Он знал толк в цветах – он вырос в семье профессиональных садоводов. Мы не забыли этого.
За минувший год в доме мало что изменилось. Правда, со стен исчезли многочисленные фотографии самолетов. В прихожей не висит реглан, потертый на плечах парашютными лямками. Вдова – в черном. Платье модное, пожалуй, даже чересчур. Как и прежде она норовит сунуть ручку для целования. Друг – целует, а я делаю вид, что не понял жеста. Вдова произносит какие-то выспренние слова благодарности за память, за верность и еще за что-то и тут же начинает знакомить с теми, кого мы прежде не знали. В ее исполнении это представление звучит диковато: заслуженный деятель… потом – генерал-лейтенант… следом – народный… и так далее, и так далее. Мне совсем не к месту делается вдруг смешно. Вспоминаю знаменитую аэродромную байку, пользующуюся неизменным успехом во время банка. Андрею Николаевичу Туполеву принесли на подпись какую-то челобитную. Просьба была сформулирована четко и заняла всего пять строк машинописного текста, а дальше в колонке, растянутой на половину страницы, следовали:
Действительный член Академии наук СССР…
Лауреат…
Заслуженный деятель…
Герой…
и прочая, и прочая…
Старик хмыкнул, прибавил к перечню всех своих должностей и званий: «И Алешин папа». После чего расписался и без комментариев вернул петицию служивому подхалиму.
Да-а, вспомнилось, наверное и не к месту, а может – в самый раз… По новомодному обычаю к столу не приглашали. Фуршет! Как у людей. Народу пришло больше, чем можно было ожидать. Помнят люди? Или набежали на дармовую выпивку? Не хочется думать о пришедших хуже, чем они того стоят, но судя по тому, как рвутся к закускам, как торопятся толкать тосты… нет, не буду, извините.
Через час сделалось душно, говорили все сразу, понять что-нибудь было затруднительно, и я не понял, почему вдова стала уверять каких-то незнакомых мне людей, что ее муж никогда не выражался, «даже черного слова от него никто не слышала», не говоря уже о большем. Подумал: ничего себе заливает! Это кто не выражался?! Наш знаменитый матерщинник и сквернослов, царствие ему небесное. И тут услыхал голос моего друга:
– Но не станете же вы утверждать, Лилия Алексеевна, что в жизни не бывает ситуаций, когда без крепкого слова просто невозможно обойтись?
Мадам поиграла пальцами, оседланными дорогими кольцами, изобразила некоторое смущение и задумчиво изрекла:
– Готова держать пари на что угодно, что вы не сумеете привести ни единого убедительного примера в защиту своего сомнительного утверждения.
– А если смогу?
– Тогда потребуете, чего пожелаете, что вам вздумается…
– Идет!
И тут все услыхали, как под конец войны моему другу довелось полетать на трофейном Ме-109. Чужой истребитель, кстати сказать, ему понравился, в первую очередь простотой управления. Учитывая это обстоятельство, он вызвался произвести на этом аппарате разведку аэродрома противника. Командование долго не соглашалось, выдвигая при этом длинный ряд вполне разумных возражений, но когда приперло – немцы начали перебазирование своих летных частей по всему фронту – ему сказали: «Лети, валяй, – и трогательно добавили: – Только осторожно!» – Слетал я осторожно, над их летными полями проходил совсем низко, чтобы основательно разглядеть, какая там обстановка. В «своего» они либо не стреляли вовсе, либо открывали огонь с таким опозданием, что не могли уже попасть. Постепенно я совсем успокоился, понял – разведка удалась, можно рвать когти домой. Не успел я пересечь линию фронта, как мне влепили наши. От души! Деваться некуда, пришлось садиться на вынужденную. Шасси не выпускал, приткнулся на полянке рядышком с зенитчиками. Из кабины вылезти не дали – вытащили! И пошли в рукопашную. Я кричу: ребята, я же свой! А они: вот, сука, по-нашему соображает и погоны нацепил нашенские…» Тут я понял: пропал. Забьют до смерти. И ненависть эта мне понятна – у скольких родители, жены, ребятишки под оккупантами сгинули… И ведь на своей земле пропали. Но я же не виноват в их беде! Мне тоже, как им, жить охота. Вот и перешел я на великий наш матерный лексикон. – Здесь мой друг выдержал паузу и спросил у хозяйки дома: – Прикажете цитировать? – Не получив, однако, прямого указания как быть, он элегантно сымпровизировал: – Стоило рявкнуть «а… вашу мать телеграфным столбом до печенки», как в пехоте сразу нашелся сообразительный человек: «Ребята, он правда наш, немцу так не придумать!» Ну, что скажете, Лидия Алексеевна, убедительно?
Вдова сложила губки бантиком и призналась – проиграла.
Публика, понятно, заинтересовалась – что он требует с проигравшей? Он попросил уважаемую публику засечь время, Лидию Алексеевну же удалиться с ним ровно на пять минут.
Несколько позже я поинтересовался: что можно было успеть за каких-то пять минут? Он только хмыкнул:
– Хвостика я не обнаружил, по картер она мне свой в самом натуральном виде предъявила! Чтоб не выпендривалась и не строила из себя целку».
13
Есть такая особая порода людей, что до старости существует под полудетскими именами, замечали, наверное, этот – дедушка Лека, дядя Шурик или тетя Ната? Уже не могу сказать почему не пристает к ним имя с отчеством, хотя в анкетах отделов кадров они, естественно, числятся Львом Эдуардовичем, Александром Владимировичем или Наталией Максимовной, например. В орбите нашего с другом вращения мелькал такой Колянчик или Митюша – не суть. Этого мастера разговорного жанра было забавно слушать, его окололитературная принадлежность плюс причастность к изобразительному искусству, плюс неистощимая энергия, направленная на добывание сплетен – кто с кем, кто – кого, где и когда – делали Колянчика или Митюшу постоянным центром внимания в случайной компании, этаким массовиком-затейником экстра класса.
Откровенно говоря, сначала он меня раздражал своей неуемной говорливостью. Позже начал удивлять: эрудиция, память, дар импровизации – этого у него было не отнять. Как случилось, я и не заметил – стал приятельствовать с Колянчиком. Пожалуй, что уж греха таить, не совсем бескорыстно даже: около него я пополнял довольно скудное свое образование, нахватывался сведений для дела не очень и нужных, но обладать которыми было приятно. Ну, к примеру, что мне – долги Пушкина, в том числе и по счетам за гусиную печенку, а знать стоило, чтобы при случае козырнуть эрудицией, пустить пыль в глаза ребятам, хотя бы во время очередного предстартового банка…
Что бы ни произошло со временем, много позже, сегодня я не смею бросить тень на отношения с Колянчиком или Митюшей, растянувшиеся на добрый десяток лет. Наверное, это ошибка – формировать среду общения по признакам профессиональной принадлежности или, ориентируясь только на общее увлечение, скажем, преферансом, или, допустим, коллекционированием модных дисков, равно как и на устаревшее собирание почтовых марок. Среда общения непременно должна отличаться разнообразием. Тут, как в карточной колоде, помимо четырех тузов, четырех королей, помимо пик, треф, червей и бубен, весьма желателен джокер, способный заменить любую карту и резко повернуть весь ход игры. В какой-то момент мне начало казаться, будто Колянчик и есть джокер в нашей компании. Что очаровало и покорило меня? В первую очередь – универсальность и, конечно, искренность, в которую трудно было не поверить.
Внезапно «джокер» исчез. Был, был среди нас, с нами и пропал. Стороной узнал – покинул он Россию, уехал, ни с кем не простившись, слова никому не сказав и адреса не оставив. Конечно, он не первый и, наверняка, не последний. Судить его не смею: человек вправе выбирать себе страну, язык, народ, соседей по собственному усмотрению. И вообще я очень далек от хрестоматийного сюсюканья – березки, перелесочки, речка твоего детства, закаты и восходы над милым сердцу селом – это, мол, и есть Родина, да еще с большой буквы. На мой взгляд родина определяется прежде всего кругом общения с себе подобными, в котором формируются твои взгляды на преданность, честность, на женщину, на семью, на содружество людей, наконец, на мир в целом. Патриотизм сегодня настоятельно требует любить планету Земля, пока мы ее еще не до конца изуродовали, не развалили, а уж потом умиляться березками или елочками, каштанами или кактусами…
Так вот, «джокер» Россию покинул, тихо смылся, слинял, как говорят молодые. И когда мой главный друг поинтересовался, нет ли у меня каких-нибудь сведений о Колянчике или Митюнчике, я сказал – нет и не будет:
– Предательства не прощаю, он для меня кончился.
– Ты не прав, старикашка! Уехать из страны еще не предательство…
Перебив его, я полез в спор. Доказывал другу, что «джокер» предал не страду, а нас – товарищей, друзей, приятелей и не отъездом, как таковым; а тайным своим отбытием. Это – подлость, смотаться молчком, ничего не сказав тем, кто тебе доверял. Согласись, подлость имеет множество нюансов и нельзя сводить все к таким, застрявшим в зубах понятиям, как передача секретов противнику или тайная измена жене. Отказав в доверии добрым друзьям, человек, на мой взгляд, совершает предательство. И будем называть вещи своими именами, он – подлец.
– Допустим, а какие еще разновидности подлости тебе известны? – поинтересовался мой главный Друг, и по тону его вопроса я понял – он готовится к контратаке – Пожалуйста, коротко, конкретно и если можешь на голом, так сказать, примере.
– Это было в Сухуми, при мне. Прилетает большой любитель охоты. Маршал! К его прибытию местные отловили медведя, приковали цепью на взгорке. И этот подлец-охотник расстрелял мишку с вертолета. А выделанная шкура в качестве трофея была уже приготовлена, ее содрали с другого медведя. Можешь исповедовать любую мораль, все равно преступления против офицерской чести тут невозможно не усмотреть. И никакими погонами подлость не прикроешь.
Кажется, я сам того не заметив, вышел на «критический угол» атаки.
– Скажи, а ты можешь держать за порядочных боссов, которые охотятся на прирученных лосей в закрытых охотохозяйствах? Это же все равно, что стрелять по коровам… Подлость многолика. Она бродит тихой сапой повсюду, прячется и настигает нас внезапно, Если я завтра убьюсь на взлете из-за отказа двигателя, а в приказе объявят, что катастрофа произошла по вине летчика, нарушившего правила техники пилотирования, он потерял скорость и сорвался в штопор, это будет тоже подлость, возможно, даже коллективная.
Нет, мой друг не съязвил, как я все время ожидал, он произнес задумчиво, как-то примирительно:
– Идеалист ты, хочешь, чтобы все жили по совести.
– Конечно, хочу, хотя тут далеко не все просто. Суди сам – на мое замечание, если не воспитывать детей по совести, добра не жди. Сергей Владимирович Образцов отреагировал моментально: «Позвольте, о чьей совести вы говорите?» Я даже растерялся, разве не ясно – о совести тех, кто воспитывает, о моей в том числе… «Но друг мой, совесть так легко уговорить поступиться принципами, – не без некоторого ехидства заметил мой знаменитый собеседник, – совесть и в хорошем человеке легко может задремать… «И что же в таком случае надо делать?» – не выдержал я. Образцов предложил ориентироваться не столько на свою совесть, сколько прикидывать в уме, а как бы поступил в данной ситуации герой, кумир, учитель, тот, кому человек доверяет, в которого верит…
– И с кем же, старикашка, ты держишь теперь совет в затруднительные моменты? Я серьезно спрашиваю, дело в том, что такая возможность мне просто никогда не приходила в голову.
– В делах житейских, стараюсь представить, как бы повела себя моя мама, что сказала или сделала б, а когда возникают проблемы, так сказать, профессионального характера, мысленно обращаюсь чаще всего к Чкалову…
– Неужели на тебя все еще действует магия слов – великий летчик нашего времени? Пилот номер один! Мне довелось немного знать Чкалова. Валерий Павлович был летчиком божьей милостью, и тут уверен, двух мнений быть не может, а вот присвоение ему номера первого, как, впрочем, и любому другому претенденту, принять не могу, в этом есть что-то унизительное… Раз этот – первый, то должен быть – второй и – следующий кто-то, по такой логике окажется двадцать пятым, а кто-то и пятьсот десятым, вплоть до последнего… Боюсь, присвоение бирок – будь то «гений», «талант», «подлец», «предатель» – не украсят нашей жизни. Лучше не надо никаких номеров.
14
Совсем недавно мне попалось газетное сообщение – некий общественный комитет, «занимающийся проблемами литературы» и состоящий из писателей разных стран, постановил признать лучшим писателем уходящего века Джойса, а самой выдающейся книгой – его «Улисса».
Первая мысль – а друга моего больше нет, не с кем продолжить разговор о пронумерованных и выстроенных по ранжиру гениях. Конечно, я всего только старый пилотяга, ни на какую художественную утонченность претендовать не смет, может исключительно от собственной серости я трижды принимался за «Улисса» и ни разу не осилил. Еще «джокер» до своего отъезда из России пытался мне внушить, что «Джойс – первооткрыватель совершенно особого стиля. «Улисс» – это поток сознания, свободно брошенный на бумагу, – говорил мастер разговорного жанра, – стоит подчиниться ему, не вдаваясь в сюжетные подробности, и ты такое в себе откроешь, что ахнешь!» Но как я ни старался погрузиться в волшебный поток, так и не ахнул…
Теперь думаю, а как бы мой покойный друг отреагировал на эту международную катавасию с назначением лучшего писателя мира, прозаика века номер один? Едва ли бы он пришел в восторг. Припоминаю – он ведь, когда еще не потащился, как говорит моя внучка, от «треугольной груши». Сказал что-то такое: я за простоту, если даже многие считают, что она хуже воровства». Впрочем единого взгляда на литературу у нас никогда не было. Поэтому спорить с ним было всегда интересно и часто – поучительно.
В далеком детстве я читать не любил. Виноваты в этом, как ни горько сознавать, мои гуманные родители. Меня зря не пороли, не ставили по пустякам в угол, а наказывали Марком Твеном. «Марш на табурет и читать вслух – две, три, а в случае более тяжкого проступка и все пять страниц, чаще всего из «Тома Сойера».
Чего добивались мои родители, сказать затрудняюсь, а вот чего достигли, могу сообщить откровенно – я на долгие годы возненавидел и Тома Сойера, и Марка Твена, и самочтение! Когда двадцатилетним уже, сидя на боевом дежурстве в тесной кабине И-16, я откровенно ржал над книгой, впервые осознанно читая это лучшее произведение Марка Твена, мой деликатный механик спросил с осторожностью:
– Командир, неужели ты раньше не читал Марка Твена? И я ответил ему с полной искренностью:
– Хуже! Читал… много раз читал, – и рассказал, как дело было.
В чтение я втягивался медленно и долго, очевидно, из-за упущенного времени невзлюбил сказки, не увлекся приключенческой литературой, повзрослев, весьма скоро отвернулся от детективной стряпни – стало жалко времени. Теперь могу сказать – чтение может быть великим источником радости, даже оглушающим счастьем, если оно совершается без насилия, не по обязательной школьной программе, если ты не рассчитываешь загодя: читаю потому, что зададут сочинение на идиотскую тему вроде» «Образ Татьяны Лариной, женщины своей эпохи» или «Типичные черты Анны Карениной, как выразительницы…»
Многие годы охотнее всего читал – и вам желаю! – дневники знаменитых путешественников, увлеченно листал отчеты полярных экспедиций, морские лоции особенно испещренные капитанскими пометками на полях. Эти вовсе не художественные книги отличаются предметностью, строгим изложением сути, той самой краткостью, что хоть и давно провозглашена сестрой таланта, но не давалась почти никому – даже официальным классикам.
Как всякого читающего человека, меня время от времени спрашивали, кто мой любимый писатель, отвечал далеко не однозначно, но всегда предварял ответ таким замечанием: любимым, может быть в моем представлении, малиновое варенье или маринованные огурчики, гречневая каша со шкварками или шашлык. Писатель, книга требуют иных оценок – определеннее и глубже. Случалось слышать: ну, ладно, предположим, ты прав, тогда скажи, кто же самый значительный, самый авторитетный по твоим меркам прозаик? Для кого? – интересовался я. Думаю, каждый отдельный читатель вправе выбирать своего самого привлекательного, самого увлекающего, самого задушевного и прочего, и прочего писателя. Именно – самого и непременно для него. Это первое, а второе, со временем привязанность твоя вполне может измениться, сменить ориентир. Только очень ограниченные люди, как замечал и замечаю, охотно похваляются тем, что ни при каких обстоятельствах не изменяют своих мнений и убеждений, едва ли этакая железобетонность в состоянии украсить личность, пытающуюся не замечать, как видоизменяется сама жизнь, как возникают новые обстоятельства, как отмирают одни ценности и нарождаются другие. Только динамизм – знак жизни, всякая статика – смертельна.
В молодые годы меня увлекала проза Лермонтова. Никак не мог понять – как такому молодому автору удалось найти ключ ко всему им созданному, вся его проза отличается редкой простотой, немногословностью, в ней полностью отсутствуют иностранные слова, но это еще не все. Читая, ты видишьизложенное. Тут нет оговорки: проза Лермонтова зрима, может быть поэтому ее воспринимаешь не только мозгом, но и душой…
Какое-то время я прикипел к Грину, следом – к Паустовскому, но это продолжалось недолго. Потолкавшись в реальной жизни, узнав горький привкус ее и вовсе не ароматичные запахи сопровождения, я как-то в одночасье постиг – и солью, и сахаром, равно как перцем и прочими пряностями, – писатель должен пользоваться очень осторожно!
Слава богу, я ни в какой мере не причастен к литературной критике. Почему – слава богу? Законный вопрос. Отвечаю. Уважаемый мною, как никто. Чехов полагал – критики те же поводья, что только мешают лошадям пахать землю. Не сомневаюсь – тут не место заниматься литературно-критической самодеятельностью. Но высказать свое отношение к еще одному писателю я должен непременно.
Для меня надо всеми писателями нашего уходящего века еще где-то в сороковые годы… взошла и по сей день сверкает звезда Эрнеста Хемингуэя. Повторяю – для меня! Другие вполне могут относиться к нему иначе, это будет фактом их биографии. А чтобы вам было легче оценить мою точку зрения, попытаюсь сейчас перечислить чего в этом писателе безусловно нет. Прочтя собрание его сочинений насквозь, как бы вы ни относились к автору, будете вынуждены констатировать – ханжества здесь ровно ноль! Сравните с многими другими, в том числе с признанными великими, с гениями-классиками… Диалоги в его прозе не содержат ни грамма фальши.
Сдержанность в описаниях природы не позволяет автору «подсахарить» самый необыкновенный закат или бесподобное очарование тропических джунглей. Нет у Хемингуэя стремления и понравиться читателю, что называется влистить нам с вами, а ведь мало кто из пишущих, хоть раз не погрешил бы этим. Нет у него и попытки толковать о чем-то, в чем он мало смыслит или не смыслит вовсе, проще сказать – нет в его книгах не только развесистой, а даже штучной клюквы… Вот уже шестьдесят лет я читаю Хемингуэя, читаю снова и снова и каждый рая ловлю себя на мысли, что присутствую в парижском кафе, качу по испанской дороге, глотаю африканскую пыль, дрожу на океанском предрассветном ветру. Он один незаметно, я бы даже сказал, волшебно вводит меня в мир своих героев, превращает не в соглядатая, а в участника их жизней…
И что с того – было время, когда Хемингуэя ругали и даже запрещали в России, потом, будто одумавшись, стали превозносить, теперь вот какой-то литературный комитет, не нашел ему достойного места в литературе двадцатого века, – ну и что, какое это все может иметь значение, если наверняка не меня одного он взял в полон, затронул душу. И это при том, что я не любитель боя быков, не увлекаюсь никакой охотой, очень скромно употребляю спиртное – все это сущие мелочи в сравнении с огромностью его профессионального таланта. Я по-прежнему думаю: не надо строить современников по ранжиру, не надо никому присваивать № 1, а вот знать, кто твой герой, твой, если угодно «бог», не только желательно, но совершенно необходимо. И пусть совесть каждого обращается к нему не столько с молитвой, сколько за советом.







