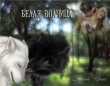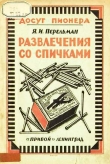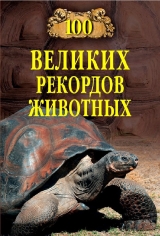
Текст книги "Сто великих рекордов животных"
Автор книги: Анатолий Бернацкий
Жанр:
Энциклопедии
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 30 страниц)
САМЫЕ БОЛЬШИЕ СКОПЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ
Самые многочисленные миграции беспозвоночных
Многие живые существа – явные индивидуалисты. Но даже они в определенное время года совершают многочисленные миграции. И касается это не только позвоночных животных, но и тех, у кого позвоночника нет.
Остров Рождества находится в Индийском океане, в трех сотнях километров от острова Ява. На этом пятачке суши, площадью всего 130 квадратных километров, обитает много удивительных существ с самыми неожиданными привычками и особенностями.
Однако «изюминкой» острова являются знаменитые красные крабы Gecarcoidea natalis. Их численность на этом небольшом пространстве просто невероятна: более ста миллионов довольно крупных 10-сантиметровых существ цвета созревших плодов шиповника.
Живут они в неглубоких норках в верхней части острова. Днем они обычно проводят время в своих убежищах. И только на рассвете и по вечерам, когда спадает жара и воздух становится более влажным, крабы выбираются наружу и приступают к трапезе. Питаются они в основном упавшими плодами и сочными побегами. Однако, когда выпадает такая возможность, не откажутся и от дохлой птички, и от ящерицы или улитки.
Когда же наступает самый сухой сезон, а это на острове Рождества случается зимой, красные крабы забираются в норки и, заткнув выход пучком травы, на 2-3 месяца впадают в спячку. Они словно исчезают из леса.


Красные крабы на острове Рождества
Но в ноябре, когда возвращается южное лето, они выбираются из норок и какое-то время откармливаются. Накопив в теле необходимое для размножения количество питательных веществ, миллионы крабов, охваченные неумолимым инстинктом продления рода, отправляются к побережью.
Сначала на лесных полянах и тропинках появляются одиночные красные крапинки, которые вскоре сливаются в большие пятна. Со временем они объединяются в извилистые ручейки, а к началу декабря уже целые потоки крабов стекают к океану. Именно здесь, на прибрежных камнях и песке, в приливной зоне прилива самки отложат икру. Завершив финальную часть путешествия к морю, крабы отправляются обратно к родным местам.
Эта «плывущая» многомиллионная армада красных крабов являет собой уникальное зрелище. Всюду, куда ни посмотреть, взгляд натыкается на движущуюся лавину из красных панцирей. Животные не обращают внимания ни на людей, ни на машины. И в течение нескольких дней немногочисленные пляжи острова Рождества заливает живая река из красных тел .
Огромное количество мелких, величиной с бусинку, китайских крабиков тоже совершают миграции: движутся они весной из Северного моря в реки Германии. Они всего лишь два месяца назад покинули тесную скорлупу икры, но за это время успели добраться до Гамбурга и Бремена, где и останутся зимовать на границе пресных и соленых вод. Когда же эти крабы в течение двух сезонов вырастут до пятисантиметровой длины, весной они оставят обжитые места и начнут перемещаться вверх по реке.
Огромными косяками передвигается и антарктический криль: исследования показали, что в одном кубометре воды находится примерно 25 тысяч особей. И движутся в такой громадной стае эти мелкие креветки не беспорядочно, а в шахматном порядке, так что особь, плывущая впереди, не мешает задней волной от своего движения.
В гигантские стаи объединяются нередко и многие другие морские беспозвоночные. Но, наверное, самые крупные скопления образуют насекомые, в частности, саранча.
«Был конец октября 1932 года, теплый, прекрасный, весенний день. Слабый ветер дул с юго-запада, и он принес беду. С высоты 40-80 метров, словно снежная вьюга, обрушились на землю бесконечные полчища саранчи, принесенные ветром. Часами весь первый, второй и третий дни нескончаемым был их поток. Уже в ближайшее утро все деревья и кусты стояли голые, такие же, как зимой!..
Через четыре недели вывелось потомство саранчи . Еще через месяц началось нашествие голодных стай саранчуков. Двух дней было достаточно, чтобы в полях и садах не осталось ни одного зеленого листочка. Еще через два дня то же случилось и в джунглях; даже кора на двухлетних деревьях была вся съедена!»
Вот такое описание нашествия южноамериканской саранчи оставил один из очевидцев.
Громадные полчища этих прямокрылых для многих стран, особенно в прошлые века, становились страшным экономическим, да и социальным бедствием.
Например, из исторических хроник известно, что в 125 году до н. э. несметные стаи саранчи обрушились на поля в североафриканских римских провинциях Киренаике и Нумидии. В результате посевы пшеницы и ячменя были полностью уничтожены, и 800 тысяч жителей этих стран умерли от голода.
Естественно, что такие невероятные по масштабам опустошения растительности могли принести только те стаи саранчи, в которых насчитывалось огромное количество особей. И действительно, в научных и статистических сводках по этому отряду насекомых в некоторых случаях приводятся просто фантастические цифры численности саранчи.
Так, однажды была зафиксирована стая, закрывшая собой небо на площади примерно в 250 квадратных километров: по приблизительным подсчетам, в ней находилось около 35 миллиардов насекомых, вес которых составлял порядка 50 тысяч тонн.
В сводках по этим насекомым описывается случай, когда опустившаяся на землю стая саранчи заняла площадь в 4200 квадратных километров. Это значит, что в ней как минимум находилось около 300-400 миллиардов особей.
А вот еще несколько любопытных фактов. В 1881 году жители Кипрауничтожили почти полтора миллиона тонн яиц саранчи. Но всего через два года саранча отложила в землю втрое больше яиц. Спустя десять лет население одного из районов Алжира истребило около 560 миллиардов яиц, примерно 1,5 триллиона личинок и огромное количество половозрелых самок, то есть в общей сложности – порядка 2,7 триллиона взрослой саранчи и ее молоди.
Безусловно, чтобы отдельные особи объединились в такие гигантские стаи, необходимы соответствующие условия. Однако установить их до 1915 года ученые не могли. Именно в это время русский исследователь Б.П. Уваров выяснил один очень важный факт.
Оказалось, что для перелетной саранчи, как и для других ее видов, характерно наличие двух фаз: стадной и одиночной, каждая из которых характеризуется характерными морфофизиологическими и экологическими особенностями. То есть, чтобы стать стадным насекомым, молодой саранче необходим целый комплекс факторов. Но сколько конкретно этих факторов требуется и каких именно, – пока ученые сказать не могут. Исследования, как говорят в таких случаях, продолжаются.
Кроме саранчи собираются в огромные стаи и совершают длительные миграции и другие насекомые.
Например, стрекозы. Так, один из видов стрекоз, обитающий на африканском континенте, регулярно совершает перелеты вдоль реки Нил. При этом летят стрекозы в точно выбранном направлении и любые встречные препятствия не огибают, а перелетают.
Нередко дальние путешествия совершают и мухи-журчалки. Обычно эти двукрылые отправляются в дальние странствия тогда, когда в местах их обитания сокращаются запасы тлей, которыми питаются их личинки. Массовые перелеты этих мух были отмечены на горных перевалах Пиренейских гор.
Очень часто мигрируют бабочки. Наиболее наглядным примером подобных путешествий чешуекрылых являются североамериканские данаиды – знаменитые монархи. Именно их миграционные пути наиболее изучены энтомологами.
Эти крупные и яркие бабочки нередко в осенний период формируют гигантские скопления и отправляются на юг. Одна такая «туча», состоящая из монархов, приземлилась однажды в штате Нью-Джерси, застелив своими телами территорию длиной 320 километров и более 5 километров шириной. Переждав ночь, на следующее утро бабочки отправились дальше.
Когда миграция у монархов завершается, они тысячами собираются на одних и тех же деревьях, не обращая внимания на стоящее рядом дерево того же вида.
Любопытно, что у этих бабочек в течение лета появляется два-три поколения. Однако в осеннее путешествие отправляется последнее из них. И, что самое поразительное, эти юные создания, не имеющие даже малейшего опыта дальних перелетов, безошибочно летят по определенному маршруту в места зимовок своих предков.
Вообще же многочисленные скопления бабочек в небе наблюдались многократно. Так, их нашествия отмечены в 1100, 1104, 1272, 1741, 1826 и 1906 годах. В целом же над Европой зарегистрировано более полутора сотен подобных случаев.
Любит путешествовать и бабочка-репейница. Эти чешуекрылые часто образуют гигантские стаи и совершают далекие путешествия, улетая за тысячи километров. Например, в 1942 году над некоторыми штатами США пролетала стая репейниц, состоящая, как считается, приблизительно из трех триллионов бабочек!
Миграции позвоночных животных
Об огромнейших стаях птиц, стадах животных или косяках рыб, которые в какой-то момент срываются из обжитых мест и отправляются в дальние дороги, людям известно давно. Животных гонят в подобные путешествия самые разные причины: перемена климата, голод, древние инстинкты продления рода и т. д.
Порой сообщества мигрирующих организмов достигают невероятной численности. Взять хотя бы рыб. В это трудно поверить, но однажды в океане был замечен косяк сельди, в котором насчитывалось около 3 000 000 000 особей.

Сельди нередко перемещаются огромными косяками
Сельдь во время миграции в полярных морях может перемещаться, погрузившись на значительную глубину, то находиться почти у самой поверхности. И движутся рыбы столь плотными косяками, что некоторые рыбы, выдавливаемые плывущими в общей стае своими сородичами, выскакивают из воды. Очевидцы уверяют, что если воткнуть весло в этот косяк, то оно останется стоять вертикально.
Огромными косяками перемещается и горбуша, идущая на нерест в реки.
«При солнечной и тихой погоде, – пишет советский исследователь М.Ф. Правдин, – с середины реки разнёсся и долетел до берега необыкновенный шум. Население кинулось на берег, и здесь все долго любовались, как огромнейший косяк горбуши с сильным шумом и с беспрерывным выпрыгиванием отдельных рыб шёл вверх по реке, словно новая река ворвалась в реку Большую. Полоса шумящей рыбы тянулась не менее как на версту, так что без преувеличения можно считать, что в этом косяке был не один миллион рыб».
Иногда в огромные стаи на поверхности водной глади собираются и морские змеи. Так, в 1932 году в Малаккском проливе было замечено огромное количество беспорядочно сплетенных змеиных тел. Живая лента, которую образовали рептилии, при ширине три метра растянулась приблизительно на 110 километров. В этом скоплении находилось примерно около миллиона змей. Что послужило причиной для такого массового скопления змей? -сказать трудно. Но, скорее всего, то было брачное сборище.
Огромные стаи образуют и птицы, особенно во время осенних и весенних миграций. Нередко в них насчитываются сотни тысяч особей. Особенно это касается мелких птиц. Впрочем, вряд ли когда-нибудь будут побиты рекорды, которые в позапрошлом веке устанавливали американские странствующие голуби.
Эти птицы обитали на территории США и Южной Канады. Когда стая этих птиц появлялась в небе, то становилось так темно, словно наступали ранние сумерки. И длилось это «затмение» порой довольно долго, поскольку птицы своими телами закрывали весь небосвод от края до края в течение нескольких часов.
Американский орнитолог Вильсон описывает стаю голубей, которая растянулась на 360 километров. По приблизительным подсчетам зоолога, в этом птичьем сообществе находилось около 2 230 000 000 голубей. Другой орнитолог – Одюбон – сообщает о стае этих птиц, которая объединяла приблизительно 1 115 000 000 особей!
Но не только птицы собираются в огромные стаи. В миграционный период гигантские сообщества образуют и многие млекопитающие. Так, однажды на Таймыре с вертолета было замечено стадо оленей численностью в 300 тысяч особей.
Впрочем, это не такое уж и большое стадо диких млекопитающих. Когда-то по американскому северу кочевали стада карибу, насчитывающие миллионы особей. Например, одно стадо в течение четырех суток беспрерывной лавиной двигалось мимо изумленных охотников. Впоследствии очевидцы этого «марш-броска» животных говорили, что в стаде находилось около двадцати пяти миллионов оленей.
В огромные стада в поисках пастбищ собираются антилопы гну, обитающие в Танзании. Животные перемещаются бесконечным потоком, в котором иногда насчитывается до полутора миллионов особей.
А в 1929 году один путешественник встретил в Калахари смешанное стадо гну и зебр, в котором, по его словам, было примерно десять миллионов животных!
Когда-то по бескрайним просторам степей и полупустынь Южной Африки были широко распространены так называемые горные скакуны. В дождливый сезон, когда земля покрывалась обильной зеленью, а реки и озера наполнялись живительной влагой, эти животные небольшими группами кочевали от пастбища к пастбищу. И так продолжалось до тех пор, пока не наступала засуха.
Тогда горные скакуны покидали родные места и, собираясь в огромные стада, двигались по выжженной беспощадным солнцем саванне в поисках еды и воды. В некоторых из таких стад было до миллиона животных.
Порой голод, а возможно, и какие-то внутренние факторы, заставляют сбиваться в огромные «орды» и белок. Так, в конце XIX века небывалому нашествию этих зверьков подвергся город Нижний Тагил.
«Белки шли то в одиночку, – пишет известный русский библиограф и писатель Н.А. Рубакин, – то кучками, шли все прямо и прямо, бежали по улицам, перескакивали через заборы и изгороди, забирались в дома, наполняли дворы, прыгали по крышам».
Белки двигались, не обращая внимания ни на людей, ни на собак, которые их загрызли в огромном количестве. Люди тоже набили их немало. И, несмотря на опасность, они все равно шли. Нашествие длилось до самого вечера. На ночь зверьки попрятались, но, как только небо посветлело, они продолжили свой путь. Три дня белки осаждали Тагил.
За городом текла быстрая и широкая река Чусовая. Но она не остановила бесчисленную массу зверьков. Они бросались в холодные волны и, задрав вверх хвостики, плыли к другому берегу.
Уже потом выяснилось, что в Нижний Тагил попала лишь небольшая часть белок. Основная их масса прошла в восьми километрах от города. В этой беличьей армаде предположительно находилось несколько миллионов особей.
Массовые миграционные марши совершают удивительные, весом от 70 до 100 граммов, зверюшки, обитающие в арктической тундре. И хотя это уж и не такие редкие млекопитающие, тем не менее увидеть их можно лишь в особые годы.
И связано это с тем, что численность леммингов периодически меняется, причем в совершенно невероятных пределах: три-четыре года зверьков днем с огнем не сыскать, а потом вдруг – «демографический взрыв». Лемминги кишат повсюду, словно рыба в неводе. Загадка? Конечно! Впрочем, также как и их внезапные марш-броски, когда лемминги вдруг собираются в огромные стаи и отправляются в далекие путешествия. Причем в пути эти миролюбивые комочки шерсти превращаются в весьма агрессивных грызунов.
С этими путешествиями леммингов связано немало легенд. Например, миф о коллективном самоубийстве грызунов. Якобы, когда число леммингов возрастает, они, сбившись в огромные стаи, направляются к морю и дружно бросаются с обрыва в пучину. Сегодня биологи уверены: самоубийства леммингов – выдумка, хотя, возможно, некие неизвестные доселе механизмы и провоцируют это явление.
А вот то, что лемминги вовсе не боятся воды, – правда. По крайней мере, давно замечено, что во время миграции зверьков не останавливают ни холодные быстрые реки, ни широкие озера. Они без особых усилий проплывают два-три километра и, выбравшись на сушу, уверенно продолжают свой поход в неизвестность. Но так плывут эти крохотные существа только по спокойной воде: когда же налетает ветер и поднимаются волны, грызуны тонут. Кстати, следует иметь в виду, что в данном случае речь идет о норвежских леммингах, в отличие от которых канадские, например, не мигрируют вовсе.
И встречаются норвежские лемминги исключительно в Скандинавии и на Кольском полуострове, где под трехметровым слоем и зимуют, находясь практически в полной безопасности, так как врагам трудно добраться до их гнезд.
Лемминги не впадают в зимнюю спячку и поэтому размножаются даже на морозе. Запах самки, готовой родить потомство, самцы чуют на расстоянии более ста метров. И как только они его уловят, сразу же со всех сторон устремляются к ней и начинают ожесточенную борьбу за право обладания «невестой».
Однако счастливчикторжествует недолго: после короткого спаривания самка сразу выгоняет его за порог норы. А уже в конце февраля у нее появляется первый выводок, в котором всего три-четыре детеныша. Зато летом их вдвое больше, и родить в этот период самка может до пяти выводков.
Но так ведут себя лемминги в годы обычной численности популяции. Когда же зверьков становится много, их характер резко меняется. Зверьки собираются в стаи и начинают мигрировать. В поисках корма они преодолевают расстояния в сотни километров. В этих походах по тундре самки испытывают такой стресс, что им не удается забеременеть.
В поведении леммингов появляется агрессивность: встав на задние лапки, они с яростным писком и хрюканьем бросаются на все, что движется – будь то человек, животное или машина. Укусы разъяренного грызуна очень болезненны.
Лемминги ужасно прожорливы. Причина такого аппетита – в бедности рациона, состоящего в основном из мхов и различных трав. Другой пищи для грызунов в тундре нет. Две трети съеденного леммингами – это просто «балласт», который даже не переваривается. Именно в «меню» зверьков некоторые ученые видят регулятор загадочных взрывов численности леммингов. Недостаток корма задерживает рост и созревание леммингов – выводки становятся меньше. Когда же травы и мха много, число леммингов стремительно возрастает. Другие же зоологи считают, что численность леммингов зависит от количества их главных врагов – горностая, белой совы и полярной лисицы.
Есть и еще одна гипотеза, которая связывает взлеты популяции леммингов с механизмами защиты у тундровых растений хлопчатника и осоки, составляющих основу их рациона. Эти растения синтезируют особые вещества, которые блокируют действие пищеварительного сока лемминга. Но пока зверьки поглощают хлопчатник и осоку умеренно, растения не выделяют яд в критических количествах.
Когда же лемминги съедают все вокруг подчистую, – а такое случается, когда численность возрастает в десятки и сотни раз, – растения начинают синтезировать вещества-блокаторы беспрерывно. В результате лемминги не в состоянии переварить съеденную траву.
В ответ организм лемминга начинает производить все больше и больше желудочного сока и в результате истощается гораздо быстрее, чем от обычного голода. И чем больше лемминг ест, тем голоднее становится. Итогом подобного сбоя и являются, по мнению ряда ученых, массовые миграции.
Самые длинные миграции
Кроме многочисленности особей в одной миграционной стае, поражает человеческое воображение и протяженность пути, по которому перемещаются отправившиеся в далекое путешествие виды животных.
Взять, например, полярных крачек. Эти небольшие белые птицы с «беретиками» на макушке головы гнездятся на севере Канады, Аляски, Сибири и Европы, а также в Гренландии. Иногда они селятся настолько близко к полюсу, что во время высиживания с неба порой падают хлопья снега. И тогда птицы, чтобы защитить птенцов от холода, вокруг гнезд нагребают в кучи снег.
С наступлением осени крачки неожиданно покидают обжитые места и отправляются в теплые края. Хотя назвать те места, куда они держат путь, теплыми тоже довольно сложно, поскольку зимуют эти птицы в. Антарктиде.

Два раза в год полярные крачки перелетают из канадской тундры до Антарктиды и обратно
Если крачки летят из Канады и Гренландии, то их маршрут пролегает сначала через Европу. У Британских островов они встречаются с сибирскими и европейскими родственниками, и уже вместе вдоль побережья Франции и Португалии движутся в Африку. Добравшись до Сенегала или Гвинеи, стаи крачек делятся на два рукава: одни летят к Огненной Земле, другие – в холодные моря Росса и Уэдделла.
Два раза в год эти неуемные птицы из канадской тундры до Антарктиды в общей сложности пролетают по 19 тысяч километров, то есть их путь в обе стороны равен кругосветному путешествию вокруг экватора – почти 40 тысячам километров.
Еще более длинные перелеты совершают крачки, обитающие на Чукотке. Сначала они летят вдоль сибирских берегов Ледовитого океана на запад. Затем, обогнув Скандинавию, сворачивают к берегам африканского континента. И только после этого долгого зигзагообразного перелета устремляются к Антарктиде. При этом пролетают птицы в одну сторону 30 тысяч километров, и столько же – в обратную. И вот что любопытно в этом уникальном перелете: крачки, оказывается, летят над холодными океаническими течениями, в которых больше разной живности. Ее-то они и ловят, бросаясь в холодные воды с высоты. Кстати, по этим же, правда, водным маршрутам передвигаются и усатые киты.
Буревестник Уильсона тоже огибает Землю от полюса до полюса, только в обратном направлении. Зиму он проводит около Северной Шотландии и Ньюфаундленда, а птенцов выращивает в суровом климате антарктических островов.
Известные нам ласточки и стрижи тоже совершают немалые перелеты: их протяженность около десяти тысяч километров. При этом свои воздушные «марш-броски» стрижей беспосадочные: птицы не только утоляют в полете голод и жажду, но и даже спят на лету.
А вот чернозобые гагары в далекий путь отправляются вплавь. Причем плывут они на север, хотя и убегают от зимы. Парадокс? Отнюдь! Дело в том, что доплыв по рекам Сибири к северному побережью острова Таймыр, птицы входят в Карское море, где сразу поворачивают на запад. Затем, добравшись до Карских ворот, попадают в Баренцево море, которое пересекают, огибая Скандинавию. После этого броска они попадают в Северное море, а уж потом и на запад Балтийского, где и проводят зимовку. Приличный кусок пути преодолевают птицы – 6 тысяч километров. И почти все время вплавь.
Уникальный результат демонстрируют ржанки, которые обитают на Аляске и Чукотке, но зимуют на Гавайях. Между этими двумя точками Земли суши нет, но птицы за двадцать два часа беспересадочного полета преодолевают это расстояние, равное трем тысячам километров!
Поразительные по протяженности миграции совершают и неуклюжие на вид морские котики, размножение у которых происходит на островах Прибылова и Командорских. Как только у животных подрастут детеныши, котики с Командор отправляются в плавание в югозападном направлении, добираясь иногда даже до Японии, а «прибыловские» котики устремляются на юго-восток, к Калифорнии. При этом длина пути, проплываемого животными в оба конца, составляет примерно 10 000 километров.
Обычно при красочности коралловых рифов и многообразии его обитателей, в водах открытого океана тропиков живых организмов очень мало, поскольку эти воды бедны кормовыми ресурсами. По этой причине в этих местах практически не встречаются и огромные усатые киты, питающиеся мелкими ракообразными – крилем.
И только Карибское море, а также моря вокруг Галапагосских островов кишат планктоном и рыбой, и столь обильная кормовая база приманивает сюда многих китообразных: дельфинов, кашалотов, голубых и горбатых китов.
Приплывают же они в эти обильные кормами места из полярных морей, преодолевая порой расстояние в 6400 и более километров. Причем во время столь длительного путешествия они почти не питаются. Хотя некоторые самки в этот период находятся в состоянии беременности или выкармливают молоком новорожденных.
Тщательные и многолетние исследования морских черепах удивили ученых многими своими поведенческими особенностями. Например, эти рептилии совершают поистине грандиозные по своей длине океанические путешествия. Так, в период между 2006 и началом 2008 года со спутника постоянно регистрировалось перемещение кожистых черепах из мест своего гнездования на пляжах Папуа до берегов американского штата Орегон, то есть к другой стороне планеты. Это путешествие заняло 647 дней. И за это время животные преодолели расстояние, равное 20 560 километрам.
Во время миграций многие тысячи километров оставляют за собой и некоторые рыбы. Так, чавыча поднимается вверх по реке Юкон на 3,5 тысячи километров. Плывут рыбы со скоростью двадцать, а в отдельные периоды и пятьдесят километров в сутки.
Но если лососевые рыбы на нерест плывут в родные реки, то змееподобные угри, наоборот, из рек – в моря, преодолевая расстояние в 6000 километров. Причем плывут они в одно место в Мировом океане – в Саргассово море. Именно здесь они мечут икру. Взрослые рыбы после нереста погибают, а назад в реки года через три возвращается молодь.
Конечно, столь огромная протяженность миграций крупных животных поражает. Но еще большее удивление вызывают миграции насекомых, преодолевающих порой не сотни, а тысячи километров по воздуху, пролетая над бескрайними морями и высочайшими горами.
Например, стая саранчи, зародившись в Африке, уже через неделю может оказаться в Европе, преодолев за это время почти две с половиной тысячи километров.
Бабочки-монархи, обитающие на юго-востоке Канады, летят на зимовку в Мексику, оставляя за собой путь почти в три тысячи километров.
Конечно, упомянуть обо всех «кругосветных» путешествиях рыб, птиц, зверей или же насекомых практически невозможно, но и этой информации вполне хватает, чтобы понять, сколь длинны расстояния, преодолеваемые многими живыми организмами во время миграций.
Рекордные колонии беспозвоночных
Нередко одиночные виды животных объединяются в сообщества, причем в довольно многочисленные. Вообще же присутствие колониальных форм жизни характерно для многих типов и классов беспозвоночных животных: начиная от простейших и заканчивая пауками и насекомыми. Правда, в большинстве случаев в этих сообществах число особей невелико.
Кроме того, даже если такие сообщества многочисленны, они нередко представляют собой лишь сборище десятков, сотен или тысяч особей на небольшом участке земной поверхности или на дне водоема.
Безусловно, обо всех организмах, которые живут большими колониями или сообществами, рассказать в небольшом очерке практически невозможно, поэтому остановимся лишь на некоторых, на наш взгляд, наиболее интересных.
Например, на радиоляриях. О том, что эти одноклеточные объединяются в колонии, ученые знали давно. Но истинных размеров этих сообществ они себе, видимо, не представляли. Однако в теплых водах Флоридского течения океанологи порой натыкались на колонии, которые имели длину от нескольких сантиметров до метра и более. Можно только предполагать, сколько миллионов одноклеточных существ, диаметром в сотые доли миллиметра, находилось в таких огромных сообществах.
Но такие гигантские колонии, конечно же, и питаются в соответствии со своими размерами. В их рационе обычными компонентами являются фитопланктон, личинки моллюсков, одиночные радиолярии, маленькие гидромедузы и другие организмы. В качестве источника пищи они используют продукты фотосинтеза своих симбионтов, а также их самих.
Как выяснилось, колонии радиолярий представляют собой достаточно сложную биологическую структуру. Так, наблюдения показали, что в колонии осуществляется контроль над водорослями-симбионтами. Их расположение меняется в зависимости от светового режима: в темноте водоросли собираются вокруг центральной капсулы, на свету они равномерно распределяются по всей студенистой массе колонии. И осуществляют радиолярии это перемещение симбионтов с помощью собственных псевдоподий.

Различные виды радиолярий
На концах некоторых колоний, особенно тех, что активно питаются личинками моллюсков, имеются специальные образования, где концентрируются, а затем выводятся из колонии раковины съеденных личинок. Осуществляют сбор и транспортировку остатков к месту утилизации собранные в пучки специальные псевдоподии.
Огромные по размерам колонии образуют некоторые кишечнополостные животные. Появление таких структур связано с размножением этих животных почкованием, когда в результате этих процессов из старых полипов образуются новые, что и приводит к увеличению размеров колонии. А поскольку у многих кораллов колонии растут во всех направлениях, то порой они достигают весьма внушительных размеров: например, колонии некоторых видов рода Porites имеют объем более 100 кубических метров. Если учесть, что размер одного полипа равен приблизительно 1-1,5 миллиметра, то в таком объеме находятся как минимум десятки миллионов полипов. И появляется такая колония-гигант в результате почкования всего одного-единственного полипа.
Образуют колонии и некоторые виды коловраток. Но сообщества этих животных небольшие: они объединяют всего 2500-3000 особей.
Еще одна группа животных, склонных к формированию колоний, – мшанки. Да и вообще в своем большинстве – это колониальные организмы. И их сообщества нередко состоят из громадного числа особей. Например, кусочек колонии Flustrafoliacea весом 1 грамм содержит около 1330 отдельных организмов. Разрастается же эта мшанка иногда до нескольких метров, достигая килограммового веса.
А некоторые виды мшанок покрывают своими телами площади свыше 200 квадратных метров. При этом высота колоний достигает порой 12 сантиметров.
Известно о существовании колоний и у таких индивидуалистов, как пауки. Паучьи общины зарегистрированы у пауков вида Theridion nigroannulatum. Живут они в гнёздах, в которых иногда собирается несколько сотен, ато и тысяч особей.
Когда пауки охотятся, из своего жилища они протягивают нити к листьям и ждут появления жертвы. Пока вроде все происходит по обычному паучьему сценарию. А вот дальше пауки демонстрируют уже нечто новое и оригинальное.
В тот момент, когда насекомое касается нити и попадает в ловушку, из убежища выскакивает большая группа пауков и затягивает жертву липкой паутиной, при этом еще и впрыскивая ей изрядную порцию яда.
Причем, охотясь, пауки контактируют друг с другом не только во время нападения на жертву, но и потом. Например, если добыча оказывается слишком тяжелой, то они тащат её, по очереди сменяя друг друга.
Но нападением на жертву согласованные действия пауков не ограничиваются. Когда эта ватага восьминогих охотников притащит добычу в жилище, здесь тоже соблюдаются принципы коллективизма: каждый из обитателей гнезда получает свою порцию еды.