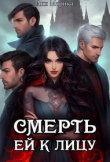Текст книги "Месть под острым соусом (СИ)"
Автор книги: Аля Морейно
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
Глава 6
Через неделю меня выписывают. Врачи уверяют, что угроза миновала и можно возвращаться к привычным занятиям. Только моё самочувствие не столь оптимистично. Боль от ушибов не отпускает, преследует слабость, всё время клонит ко сну. Возможно, все беременные так себя чувствуют.
В университете я всё-таки появляюсь. Дима не отходит от меня ни на шаг, опекает, как маленькую. Это безумно приятно. Наши отношения выходят на совершенно новый уровень, полный нежности и заботы. Таким любимый нравится мне ещё больше. И я бы могла с уверенность сказать, что абсолютно счастлива, если бы не переживания за человека, которого сбила.
Информация о его состоянии весьма скудная. Димин отец объясняет это тем, что он – сын крупного бизнесмена, да и мама его тоже известна в кругах бизнес-элиты. Такие люди не любят публичности, поэтому нет ничего удивительного в том, что о здоровье сына они не трубят на каждом углу. Правда, напрягает, что меня тоже никак не информируют, а ведь именно от того, насколько сильно он пострадал и какими будут последствия травм, зависит наказание.
Меня неоднократно вызывает следователь, по сотому разу задаёт одни и те же вопросы. Я понимаю, что им надо всё выяснить, чтобы максимально объективно оценить степень моей вины, а потому снова и снова пересказываю одно и то же. Мне нечего скрывать, я ничего не нарушила, скорость былы ниже допустимой. Разве что не пропустила пешехода. Но я его не видела из-за обморока!
– Мы нашли свидетелей, сняли записи с камер наблюдения и навигаторов, так что, в целом, картина ДТП ясна. Дело простое, можно передавать в суд, – следователь бубнит себе под нос, листая папку с бумагами.
– А как… себя чувствует пострадавший? – всякий раз боюсь задавать этот вопрос.
– Он жив. Но состояние по-прежнему тяжёлое. Насколько мне известно, родственники пытаются найти западную клинику, в которой его могут спасти. Повезло, что они люди богатые и в состоянии оплатить лечение.
Знаю я… Мама пыталась с ними поговорить, хотела предложить деньги, но над суммой, которую мы можем взять в кредит под квартиру, они лишь посмеялись. Говорят, что только конструкции для крепления костей стоили дороже.
Я бы очень хотела повидаться с ним и попросить прощения, но в реанимацию никого не пускают. Он жив – и это главное. Значит, меня не посадят…
Время движется незаметно. Приготовления к свадьбе идут полным ходом. Мы со свекровью выбираем платье, остаётся подогнать его по фигуре, оставив небольшой припуск на возможный живот. Его пока почти не видно, но теперь с каждой неделей он становится всё больше и больше. Малыш растёт.
На УЗИ нам сделали его первую фотографию. И хотя там мало что можно разобрать, сам факт, что на этой картинке изображён мой ребёнок, вызывает трепет и умиление. Беременность делает меня очень сентиментальной и плаксивой, я постоянно плачу по любому поводу.
И кажется, ничто не способно омрачить мою радость, но однажды…
– Слушай, Маш, тут такое дело. Мои предки считают, что нам надо отложить пока свадьбу, – Дима в глаза не смотрит, отводит взгляд. Значит, сам знает, что неправ.
– Как это отложить? Почему? На сколько времени?
– Пока следствие идёт. Мало ли чем всё закончится.
– Дима, а какое отношение это имеет к нашей свадьбе? Я не понимаю, зачем откладывать. У меня уже вот-вот живот будет огромный, я в платье не влезу! Ты же знаешь, что я не виновата, у меня случился обморок, есть медицинское заключение.
– Вот и прекрасно. Если тебя оправдают, мы сразу после суда поженимся. Справка из консультации на руках, нас зарегистрируют по ускоренной процедуре.
– Погоди. А если не оправдают?
– Не знаю даже. Понимаешь же, что отец мой – не последний человек. Как на него посмотрят, если тебе срок дадут, пусть даже условный, а я женюсь на тебе? Получится, что невестка Рогозина – уголовница? Как он это избирателям объяснять будет? Да и сам факт, что ты сбила человека. Кто там будет разбираться, обморок у тебя был или передоз наркоты? Знаешь же, какие журналисты ушлые – разнесут сплетни, потом не отмыться.
– Дима, если мы поженимся, то судья не рискнёт идти против твоей семьи и учтёт все смягчающие обстоятельства!
– Маша, ну что я могу сделать? Отец сказал: нет, только если тебя оправдают. Иначе грозится денег не дать. А как свадьбу играть без денег? Жить потом как? У меня-то своих денег ещё нет, – он выглядит виноватым. Мне даже жаль его – родители вынуждают его делать то, чего он не хочет. Но мне никак не удаётся подобрать нужные слова и аргументы, чтобы он решился принять в этом споре мою сторону.
– Да как-то справимся! В конце концов, не обязательно пышную свадьбу делать, можно просто расписаться. И потом, мы с тобой будем работать.
– Да какое там работать? Тебе рожать меньше, чем через полгода. Знаешь, сколько денег понадобится? Твои вряд ли нам чем-то помогут.
– Это да… Но как-то прорвёмся! Ребёнок же в любом случае родится, его никак не отменить и не перенести!
– Отец сказал, что если тебя посадят, то после родов мы, возможно, заберём малого к себе. Дома ему наверняка будет лучше, чем с тобой в тюрьме.
Киваю, как китайский болванчик. Не верю, что меня признают виновной, это просто не укладывается в голове. Мужчина, которого я сбила, жив, у его родственников есть деньги на хорошее лечение, не сомневаюсь, что врачи сделают всё возможное. У меня смягчающие обстоятельства. Разве ж судья – не человек? Должен войти в положение.
Уговариваю себя, хотя сильно нервничаю. Суд уже вот-вот.
– Дима, думаешь, мне могут дать реальный срок?
– Кто его знает? Отец сказал, что семья там влиятельная, в городе их фамилия хорошо известна. Наверняка связи есть везде. Если захотят тебя наказать, то могут добиться и реального срока.
– И что, твой папа никак не может мне помочь? Я же не чужой человек ему.
– Маша, ну и не родная ведь пока.
– Да как же так, если я ношу его внука? Или внучку, – рука непроизвольно ложится на живот.
– Он не отказывается от внука. Но боится за свою репутацию. Ты же знаешь, что скоро выборы, а он баллотируется по мажоритарному округу, тут каждое, даже самое мелкое пятно на биографии, может стоить ему карьеры. Мы не имеем права рисковать. А вот если он пройдёт, то в случае плохого исхода суда, постарается посодействовать, чтобы тебя выпустили условно-досрочно.
– Ты спрашивал у него про деньги на адвоката? А то бесплатный адвокат – совсем неопытная девочка. Мне бы для подстраховки нанять кого-то позубастее.
– Нет у него свободных денег. Говорит, что всё в деле крутится. А в связи с выборами он не хочет светить лишними средствами. Да что ты переживаешь? Не посадят тебя! Разве что штраф какой-то присудят. Но с этим, думаю, отец должен помочь.
Глава 7
Июнь 2012 г.
Возможно, Димин отец поступает правильно, я вижу логику в его поступке. Ему во что бы то ни стало нужно выиграть выборы, а невестка-уголовница в идиллию его семьи не вписывается никак.
Но почему-то мне кажется, что у него достаточно влияния, чтобы помочь мне выкарабкаться из западни, в которую я угодила. На его стороне деньги, связи и статус. Если бы мы с Димой расписались и я официально стала Рогозиной, то и отношение у следствия ко мне наверняка было бы иное, и для суда это было бы серьёзным смягчающим обстоятельством. Если бы он нанял мне хорошего адвоката… Тогда с меня бы сняли обвинение, и все от этого только выиграли бы. Но он, вероятно, боится использовать даже косвенные рычаги давления на суд. Он позиционирует себя честным политиком и не хочет создавать прецедента, чтобы в нём усомнились избиратели. А что будет при этом со мной – не так важно. И что будет с моим ребёнком, его внуком? Неужели карьера политика стоит того, чтобы жертвовать благополучием малыша?
Почему Дима идёт на поводу у отца? Почему не объяснит, что я отчаянно нуждаюсь в помощи и больше мне её ждать неоткуда? Если они бросят меня на произвол судьбы, то может пострадать ребёнок.
Разговор с женихом выбивает из колеи. Я нервничаю, хотя врач мне строго-настрого запретил волноваться. Спустя несколько часов начинает тянуть живот. Со временем боль не утихает, приходится вызывать «скорую».
Врачи в роддоме констатируют угрозу прерывания и кладут меня на сохранение. Снова нужны деньги, которых у мамы нет.
Дима приезжает лишь наутро, покупает необходимые лекарства и отправляется в университет. Скоро сессия. Напуганная перспективой оказаться за решёткой, я пыталась получить разрешение сдать зачёты и экзамены досрочно, но декан не счёл мои аргументы достаточными и отказал. Жаль, я могла хотя бы закончить второй курс…
Впрочем, хандрить нельзя! У меня всё будет хорошо, иначе быть не может! Я невиновна, суд не сможет это проигнорировать.
Первое заседание назначено уже на следующей неделе. Конвой приезжает за мной прямо в роддом. Полицейские недовольно переговариваются за дверью, ожидая, когда закончится капельница.
Я представляла себе зал суда огромным, с множеством людей. Но в реальности помещение оказывается небольшим и едва вмещает немногочисленных присутствующих.
Вглядываюсь в лица зрителей, выискивая Диму, но не нахожу. Что могло случиться, что он не пришёл? Встречаюсь глазами с мамой. Лицо опухшее, бледное. Впервые вижу её сгорбленной – обычно, что бы ни случилось, она ходит с высоко поднятой головой и прямой спиной.
Судья объявляет начало заседания. Сторону обвинения представляет адвокат. Он предоставляет суду какие-то справки, медицинские заключения, счета за лечение. Адвокат зачитывает документы, сыплет медицинскими терминами, большая часть из которых мне непонятна. Из всей обвинительной речи я делаю вывод, что пострадавший мужчина жив, но находится в тяжёлом состоянии. За границей ему сделали несколько операций, но в результате аварии он стал инвалидом.
Вслушиваюсь в каждое слово. Самое важное для меня, что этот человек жив, но настораживают слова об инвалидности и разрушенной карьере. Панический страх перед решением судьи множится чувством вины за покалеченную жизнь.
Мой адвокат, молоденькая девушка, смотрится убого. Не нужно быть специалистом в юриспруденции, чтобы понимать, что представитель обвинения – акула, а мой – маленькая беззубая рыбёшка. Она тоже предъявляет суду выписки из моей карты, медицинские заключения. Однако адвокат настаивает, что эти документы никакого отношения к делу не имеют, что это манипуляция и игра на чувствах, которые не чужды даже самым беспристрастным судьям. В результате часть справок к делу приобщать отказываются.
Я была уверена, что за одно заседание вопрос не рассмотрят, что будут тянуть, дожидаясь, когда станут понятными последствия для здоровья пострадавшего. Но всё происходит довольно быстро. То ли не хотят откладывать на период отпусков, то ли дело простое и нечего там разбирать за два заседания. Суд удаляется для совещания.
Сижу ни жива – ни мертва. Сердце бьётся, как птица в клетке. Я осознаю, что виновата, что сломала человеку жизнь, что моя беспечность должна быть наказана. Уже даже не надеюсь на оправдательный приговор, разве что случится какое-то чудо. Но беременность и обморок в момент аварии, по заверению адвоката, должны учесть как смягчающие обстоятельства, а потому условный срок всё ещё кажется мне вполне возможным. А если срок дадут реальный, то по статье мне светит до трёх лет. Это страшно – малыш родится в тюрьме и проведёт два с половиной года жизни без мамы. Узнает ли он меня, когда я освобожусь? Надеюсь, что да, ведь у малышей с мамами есть особая связь… Да и всегда остаётся шанс условно-досрочного освобождения.
Время ожидания тянется невыносимо медленно. Снова и снова перебираю в памяти все возможные варианты исхода суда. Настраиваюсь на худшее, а если приговор окажется мягче, то я смогу просто порадоваться.
Три года. Как прожить эти три года? Вдали от семьи, от малыша. Университет придётся бросить. Смогу ли я потом восстановиться? Мысли носятся в голове какими-то обрывками, перескакивают с одного на другое. Не могу представить, как это – три года провести в тюрьме. Мои друзья закончат учёбу, получат дипломы, устроятся на работу, а я будто выпаду на целых три года из жизни!
Судья возвращается и начинает зачитывать приговор. Она произносит много слов. Часть из них я понимаю, часть – не очень. Знаю, что это – ритуал, самое главное будет сказано в конце. Затаив дыхание, жду.
– … признать Иванову Марию Игоревну виновной в совершении преступления по статье…. – в голове шумит, помехи словно размывают чёткость слов и звуков.
А дальше мне кажется, что я глохну, что всё это происходит не тут, не со мной, а где-то с кем-то другим, в иной реальности.
– … Назначить Ивановой наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Как? Как такое может быть? Я выучила эту статью от корки до корки, все её части и параграфы, я изучила в интернете судебную практику. Мне дали срок, будто человек погиб в результате аварии! Да, я помню, что в этой же части и тяжёлые повреждения. Но ведь ещё не известно, какие результаты даст лечение! И у меня есть смягчающие обстоятельства – неужели их вовсе не учли?
Судья что-то говорит об апелляции, но я не слушаю. Семь лет! Я и трёх-то боялась, как огня. А семь – это практически вся жизнь! Мой ребёнок всё детство до школы проведёт без мамы? А я? Через семь лет мне будет двадцать шесть!
Поверить в происходящее невозможно. Смотрю на маму. Согнувшись в три погибели, она рыдает. Ненароком взгляд останавливается на матери пострадавшего. Красивая, ухоженная женщина, богато одетая. По её виду совсем не скажешь, что в её семье горе. Она улыбается, переговариваясь с адвокатом.
За мной приходит конвой. Куда меня повезут? У меня ещё две капельницы, назначенные врачом. Мне позволят закончить лечение? И спросить не у кого. Конвоиры – как глухонемые истуканы.
Глава 8
Меня заводят в тёмное помещение и приказывают ждать. Всё, как в тумане. Тут только моё тело, душа осталась рыдать там, в зале суда. Это не я. Всё это происходит не со мной. Мне должны были дать условный срок! Откуда они цифру такую взяли – семь лет? Почему? Я к этому не готова!
Слёзы льются без остановки. Этого не может быть! Не может! Мыслей нет… Внутри стоит дикий крик. Душа крошится. Семь лет. Семь! Лет! Вся молодость, лучшие годы… Ну почему судьба так жестока?
А ребёнок? Как я смогу выносить его в колонии? Как буду рожать? Как смогу расстаться с ним? Как он сможет прожить без меня? Всё детство… У всех детей будет мама, а у моего малыша – нет? Почему это случилось со мной?
В комнату приводят ещё одну женщину. Она не плачет – наверное, заранее знала, что её осудят, и успела свыкнуться с этой мыслью… Женщина садится рядом, обнимает меня.
– Не убивайся так, не трать силы и нервы. Они тебе ещё понадобятся. Сколько тебе дали?
– Семь… лет. Я так долго не проживу! Мне всего восемнадцать!
– А звать тебя как?
– Маша.
– А я – Галя.
За нами приходят конвоиры. Выходим на улицу, нас грузят в автозак и куда-то везут.
– Как думаешь, куда мы едем? – спрашиваю, пытаясь представить, что меня ждёт в ближайшее время.
– В СИЗО. Куда ж ещё? Теперь ждать, в какую колонию определят.
Страх неизвестности буквально парализует. Сколько ужасов всегда рассказывают о СИЗО и колониях. Неужели мне придётся через это пройти?
В камере нас с Галей встречают спокойно. Я забиваюсь на предложенную кровать, сворачиваюсь калачиком и тихонько скулю. Мне страшно, горько, обидно… Оплакиваю свою неслучившуюся молодость и сиротское детство моего малыша. И неожиданно понимаю, что Дима так и не пришёл…
Дни в СИЗО тянутся бесконечно. Находиться тут очень тяжело. Может, со временем можно привыкнуть, но пока каждый час, проведённый здесь, даётся с огромным трудом. Впрочем, час – понятие чисто условное. Сколько времени – понять невозможно. Ни часов, ни телевизора, естественно, в камере нет. Каждый миг жду, что за мной придут и отправят по этапу.
Теряю счёт дням. Даже не могу вспомнить, сколько их прошло после суда… Однажды меня вызывают и выводят на улицу с другими женщинами. Нас грузят в фургон и куда-то везут. Едем долго. Теплится надежда, что везут сразу в колонию. Но нет, на станции заключённых пересаживают в специальный вагон. Окна зарешёчены. Небо в клеточку….
Значит, везти будут далеко… Страх неизвестности ужасен. Он разъедает душу, превращает в параноика. Как это пережить и не сойти с ума?
В какую колонию меня направят? Я уже знаю, что тех, кто сидит впервые, не сажают вместе с бывалыми. Хочется, чтобы не слишком далеко от дома, чтобы мама хоть изредка могла приезжать проведывать меня. Не представляю своей жизни в заточении. И мне очень страшно…
Едем долго. Значит, далеко. Судьба-злодейка и тут оказалась не на моей стороне. По приезду оказываюсь в карантине – его все проходят до того, как попадают в камеру. Целыми днями реву. До сих пор не могу осознать, что здесь мне придётся провести целых семь лет жизни, все лучшие годы…
Когда я наконец попадаю в общую камеру, меня охватывает настоящий ужас. Если в карантине со мной было человек десять, то тут – не меньше, чем полсотни. Когда мы с двумя другими женщинами входим, на нас устремляется куча оценивающих взглядов. Топчусь, не зная, где я могу присесть, чтобы никого не обидеть и не нарваться на неприятности.
В последнее время вдруг начали отекать ноги. Стоять некомфортно. Оглядываюсь в поисках свободного места или какого-то знака от старожилов. Коленки дрожат. Крупная женщина с добрым усталым лицом встаёт с кровати и подходит ко мне.
– Беременная? – киваю. – Как же тебя так угораздило, бедолага?
Вопрос риторический…
– Идём, покажу, где ты можешь лечь. Меня Мама Люба зовут, а тебя?
– Я – Маша.
– Сколько же тебе, деточка, лет?
– Восемнадцать, через месяц девятнадцать будет.
– Совсем ребёнок, – вздыхает. – По какой статье? Сколько дали?
Называю. Я уже поняла, что все тут – в большей или меньшей степени знатоки уголовного кодекса.
– Гонять на машине любишь?
Отрицательно мотаю головой.
– Я аккуратно вожу. Так вышло, в обморок грохнулась, потеряла управление и наехала на пешехода.
– Насмерть?
– Нет, но медики сказали, что тяжкие повреждения, в общем, он инвалидом остался. Я ему ещё выплатить компенсацию должна. Огромную… До конца жизни из зарплаты придётся часть отдавать. И то, наверное, жизни не хватит…
– Устраивайся, деточка.
Забираюсь на свою кровать и снова плачу. Распухшее от слёз лицо – теперь моё постоянное состояние. Тут мне можно не заботиться о том, как я выгляжу, и я выливаю со слезами своё отчаяние.
– Не плачь, – Мама Люба гладит меня по голове. – Всего через семь лет, а может и раньше, ты выйдешь отсюда и начнёшь новую жизнь. Тебе будет не так много лет, у тебя всё ещё может получиться. Думай о будущем, строй планы, мечтай.
Семь лет – слишком долгий срок, чтобы мечтать… Сейчас мне кажется, что я не справлюсь…
День за днём. Втягиваюсь в режим, учусь шить. Никаких скидок или поблажек беременным тут не предусмотрено. Не высыпаюсь. Устаю адски. Чувствую себя роботом, который вот-вот сломается.
Чтобы не сойти с ума, пишу письма маме, Диме, Валюхе… Не знаю, отправляют ли их из колонии. Может, часть просто выбрасывают? Ответы получаю от мамы и изредка от подруги. Дима молчит. Но я и не надеюсь, что он будет писать. Бумажные письма в мире за забором считают пережитком прошлого. А для меня они – тоненькая ниточка, связывающая меня с той жизнью, которая проходит без меня.
Я много думаю, почему мне дали такой большой срок, не учли смягчающие обстоятельства, ещё и отправили в самую далёкую от дома колонию? Как будто надо мной навис какой-то злой рок, прогоняющий прочь моего ангела-хранителя.
Очень скучаю по маме, чувствую себя маленьким брошенным ребёнком. Из колонии можно звонить домой, но не могу себе позволить делать это часто – влетает в копеечку. Приехать ко мне мама тоже пока не может – не с кем оставить папу, да и дорого добираться через всю страну.
Дима не приезжает – свидания с ним мне не положены, он же не муж. Изредка приходят от него посылки. Звоню ему иногда, но разговоры у нас становятся всё суше и короче. Меня это пугает и безмерно расстраивает, по ночам я часто плачу. Но тяжёлая работа и недостаток отдыха делают своё дело – на эмоции не остаётся никаких сил.
Тут, в огромной забитой людьми камере меня находит мой ангел-хранитель в лице Мамы Любы. Без неё я бы не выдержала, сломалась бы в первый же день. Она старается оберегать меня от нападок других заключённых, подкармливает из посылок, которые получает от сестры, и разговаривает со мной. Без этой успокаивающей нервы болтовни я бы давно сошла с ума.
Мама Люба рассказывает, что оказалась в колонии за убийство мужа, который проиграл в карты их дочь.
– В тот день на работе мне вдруг стало плохо, и я вернулась в обед домой – выпить таблетки и отлежаться. С порога услышала в спальне возню и будто плач моей Милы. Навстречу вышел супруг – пьяный и какой-то непривычно дёрганный. Спросила у него: «Где Мила?». Он промычал что-то невразумительное. Я, не разуваясь, побежала на звуки вглубь квартиры, влетела в комнату, а там – два приятеля моего муженька с моей дочерью. Один держал её, другой уже штаны спустил. Недолго думая, схватила с пола утюг и огрела второго по голове. Тот, что держал, начал вопить и выскочил из комнаты. Супруг накинулся на меня: «Дура, какого чёрта ты наделала? Ты что, не знаешь, что карточный долг – это святое?». Я даже не сразу въехала, о чём он говорит, бросилась на мужа с кулаками, а он: «Милка совершеннолетняя, с неё бы не убыло. Ты меня опозорила перед друзьями! Как я долг теперь возвращать буду?». А у меня внутри такая лютая ярость поднялась, сама себя не узнавала. Схватила с тумбы ночник, да как приложила его по голове! Муж и упал. Когда скорая приехала, он был уже мёртвым. Суд счёл это превышением необходимой самообороны. В итоге я тут, а дочку сестра забрала к себе. Мила у меня умница, в университете учится на детского врача, последний курс ей остался.
История Мамы Любы потрясает меня и кажется в чём-то похожей на мою. Вот оно – наше правосудие. Мать, защищавшая свою дочь от насильников, оказалась в тюрьме за убийство мужа, который это организовал. Где справедливость?
Медленно приближается срок родов. Ребёнок то активно толкается, то затихает и почти весь день спит. Врача в колонии нет. Меня лишь один раз осматривает какой-то заезжий доктор, но ни УЗИ, ни анализов беременным тут не делают. Я даже не знаю, кто у меня будет – мальчик или девочка. Да и какая разница? Это будет мой малыш… Я его очень люблю, постоянно говорю ему об этом. Разговариваю с ним, рассказываю о себе и своей жизни. Хочу, чтобы он запомнил мой голос и узнал, когда мы с ним встретимся. Ведь это обязательно рано или поздно случится!
Представляю, как Дима привезёт малыша на свидание со мной. В колонии дают сутки на общение с близкими родственниками. Двадцать четыре часа – это ничтожно мало для встречи матери и ребёнка. Не могу без слёз об этом думать. Но изменить ничего нельзя…
Схватки начинаются раньше срока. Сначала слегка тянет живот, такое у меня бывает частенько в последнее время. Потом боли усиливаются и становятся более частыми, я принимаю их за схватки-предвестники. Но они не прекращаются, и в какой-то момент я понимаю, что роды начались. Надзирательница на мою просьбу отвести меня в санчасть или позвать врача никак не реагирует, отправляя меня работать. Незадолго до конца смены у меня отходят воды, но и после этого никто не торопится передавать меня медикам.
Нервничаю. Женщины много рассказывали мне о своих родах, но ответов на некоторые вопросы я так и не услышала, и как это происходит в колонии – не знаю. Увезут ли меня в роддом? Или роды будет принимать медсестра на месте?
Когда заканчивается смена, меня всё-таки отводят в санчасть и приказывают ждать. Время идёт, схватки усиливаются. Они всё ещё терпимые, но я волнуюсь всё сильнее, поскольку не знаю, как себя вести. Скорая приезжает за мной поздно вечером. Я уже корчусь от боли, но врачи не слишком обращают на меня внимание. Грузят в машину и увозят, видимо, в роддом.
– Раньше бабы в поле рожали – и ничего. Так что родишь, никуда не денешься, – подбадривает меня медсестра.
В роддоме какой-то праздник. От медиков улавливаю запах алкоголя. Меня наконец-то осматривает врач. Говорит, что раскрытие два сантиметра и что рожу я не раньше завтрашнего утра. Это пугает до чёртиков. Я уже с трудом выдерживаю схватки. Как пережить ещё часов шесть-восемь?
Сопровождающий меня конвой – молодые мужчины. В роддоме они явно чувствуют себя неловко.
– Мальчики, оставьте её тут. Никуда она от нас не денется. А сами идите в зал ожидания. Там диваны удобные и телевизор. Вы ж не будете тут на ногах стоять всю ночь, – врач выпроваживает мою охрану.
Перед тем, как уйти из предродовой, меня пристёгивают за руку к кровати.
– Погодите, а если мне в туалет понадобится? Ну или мало ли что… – обездвиженность не на шутку пугает.
– Медсестра меня позовёт, и я отстегну тебя, не боись. Мы всегда так делаем.
Ну раз это обычная практика, то я немного успокаиваюсь. Лежать с пристёгнутой рукой неудобно. Ищу положение тела, при котором схватки будут не так остро ощущаться, но мои движения ограничены, и лечь удобно не получается. Мечусь по кровати…
Все расходятся, ничего толком не объяснив. Медперсонал, видимо, продолжает праздновать. Нервы на пределе, меня бьёт озноб. Боль становится невыносимой. Понимаю теперь выражение «лезть от боли на стену». Если бы не пристёгнутая рука…
Когда терпеть боль становится невмоготу, я начинаю кричать. Зову хоть кого-нибудь, чтобы посмотрели меня и успокоили, что всё идёт нормально. Попросить бы обезболивающее, но на него нужны деньги, а их нет. Рука затекла, спину выламывает. Хочу повернуться на другой бок, но не получается – мешают наручники. Конвойные как ушли отдыхать, так ни разу за всё время ко мне даже не заглянули.
Через время на крики приходит санитарка. От неё несёт алкоголем, лицо хмурое, голос недовольный.
– Чего раскричалась? – ворчит, не глядя на меня. – Перебудишь всех.
– Больно очень. Позовите, пожалуйста, врача. Может, со мной что-то не так?
– Ну ты даёшь! Рожать всегда больно. Тебе что, мама не рассказывала?
Даже если и рассказывала, слова – это всего лишь слова. Они не могут передать всей гаммы ощущений. Тот, кто не рожал, ничего не знает о боли…
– А вдруг что-то не так? Врач сказала, что я рожу не раньше утра, а я уже терпеть не могу, я умру от болевого шока!
– Ишь, слова какие знаешь, шибко умная. Если доктор сказала, что утром, значит, утром. Ей виднее. Первые роды всегда сутки длятся, так что не капризничай.
Разве ж это капризы? Мне так больно, что нет сил терпеть.
– Позовите, пожалуйста, конвой, пусть пристегнут другую руку, эта затекла совсем.
– Спят они.
– Но сказали…
Санитарка уходит, не дослушав, а я снова остаюсь один на один со своей болью. Я не переживу… Не могу больше… Стону, кричу, рыдаю… И никому до меня нет дела.
Постепенно ощущения меняются. Боль становится терпимее, и я понимаю, что начинаются потуги. Истошно ору, чтобы привлечь внимание медперсонала. Чувствую, что ребёнок вот-вот появится. Что делать? Как себя вести? Тужиться, как показывают в фильмах? Или ждать врача?
Кричу, кричу, кричу… Никто не приходит.
Куда они все подевались? Ребёнок идёт.. Но я пристёгнута наручниками и даже не смогу подхватить его, если никого рядом не окажется. Боль адская. Кажется, внутри всё разрывается.
Не сразу понимаю, что что-то идёт не так… Кричать больше нет сил… Всё тело превращается в одну сплошную боль.
Наконец открывается дверь и появляется врач, поливая меня отборным матом. Вокруг начинают суетится люди, проделывать со мной какие-то манипуляции. Ребёнка мне не показывают, не говорят пол. Появляются конвойные, отстёгивают наручники. Только мне теперь всё равно. Ужас медленно заполняет организм, отравляя своей безысходностью. Я уже знаю, что случилось, чувствую, хоть никто мне ничего не говорит.
Шьют долго, без наркоза, но мне не больно. Это – ерунда по сравнению с тем, как болит душа.
Мой сын был обвит пуповиной и задохнулся в родах… Если бы мне сделали УЗИ и узнали об этом заранее. Если бы со мной рядом хотя бы во время потуг были врачи. Если бы они не были пьяны. Если бы тогда я не села за руль… Если бы… Только что теперь говорить? Он умер – и ничего не изменить… Моего малыша больше нет!
Он никогда не побежит по земле своими маленькими ножками. Никогда не протянет ко мне ручки и не скажет: «мама». Он никогда не будет кататься на качелях и строить замки из песка. Никогда не пойдёт в школу.
Какое страшное слово – никогда… Моё заключение закончится, а его – нет. Он навсегда останется в этом страшном месте…
Где найти слова, чтобы выразить боль и отчаяние матери, потерявшей в родах своё дитя? Почему всё это происходит со мной? Как теперь жить?
Спустя несколько часов меня увозят обратно в колонию. Заключённых не обследуют во время беременности, медики не считают нужным возиться с ними во время родов. И тем более зэки не имеют права на полноценную послеродовую помощь. Однажды совершив ошибку, мы платим за неё непомерную цену... И никто никогда не понесёт ответственность за смерть моего малыша и мои мучения… Правосудие избирательно.
Видимо, состояние моего здоровья внушает медсестре опасения, потому что по возвращении в колонию меня не отправляют в камеру, а оставляют в санчасти. Дальше всё, как в тумане. Легче не становится, наоборот, кровотечение не прекращается, через несколько дней поднимается температура. Меня снова везут в тот же роддом, к тем же безответственным и бездушным врачам.
На сей раз ангел-хранитель сопровождает меня, я попадаю на другую смену. Врач-мужчина грязно матерится, сначала при первичном осмотре, а потом снова и снова, пока выполняет необходимые манипуляции. В колонию меня возвращают не сразу, я провожу несколько дней в роддоме под наблюдением медиков. Мне колют антибиотики и ещё какие-то лекарства, обрабатывают швы. Кто всё это оплачивает – не знаю, но подозреваю, что роддом снабжается бюджетными лекарствами, просто в тот раз их для меня пожалели.
Возможно, остроту состояния лечение снимает, но легче мне не становится ни физически, не морально. Я сломана, растоптана, уничтожена.
Пожилая врач жалеет меня. Она неоднократно наведываться ко мне в палату для отверженных, приносит мне домашнюю еду, но аппетита нет, приходится заставлять себя есть насильно, чтобы не обидеть добрую женщину.
– Не плачь, деточка. Всё будет хорошо. Может, у тебя ещё будут детки. Нужно молиться и верить в лучшее.