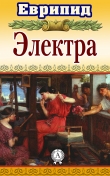Текст книги "Человек, который был похож на Ореста"
Автор книги: Альваро Кункейро
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
В последнем акте своей пьесы Филон Младший повествовал о последних днях одиночества и отчаяния доньи Инес и назвал его так:
НИЩИЙИнтермедия
СЦЕНА I
Действие происходит в саду замка Пасо-де-Вальверде летним днем. Война герцогств идет к концу. В начале интермедии в саду разговаривают Модеста и нищий.
Модеста. Чем ты недоволен? Разве милосердие в мире иссякло?
Нищий. Иногда хлеб внушает мне отвращение.
Модеста. Но хлеб, любой хлеб – свят.
Нищий. С тех пор как в герцогствах начался мятеж, люди стали бояться бедняков. Они дают нам даже больше хлеба, чем раньше, но часто плюют на него прежде, чем протянуть тебе.
Модеста. В нашем царстве никто не плюет на хлеб, да и плевок никогда не упадет на него. Мир бы перевернулся, если бы так случилось!
Нищий. Не принесешь ли мне кувшинчик вина?
Модеста. Не плюнуть ли туда сначала?
Нищий. Ты еще вовсе недурна собой, и такой плевок может дорого обойтись тебе ночью.
Модеста. Не так уж ты и слеп, как я погляжу, и порядочный плут к тому же! (Модеста уходит за вином для нищего.)
СЦЕНА II
Входит донья Инес, одетая в траур. В руках у нее, как всегда, цветок.
Донья Инес. Зачем ты просишь милостыню под окном? Ведь ты – здоровый и крепкий мужчина.
Нищий. Мне нужен повод, чтобы двигаться, поэтому я и хожу побираться. Так я хожу целыми днями и прошу милостыню, а не будь этого, лежал бы целыми днями на солнышке и мечтал.
Донья Инес. Ты много мечтаешь?
Нищий. Всякий день и почти каждый час. Мне это вовсе не трудно! Я даже вижу все, о чем мечтаю, не хуже, чем наяву. Иногда хочется протянуть руку и потрогать свой сон, который кажется совсем близко.
Донья Инес. О чем ты грезишь?
Нищий. Например, о том, как я приезжаю в Толедо или Дамаск, меня приветствует его высочество, столы накрывают белыми скатертями и подают мне жаркое на блюде. А еще мне видится на моих плечах плащ из тонкой шерсти.
Донья Инес. Случалось ли тебе мечтать о женщинах?
Нищий. О двух сразу.
Донья Инес. Они здешние?
Нищий. Да нет, их вовсе нет на свете. Они двоюродные сестры. То есть я их так зову, потому что раньше видел в мечтах их тетку, которой тоже на самом деле нет. Мне чудится одна девушка помоложе, а другая постарше и посмуглее. Я ухаживаю за обеими и никак не могу решиться; говорю с ними, говорю, пока не засыпаю.
Донья Инес. А что еще тебе грезится?
Нищий. Не смейся – мне видится, как меня коронуют.
Донья Инес. И на тебе королевское платье?
Нищий. Да, и шляпа с перьями, как у Эгиста. Меня носят в паланкине по всему графству, а над моей головой подвешен бурдюк с вином.
Донья Инес. А я не являюсь тебе в мечтах? Ты столько раз провожал меня взглядом!
Нищий. Я запомнил, как однажды ты сидела у окна в зеленой блузе с глубоким вырезом. Ты еще потом помахала кому-то платком на прощание. Не знаю, кто это мог быть, но, наверное, он ехал верхом и скакал очень быстро – вскоре на него залаяли собаки в домах у переправы.
Донья Инес. И ты не видел, как он выходил?
Нищий. Нет, я лишь услышал лай.
Донья Инес. Ты видел, как он вышел!
Нищий. Никого я не видел; я смотрел на тебя, разглядывал тебя снизу из оврага, а потом накрыл голову своей вельветовой курткой и погрузился в мечты. Дело было в мае.
Донья Инес. Да, это было в мае. Он провел со мной всю ночь. Я не давала ему сомкнуть уста своими поцелуями. А потом его нашли в лесной чаще, когда в сентябре поехали срубить могучий дуб, чтобы сделать ярмо. В голове его торчал серп, а нагую грудь растерзал волк.
Нищий. Волк? Скорее то была крыса, там в сельве водятся такие вечно голодные твари, шкурки у них пятнистые. Я хотел как-то сделать из них шарф, но мне бы понадобилось штук десять или двенадцать.
Входит Модеста с кувшином вина.
СЦЕНА III
Донья Инес. Это он, Модеста! Это был он!
Модеста. Кто, мадам?
Донья Инес. Убийца!
Нищий. Какая ерунда! Да я и блоху не прихлопну, лишь бы не прогнать сон.
Донья Инес. Он убил афинянина! Того, который послал мне свой портрет, нарисованный на бокале, того, что нашли убитым в лесу!
Модеста. В жизни ничего о таком не слышала!
Донья Инес. Как, ты не слыхала, что его убили? Кто убивает моих возлюбленных? Куда они исчезают? Как же мне выйти замуж, ублажать дорогого супруга, рожать детей, если кто-то убивает мою любовь, стоит только ей зародиться? Нет, я не буду рожать детей! Малыши могут стать похожими на отца и отнять у него мою любовь, а она должна быть особой, до гроба – как в театре. Разве смогу я ложиться в постель с отцом моих детей?
Нищий. Для меня это все чересчур туманно. По мне, так что одна сестра, что другая – один черт. Правда, смуглянка вышла у меня поздоровее.
Модеста. Никто не убивает твоих любимых, золотко! Ты просто мало спала сегодня, моя королева.
Донья Инес. Нет, убивают! Все завидуют мне, а я всегда остаюсь одна, словно соломинка в бурном море. Разве могу я одна вместить столько любви? Каждый, кто приходит сюда, влюбляется в меня, каждый зовет меня в ночи. «Мы скрываемся от ужасов войны!» – говорят они. Но это неправда – войны нет, все просто выдумывают ее, чтобы прийти ко мне и поплакать, положа голову на мои руки. (Она подходит к нищему и протягивает ему руки.) Поцелуй их! Не бойся! (Отдергивает руки.) Нет, нет, не целуй! Ты – убийца, ты убил, у тебя кровь в глазах!
Модеста. Я всегда считала его честным человеком!
Нищий. Мои родные – порядочные люди. Они держат почтовых лошадей в герцогствах, можешь спросить о семье Онофре. Я, правда, давно рассорился с ними и ушел из дома, но бык со звездочкой на лбу до сих пор мой.
Донья Инес. Какой бык со звездочкой? О чем ты? Я жду мужчину. Коли ты пошел на убийство, значит, любил меня. Я нравлюсь тебе? Если хочешь, я разденусь; мне невмочь жить одними мечтами так долго, когда-нибудь все должно свершиться наяву, должен наступить великий час, час великолепного безумства, – сжалься надо мной! Подай мне милостыню! Дай хлеба!
Нищий(пораженный, роется в сумке, что висит у него на боку). Вот корка, которую дали мне богачи в Трисасе. Вполне возможно, что она из оплеванных!
Донья Инес. Мне все равно! Дай мне милостыню! Клянусь, ничего не попрошу ни у кого другого никогда в жизни и до конца дней моих буду есть этот хлеб у ног твоих! (Она становится на колени перед нищим и обнимает его ноги.) Я буду есть его изо дня в день, с радостью в глазах! Не уходи! Ведь ты убил неспроста!
Нищий. И надо же, чтобы такая знатная сеньора так тронулась!
Модеста. Бедняжка умирает от жажды!
Донья Инес. Привяжи меня к своим мечтам, подвесь к ногам речные камни, чтобы ветер не унес меня!
Нищий. Ну уж я-то ни за что не хочу быть связанным. Даже за тысячу золотых эскудо.
Донья Инес. Привяжи меня, не то я умру!
Модеста. Она опять совсем не спала, моя королева! Бедняжка вовсе разучилась спать.
Донья Инес. А не то я умру, мой драгоценный!
Нищий. В домах бедняков тебе могут подать, а могут и не подать, да зато никто над тобой не издевается.
Эвмон Фракийский дочитал пьесу Филона Младшего и посочувствовал этой самой принцессе донье Инес. Потом он снял протез и осмотрел свою детскую ногу: она теперь доросла почти до своих обычных размеров. Фракиец посетовал, что не знал раньше о любовной жажде госпожи графини. Если когда-нибудь ему захочется навестить ее, он явится во всеоружии – чтение произведений Филона оказалось весьма полезным. После визита – коли таковой состоится – можно будет послать письменный отчет драматургу: пусть добавит еще одну картину к своей пьесе. Правда, Эвмон слегка побаивался встречи с красавицей. Он себя считал человеком чувствительным, а донья Инес могла оказаться речной сиреной и задержать его у своей переправы навсегда.
Эвмон подозвал громким голосом своих адъютантов и приказал собираться в далекий путь в родные края. Садясь на своего буланого коня, он обернулся, чтобы взглянуть на темный замок доньи Инес. Кто бы мог подумать, что эти мрачные стены, заросшие плющом, служат клеткой для белокурой газели, увенчанной розами.
ШЕСТЬ ПОРТРЕТОВ
В «Именном указателе» в конце книги опущены разделы, посвященные царю Агамемнону, донье Клитемнестре, инфантам Электре, Ифигении и Оресту, а также кормилице Клитемнестры. Их портреты представлены в этой части отдельно. Они располагаются согласно латинскому алфавиту; материалы, изложенные здесь, опираются одновременно на данные античной истории, древней трагедии и ее современных вариантов, на слухи, распространившиеся в Аргосе, на произведения епископа Фенелона[35]35
Франсуа де Салиньяк де ля Мот – французский писатель и священник (1651–1715), автор произведений, посвященных проблемам педагогики и романа «Приключения Телемака, сына Улисса».
[Закрыть], на сокращенные воспоминания александрийцев[36]36
Неоплатоники.
[Закрыть], за исключением Атенео[37]37
Греческий писатель, родившийся в Египте (III в. н. э.), автор «Банкета софистов».
[Закрыть] и Павсания[38]38
Греческий писатель и географ (II в. н. э.), автор труда «Описание Эллады» в десяти книгах.
[Закрыть], а также на другие источники.
Агамемнон. О возвращении великого Агамемнона известно немного. Благородный монарх, состарившийся в битвах в далеких краях, говорил своим солдатам, что для него настало время оставить поля сражений. Он скучал по родному городу, по его залитым солнцем стенам и хотел провести остаток дней своих, прогуливаясь по полям со своей возлюбленной Клитемнестрой и принимая иностранных послов ежедневно, кроме вторника – в этот день он бы обучал своего сына Ореста искусству политики. О дочерях он обыкновенно не упоминал и рассчитывал поскорее выдать их замуж за состоятельных идальго. Когда он ступил на землю Арголиды после столь долгого отсутствия, то сразу различил в воздухе свежий аромат, который не раз доносился до него во время сна. Тогда запах будил его, словно ветерок, ворвавшись в прореху на стене кожаного шатра, задевал царя по лбу своим крылом. Сейчас ему припомнилось, что это случалось, когда он видел во сне лето в родной стране, о которой в их стан не долетали другие вести, кроме легкого дуновения ветра, напоенного знакомыми ароматами. Как только корабли встали на якорь у берега, Агамемнон решил потихоньку ехать в свой город.
– Будем считать, что весь путь займет у нас пять дней, – сказал он своему коню Эолу. – Мы поедем одни, оторвавшись на целую милю от свиты. Давай отправимся в дорогу завтра, на рассвете.
Конь согласился, рассчитывая за ночь, проведенную на суше, избавиться от морской болезни, мучившей его на протяжении всего путешествия, когда он стоял, привязанный к мачте корабля своего господина. Взглянув на животное, лоцман вспомнил «Одиссею» и сравнил его с Улиссом, пожелавшим услышать печальное и чарующее пение сирен. Эол был первым в семье конем, которому довелось ступить на борт корабля, чем чрезвычайно гордился, сокрушаясь лишь о том, что не мог отправить родственникам весть о своем замечательном путешествии. Он устроился на ночлег под большим дубом; осенняя ночь дышала покоем, под его брюхом тихонько шуршала палая листва на траве. Иногда Эол поднимал голову и видел, как Агамемнон сидит на перевернутом кожаном щите, положа шлем на колени, смотрит на месяц, выплывающий из-за мягких холмов, и длинные седые волосы царя развеваются по ветру. Хозяину уже перевалило за пятьдесят, и его лицо избороздили глубокие морщины. Коню припомнился тот день, когда он, необъезженный жеребенок, предстал перед Агамемноном. Тот подошел, посмотрел ласково, словно они давным-давно знали друг друга, и тут же вскочил ему на спину, не думая о седле. Эол не отважился встать на дыбы, что обычно проделывал, стоило кому-нибудь попытаться сесть на него, а подчинился сильной руке – сперва пришлось скакать по полю мелкой рысью, а потом веселым галопом: тут-то ему пришлось узнать жесткие колени царя. Спешившись, Агамемнон похлопал его по шее и груди, посмотрел зубы и потрепал кулаком по морде – с тех пор они подружились. Смысл разговоров хозяина с другими ахейцами не доходил до коня, но, оставаясь со своим повелителем наедине, Эол понимал каждое царское слово, обращенное к нему. Когда же перед битвой или охотой на зайца царь замирал возле него, словно завороженный, положа руку на седло, он мог читать даже самые тайные мысли своего повелителя. По мнению коня, у Агамемнона никогда не возникало сомнений относительно верности Клитемнестры, в основном потому, что в семейной жизни с ним она оказалась существом податливым, а в постели – горячей. Таким образом, если противоречащих этому сведений не обнаружится, можно считать, что монарх не подозревал о страшной западне. Во время последнего путешествия царь выдавал себя за знатного византийца, путешествующего в поисках самцов фазанов, дабы улучшить породу птиц в своих лесах на востоке; ему нравилось оставаться неузнанным на постоялых дворах. Когда Агамемнон вновь вступил на родную землю, его охватило ужасное волнение – а надо заметить, волноваться по такому поводу в те времена было не принято даже среди самых чувствительных греков – и в голове его перепутались картины детства, юности и зрелости. Он вспоминал себя мальчишкой, и тут же в памяти его всплывали более поздние события, царь смеялся и объяснял Эолу, что переживает все сразу, словно воскресают перед его взором собственные портреты разных лет.
– И все это для меня – чудесные цветы пóля моих воспоминаний, Эол, – сказал царь.
Когда они подъехали к городу, вечерело и накрапывал мелкий, теплый дождик. Агамемнон спешился и обнажил голову: множество раз ему представлялось возвращение, и всякий раз он мечтал вернуться в свой дом спокойно, без залпов салюта и фанфар, словно отсутствовал не больше часа, оставить доспехи на лестничной площадке возле козел для пик и войти тихо в тот покой, где инфанты вышивали гвоздики на белых льняных полотенцах, Клитемнестра дремала, почесывая за ушком кота и прислушиваясь к звучащей вдали музыке, а Орест изучал по карте путь морем на запад. Царь пошел к городу, неся в правой руке свою черную шляпу, и не заметил, что большое алое перо, приколотое к ее полям золотой пряжкой, волочилось по земле, разметая сухие березовые листья. Эол вздрогнул от страшного предчувствия: в вечерних сумерках ему почудилось, будто из руки хозяина, в которой тот обычно носил меч, хлещет кровь. Агамемнон свистнул, созывая своих любимых собак – живы ли они до сих пор? – но звук растаял в вечерней тиши без ответа. Эол заржал, ожидая услышать, как отзовется какой-нибудь сторожевой пес; ему показалось, что его господину будет приятно, даже если откликнется чужая собака. Дойдя до ворот дворца, царь открыл калитку ключом, висевшим у него на шее на железной цепочке, и, пошарив в нише стены, вытащил огниво, кремень и несколько лучинок, сочившихся смолой, которые вспыхнули сразу. Потом он поджег ими большие факелы, укрепленные в металлических кольцах. Тени царя выросли и заполнили собой все пространство, головой они доставали до самых сводов. Эол просунул голову в калитку, не желая терять этих великих минут из жизни хозяина, но стараясь одновременно не помешать ему своим присутствием: кто знает, быть может, он вспоминает сейчас другие возвращения домой, на другом коне, нежно любимом им когда-то, а ныне покойном. Агамемнон снял кольчугу, повесил меч на козлы и сел на ступеньки. Ему хотелось разуться у родного порога, словно исполняя обряд очищения, оставить на сандалиях пыль других земель и других дорог. Но, когда он развязывал шнурки, какая-то молния подобно мечу – или какой-то меч подобно молнии – поразила его. До ноздрей Эола долетел запах пота, источаемый тенью, которая мелькнула за мечом; конь испугался, бросился прочь в ночную тьму и ничего больше не видел. Он исчез навсегда, и греки, большие любители легенд, говорят, что Эол превратился в блуждающий ветер. Агамемнон умер. Смертельно раненный, он встал, а затем снова упал, и его голова семь раз стукнулась о каменные ступени, ибо семь раз, пока жизнь покидала его, царь пытался приподняться и увидеть, кто мог нанести ему, пришедшему через столько лет к родному порогу, страшный удар в его собственном доме. Факелы наклонились к нему, а меч сорвался с козел, где висел на широком поясе, и упал на царя, упал ему на грудь. Поднялся ветер. Какие-то собаки залаяли, когда Агамемнон уже не мог их слышать.
Клитемнестра, донья. Эту особу царских и одновременно божественных кровей, что доказывало маленькое перышко, похожее на голубиное, которое росло у нее на копчике, выдали за царя Агамемнона, прославившегося в боях у стен Трои, совсем девочкой. Самым замечательным во внешности царицы была белая кожа, и оттого она всегда предпочитала синие наряды. Клитемнестра прожила возле своего мужа счастливые годы: ела печенье с медом, пила сангрию[39]39
Освежающий напиток из лимонада и вина.
[Закрыть] и не знала бед. Одно только несколько омрачало ее существование – царь, страстей и невоздержанный мужчина, частенько будил бедняжку по ночам, сильно шлепая по ягодицам. Когда ее муж отправился воевать на своих семи кораблях, царица осталась с тремя детьми во дворце. При ней находилась сотня слуг, и большую часть дня она проводила, спрашивая, нет ли вестей от Агамемнона, приказывая авгурам предсказать судьбу и слушая успокаивающие душу английские романы, которые читал ей карлик Солотетес. Шли годы: царская казна пустела из-за народных бунтов и воровства управляющих, письма от мужа не приходили, а предсказания авгуров противоречили друг другу. По земле Эллады и некоторым островам разнеслась весть о том, будто царь убил свою дочь Ифигению, чтобы добиться расположения богов и обеспечить себе победное возвращение домой с сундуками, полными золота и серебра. Версия эта опровергается сведениями, изложенными в первых главах данного произведения: вечно юная Ифигения жила в заточении в башне дворца. Ее чудесная девственная молодость являлась залогом того, что события, изложенные в пьесе Филона Младшего, когда-нибудь свершатся на самом деле – дева, услышав тайный зов в ночи, первой пойдет навстречу Оресту-мстителю, зажигая огни. Дети Клитемнестры, Орест и Электра, доподлинно убедившись в порочности матери, упавшей в обморок в объятия Эгиста, уехали за границу. Юный принц, прежде чем вскочить на коня, плюнул на ворота и зарезал любимую борзую материнского любовника, показывая таким образом, сколь отвратительно ему их сожительство. Эгист простился с молодостью, прошедшей в бесконечных забавах, и взялся за работу, чтобы кони, соколы и собаки Агамемнона не забыли своего хозяина за время его долгого отсутствия. Новый повелитель не отличался высоким ростом, но был, однако, жилист и крепок: чтобы казаться выше, он надевал на голову круглый шлем, внутри которого помещался, скорчившись, Солотетес. Затем Эгист опускал забрало и, тяжело шагая, шел к животным; карлик со своего места, подражая голосу прежнего царя, говорил со скаковыми лошадьми об ипподромах и звал по именам царских лаек, которые подбегали, махая хвостами. Когда Эгист явился к царице во второй раз, Клитемнестра хотела отказать ему, боясь скорого приезда мужа, но не смогла. Ее страшно рассмешил вид поклонника, явившегося к ней в таком виде, в каком приходили молодые мужья в спальню жены согласно обычаям арголидских буржуа: вышитая рубашка, в одной руке – микенская тарелка, в другой – шандал, а голова обернута сложенным вдвое полотенцем. Надо заметить, Клитемнестра считала себя вдовой, дуя мая, что ее супруг погиб где-то в далеких холмистых краях, и вовсе не возражала, чтобы Эгист временно взял на себя бремя царской власти, хотя, по мнению знатоков, такой формы правления не значилось ни в одной из греческих конституций, да и в «Политике» Аристотеля о ней тоже не упоминалось. После возвращения и смерти Агамемнона, когда вдовство царицы было узаконено, во дворце справили тихую свадьбу, дабы успокоить совесть Клитемнестры. Особа недалекая и одновременно сентиментальная, она никак не могла взять в толк, зачем ее пугали Орестом и почему сын должен явиться ночью среди раскатов грома и убить ее дорогого Эгиста – не лучше ли принцу остаться дома, жить себе спокойно на небольшую ренту, пасти овец, заботиться о государственных делах, а потом жениться на какой-нибудь богатой девице и помочь семье поправить наконец свое финансовое положение. Когда она сидела в глубоком кресле, ей лучше всего мечталось о белых лебедях и цветных стеклянных шарах. У нее всегда мерзла спина, и, проснувшись на рассвете, царица просила Эгиста обнять ее сзади и погреть. Так она и засыпала, а два часа спустя просыпалась снова, вспотевшая и довольная, и бежала готовить завтрак. Клитемнестра медленно старела, укрытая внутри огромного дома, чьи стены покрывались трещинами, а расколотые черепицы уносило ветром. Во время дождя в комнатах капало не меньше, чем снаружи, и царям приходилось укрываться от непогоды в маленькой каморке с низкими сводами, где когда-то прятали свою добычу воры-карманники, орудовавшие на ярмарках. Все слуги покинули дворец, никто больше не делал царской чете подарков. Клитемнестра часто впадала в забытье и пускала слюни. Эгист приносил цветы и украшал ее прическу. Царица потихоньку слепла, и когда она, вспоминая сотни своих прежних служанок, звала их по именам властным голосом, ее муж, научившийся немного у Солотетеса подражать человеческим голосам, отвечал, что отправляется исполнять приказание. Клитемнестра просила не наступать ей на шлейф и снова погружалась в дремоту, укутав ноги шкурой козла. И так шли дни, один за другим, один за другим. Когда у Эгиста находилось немного денег, он заказывал в харчевне на площади жареного голубя и немного вина. И вот однажды поваренок, приносивший им обед в подобных случаях, привел во дворец одного германца, который изобрел спиральную маслобойку. Тот попросил разрешения – разумеется, не бесплатно – поместить портрет царицы на огромных плакатах во всех скотоводческих странах. Надпись должна гласить, что сие изобретение истинно немецкого происхождения особенно нравится их величествам. Германец нарисовал профиль Клитемнестры и любезно согласился исполнить ее просьбу: она хотела быть изображенной в синем платье, если плакаты удастся сделать цветными. За это право он заплатил одну унцию. Царица попросила разрешения купить на свою долю сладкого вина и дюжину кусков душистого мыла; подарила супругу носки, а сдачу спрятала под один из изразцов и потом не смогла найти. Отсюда и пошла легенда о сокровищах Клитемнестры. Сморщенная, согбенная старушка постепенно потеряла сон и проводила ночи, не смыкая глаз, прислушиваясь, не зазвенят ли шпоры в коридорах. Она устраивалась вдоль кровати, а Эгист ложился поперек, не снимая одежды и закрепив шнурком корону на голове, и обнимал ноги царицы.
Электра. Старшая сестра Ореста, бежавшая вместе с принцем, ибо не могла без отвращения видеть Эгиста в постели матери. Эта маленькая и смуглая девушка никогда не снимала с шеи бронзовую цепь, каждое звено которой изображало голову быка, или царскую корону, или маленькую серебряную шкатулку. В ней лежали нитки, пропитанные кровью Агамемнона, – ей дал их распорядитель похоронной процессии, укладывавший в гроб труп ее отца. Как утверждают некоторые авторы, Электра сама влюбилась в Эгиста и оттого так упорно добивалась расправы над ним. Принцесса воспылала страстью к любовнику матери, ибо постоянно видела его в красивых гамашах, аккуратно причесанного; он то и дело посылал кого-нибудь купить слоеных пирожных, рассказывал сплетни о жизни аристократов, а иногда описывал свое путешествие на Сицилию. Там его спутали с принцем, путешествовавшим инкогнито, которого ожидали, чтобы подняться на борьбу против господ Альтавилья-де-Арагон, и предложили стать их владыкой, занять почетное место на ларце с мощами первых мучеников и, сидя там в расшитых перчатках, решать, когда следует собирать виноград, а также определять, предвещает ли затмение счастье или беду. Перчатки он захватил с собой на память о приключении и подарил их Электре, так как они не налезали на его широкие руки, а ей пришлись впору. По мнению других, Электра так убивалась потому, что именно она, а не Ифигения, должна была остаться вечно юной во дворце ожидать приезда брата; теперь же бедняжка мечтала лишь о скорейшем исполнении мести: ведь тогда Ифигения начнет стареть так же, как она. Казалось, молодость одной сестры оплачивалась быстрым появлением морщин на лице другой – возле уголков рта и на лбу, – и та полагала, что стоит счастливице начать стареть, как она сама помолодеет: кожа станет нежной и мягкой, как у пятнадцатилетней девушки, груди – округлыми и высокими, талия – тонкой, живот – плоским, а икры – стройными. Когда греческим родственникам беглецов из Аргоса, Ореста и Электры, – а их насчитывалось двадцать два человека, согласно александрийским генеалогиям, – надоело принимать их в качестве гостей, сестре пришлось зарабатывать на хлеб для обоих, ибо брат проводил целые дни в манеже или зале для фехтования, поддерживая свою форму. Инфанта устроилась в Фивах, в доме ремесленника, отливавшего в своей мастерской золотые зубы, жена которого сошла с ума в театре. У них было трое детей, и девушка их мыла, причесывала и учила читать, а кроме того, помогала время от времени, когда сумасшедшая впадала в буйство, запихивать ее в бочонок с завинчивающейся крышкой, наполненный до половины теплым красным вином. Ремесленник приютил брата и сестру в своем доме, стоявшем в предместье, так как из труб мастерской постоянно шел дым. Одно время прошел слух, будто Электра убедила хозяина отдать брату золото, лежавшее у него в сейфе, а сама обещала остаться в его доме в качестве залога. Золото принадлежало богатому господину из Далмации, торговцу ароматическими маслами, заказавшему золотые челюсти для своего любимого коня. Животное умерло от истощения, и ремесленник хранил драгоценный материал, ожидая дальнейших распоряжений. С этим-то золотом и отправился Орест в Микены. Электра легла на землю и велела брату, чтобы его конь наступил на нее: скакун опустил левое копыто на ее затылок, словно исполняя древний ритуал. Как считает большинство исследователей, уехав из Фив, принц не посылал сестре писем. Последние сведения о ней самой, дошедшие до Филона Младшего, гласили, что она живет в том же доме, ходит по городу простоволосая, неряшливо одетая и на лице ее с каждыми днем прибавляются новые морщины. Теперь она без конца говорила сама с собой и даже ночью во сне, рассказывая, чем занимается в тот или иной час ее брат. Электра представляла себе дороги, где проезжает Орест, слуг, точащих ему меч; масть коня или название корабля, что везет его все дальше и дальше; кушанья, которые он ест за обедом, цвет плаща и даже женщин, увлекающих принца. Эта нескончаемая болтовня оказалась весьма кстати: сумасшедшая, слушая ее, забывала о своих страхах и бредовых идеях и покорно ходила за инфантой, ожидая с нетерпением новых историй, подобно человеку, читающему роман в журнале, завороженному строчкой «Продолжение следует» и жаждущему получить скорее следующий номер, чтобы узнать, чем кончилась история с каретой, упавшей в пропасть, и удалось ли поймать похитителя девочки или он успел продать ее цыганам. По слухам, Электра сошлась с ремесленником: с одной стороны, беднягу отвергала безумная жена, а с другой – девушка хотела раздобыть денег для Ореста на тот случай, если тот пошлет за ними своего верного слугу. Говорили, правда, и другое: будто бы родной брат был ее единственным любовником. Она добилась этого при помощи обмана, притворившись в темном коридоре служанкой, которая приходила в дом гладить белье. Ее якобы вынуждало поступать так желание родить от Ореста сына, а отнюдь не страстность натуры или отсутствие поблизости какого-нибудь другого принца. Ей хотелось, чтобы ребенок унаследовал ненависть отца и мог бы совершить отмщение вместо него в случае неудачи. Однако Филон Младший, коего можно считать компетентным в толковании образа Электры, написал сцену, в которой попытался раскрыть истинные причины поведения инфанты. По его версии, на заре она должна была назвать себя и заявить брату, будто и в этом грехе повинен Эгист – разве не по милости этого негодяя они бродят по свету сирые, бездомные, забывшие людские законы? Дальнейшая судьба инфанты неизвестна. Скорее всего, она больше никогда не покидала Фивы и жила в доме ремесленника, который не знал, как отблагодарить ее за то, что ей удалось успокоить сумасшедшую: та пополнела, стала подкрашивать глаза и модно одеваться. Бедняге было невдомек, для кого прихорашивается его жена. А она наряжалась, садилась в патио под апельсиновым деревом в платье с глубоким вырезом и турецких туфлях, из которых выглядывали крошечные мизинчики с ноготками, подкрашенными розовым лаком, и ждала Ореста. Наслушавшись рассказов Электры, безумная женщина влюбилась в него без памяти.
Ифигения. После возвращения Агамемнона из Трои и его гибели, опираясь на туманные намеки оракулов и несомненные доводы прорицателей, все сошлись на том, что отмщение свершится, если инфанта будет вечно сохранять юную прелесть своих шестнадцати лет: волосы заплетены в две косы, а туфли на каблуке средней высоты подчеркивают приятную округлость икр. В отличие от низенькой и смуглой Электры Ифигения была высокой и белокурой, белизной кожи она пошла в мать. Опасаясь появления тайных гонцов от Ореста с вестью о том, что мститель приближается в ночи, Эгист заточил ее в башню без дверей: некий архитектор из Болоньи устроил снаружи лифт – когда кабинка поднималась и спускалась, лебедка ужасно скрипела. Ифигения жила в своих покоях со старой кормилицей и ангорским котом, глухим, как большинство голубоглазых представителей этой породы. Девушка отказалась видеться с матерью, целыми днями смотрелась в зеркала, вырезала из цветной бумаги сердечки да придумывала себе свадебные путешествия с женихами, которых у нее не было, по странам, коих также не существовало на земле, ибо бедняжка совсем не знала географии. Цветную бумагу доставлял ей один солдат: как-то раз, еще до заточения инфанты, он увидел ее во время купания, и девушка ему приглянулась. Парень запускал воздушных змеев в сторону башни, пользуясь попутным ветром, и, когда игрушка оказывалась в двух шагах от нее, стрелял из карабина по лучинке в середине каркаса; змей ломался пополам и, точно сбитый влет голубь, падал на балкон с зубчатой балюстрадой. Потом солдат окончил службу, и принцессе не оставалось ничего другого, как разрезать уже готовые синие, зеленые, красные и желтые сердечки снова и снова, делая их каждый раз все меньше и меньше. Эгист объяснял заключение Ифигении тем, будто однажды ему приснился страшный сон: появляется Электра и огромными кривыми ногтями раздирает лицо сестры, а потом отрывает ей правую руку и, убегая, кричит, что сделает из нее дверной молоток. По словам царя, он спасал таким образом кроткую девушку от гнева разъяренной фурии. Шли годы, затворница потихоньку таяла, и под ее белоснежной, почти прозрачной кожей стали угадываться тонкие кости. Когда гребень касался волос принцессы, они потихоньку звенели: говорят, сим чудесным свойством обладают локоны сирен. Однажды зимним вечером Ифигения вместе с кормилицей грела на кухне воду для стирки, и ту хватил удар-она упала, как громом пораженная. Инфанта позвонила в сигнальный колокол, и явился Эгист с двумя лакеями – в то время во дворце еще оставалась прислуга. Царь распорядился похоронить кормилицу и стал умолять Ифигению, – спрятавшуюся в шкафу, послушаться его, выйти оттуда и переехать на недельку отдохнуть во дворец. Она может спать вместе с матерью, а он уж как-нибудь устроится на троне, а тем временем ей подыщут домоправительницу. Девушка отказалась выйти из башни, не желая показываться на люди без траурных одежд, и заявила, что прекрасно может жить одна. Раб, в чьи обязанности входило вертеть лебедку лифта, спуская гроб с кормилицей, надорвался и умер. Эгист с Клитемнестрой не нашли ему замены и поэтому не могли теперь навещать девушку. Постепенно они позабыли о ней и, упомянув случайно в беседе, всякий раз говорили одно: должно быть, у нее все хорошо, раз бедняжка не звонит в колокол. Ифигения – воплощение весны, золотокрылое создание, чудесная роза, коей не суждено увянуть, – осталась в башне одна. Кот убежал на кладбище и умер на могиле кормилицы. Инфанта ничего не пила и не ела, она только бродила по темным пыльным залам. Кончился газ для ламп, сгорели все свечи. Девушка садилась на кухне у очага, но и там нечем было развести огонь. Орест не приходил – и она не старела. Затворница считала зеркала своими друзьями и искала в них спасения от одиночества, но они – огромные круглые глаза на стенах – пожирали ее. Филон Младший объяснял Эвмону Фракийскому, что Ифигения питалась лишь воздухом и мечтами, а зеркала, чувствуя свою близкую погибель в полумраке залов, превратились в вампиров и решили поглотить инфанту, от которой оставалась теперь лишь улыбка, подобная солнечному лучу. Однако, пока был жив Орест, девушка не могла исчезнуть, ибо ей, самой яркой и светлой из зорь, суждено было зажечь огни на сцене в момент отмщения. Но вот прошел слух, будто корабль, на котором плыл принц, затонул и он погиб. Зеркала, воспользовавшись этим, поглотили ту, что была для них нежным утренним светом и дарила им всякий раз новую жизнь. От нее осталось лишь облачко, похожее на легкий газовый шарф, оно тихо парило по залу из угла в угол. В башне поселились крысы, и зеркала видели только их: крыс, крыс, крыс – без счета, пока не покрылись паутиной. Потом их ртуть сгнила, словно после гибели Ифигении стала человеческой плотью. (Есть и другие версии. Возможно, ее похитил солдат, пускавший бумажных змеев; она могла воспользоваться гробом, предназначенным для тела кормилицы, и спуститься в нем. А быть может, ее отравила Электра, подсыпав ей яду в кипрскую мальвазию. Одна греческая проститутка по имени Амарилис, скрывавшая свой возраст, та, что умерла от рвоты, проведя ночь со скотником в доме Малены, вполне могла на поверку оказаться Ифигенией, которая отправилась на поиски Ореста и добывала таким образом деньги на билет. Автору, однако, гораздо больше по душе версия о зеркалах: сердце замирает, когда воображаешь, как нежное создание, почти дитя, движется, чуть касаясь пола, среди разбегающихся по углам крыс, а огромные, грязные, покрытые язвами ми зеркала в полумраке сговариваются погубить девушку.)