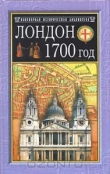Текст книги "Псоглавцы"
Автор книги: Алоис Ирасек
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Войдя в дом, они увидели, что кирасиры похозяйничали и тут. В горнице все было перевернуто вверх дном, сундуки взломаны, двери чуланов выбиты или расколоты в щепы. Пораженные этой картиной, мужчины не заметили, как исчезла старая Козиниха. Покинув горницу, она бросилась через двор к себе. Там, в маленькой горнице, ее ждал такой же разгром, как и у сына. Но старуха даже и глазом не моргнула. Она вбежала в каморку и… застыла на пороге. При свете месяца, проникавшем сюда через небольшое оконце, она сразу увидела опустошение, произведенное кирасирами. Но старуха не обратила внимания на разбитые вещи, ее глаза были устремлены в одно место на полу. Две половицы там были вырваны и валялись изрубленные у стены, а на их месте зияла глубокая яма, выложенная кирпичами; по-видимому, она служила тайником еще в стародавние бурные времена. Яма чернела пустотой.
Ларец с ходскими документами – драгоценное сокровище ходов, исчез. Кирасиры нашли и унесли его.
Старуха стояла, опустив голову и скрестив руки, как над открытой свежей могилой. Тяжелый вздох вырвался из ее груди. Вдруг она стала лихорадочно себя ощупывать. Лицо ее просветлело, и на плотно сжатых губах пробежала горькая, презрительная усмешка.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Тучи на небе постепенно редели и, наконец, скрылись за Черховым и за гребнем гор. Лишь изредка хмурая сердитая тучка мчалась за ними, словно запоздалый хищник, распростерший черные крылья в погоне за стаей птиц, исчезнувших в необозримой дали. Лунный свет вольно разливался по всему Шумавскому краю, по склонам Чешского Леса, по нагорьям Кленеча и Ходова, по стенам и башням Тргановского замка.
Недавно достроенные стены замка белели сквозь обнаженные ветви деревьев. Окна в замке с раннего вечера сверкали огнями. У тргановского пана сегодня были гости – оба офицера, приехавшие с хозяином замка из Пльзня, полковник граф Штампах и молодой ротмистр граф из Вртбы и Фрейденталя, который, если верить шепоту слуг, имел виды на младшую дочь хозяина, Марию. Старшая, Барбора, была уже обручена с Вацлавом Грознатой – графом из Гутштейна, полковником императорской службы.
Паны развлекались довольно продолжительное время. Был уже одиннадцатый час, когда погас свет в окнах большого зала. Некоторое время свет мерцал еще в окнах боковых покоев, отведенных для гостей, но, наконец, погас и там.
Лишь два окна бросали красные отблески в ночной сумрак на голые ветви деревьев. В рабочем кабинете хозяина в кресле у камина, в котором ярко пылал огонь, сидел Ламмингер. Рядом с креслом на столе прекрасной резьбы стоял окованный железом дубовый ларец. Пристально глядя холодными голубыми глазами на вытянувшегося перед ним по-солдатски управляющего Коша, барон внимательно слушал его доклад. Кош рассказывал, что происходило в Уезде после того, как уехал высокородный господин барон. Кош рассказал, как в порядке предосторожности он велел сперва связать Матея Прши-бека, а затем стал добиваться признаний прежде всего от Козины и Сыки.
– Кто из них больше упорствовал?
– Козина, ваша милость. Когда его жена бросилась предо мной на колени, он стал кричать ей, чтобы она поднялась и шла домой.
– Гм!..
– А тем временем делали обыск у Сыки. Но ничего не нашли. Я и на женщин пробовал воздействовать – мы их нарочно туда пустили. Грозил им карой, которая может постигнуть их мужей. Но они ничего не сказали. Должно быть, не знали.
– Вы так думаете?
– Тут пришла мать Козины. Она наверняка кое о чем знала…—И Кош рассказал о ней, как он ее допрашивал, как вела она себя, как послал тргановского управляющего произвести обыск в усадьбе Козины.
– Пока он там рылся, я как следует пригрозил старухе. Но эта баба – что кремень. Вот молодая, жена Козины, та сказала бы. Она так плакала и так тряслась со страху. Только я думаю, что ее не посвятили в тайну.
– Так. А что они сказали, когда принесли этот ларец? – И взгляд барона остановился на дубовом ларце.
– Это было для них точно гром среди ясного неба, ваша милость. Сыка так и осел…
– А Козина?
– Тот оказался крепче. Только мотнул головой. А этот головорез Пршибек даже прикрикнул на отца, когда старик заскулил над ларцом. «Молчите,– сказал он,– грамоты у нас отняли—кулаки остались».
– Так. Шли сюда смирно?
– Смирно, ваша милость. Больше не сопротивлялись. Ни Козина, ни Пршибек.
– Куда вы их посадили?
– Козину и Пршибека в темный карцер, порознь. Остальных велел запереть в общую камеру. Если угодно будет приказать по-иному…
– Нет, хорошо.
– Я посадил и того волынщика из Уезда. Он сначала сбежал из сельского правления, но потом, когда мужиков уже уводили, сам вернулся.
Ламмингер слегка кивнул головой.
– Не будет ли еще каких приказаний, ваша милость?
– Нет. Можете идти.
Управляющий низко поклонился и вышел. Его тяжелые мерные шаги и звон шпор прозвучали, удаляясь, за дверью и замерли. В комнате наступила тишина. Ламмингер встал и приподнял крышку ларца; замок в нем был взломан. С минуту он неподвижно глядел на пожелтевшие пергаментные свитки, в которых уже рылась рука управляющего, потом вынул наудачу один из свитков со старинной печатью и, развернув его, пробежал первые строки.
Потрескивали поленья в камине и позванивали порою оконные стекла, когда налетал порыв ветра.
Ламмингер достал другой свиток с большой печатью. Эта грамота была на чешском языке. «Мы, Рудольф, божьей милостью император Священной Римской империи и король чешский…» Но он успел прочесть только несколько строк. Ему помешали. Двери из соседнего покоя открылись, и вошла супруга барона, тихая, медлительная женщина с кротким бледным лицом. Она была еще в пышном, вышитом платье, в котором принимала гостей. При свете двух восковых свечей, горевших на столе возле барона, переливались огнями жемчуга и каменья аграфов на атласных розетках, украшавших ее грудь и плечи над широкими сборчатыми рукавами, между белыми буфами которых пестрели бесчисленные разноцветные ленточки, завязанные замысловатыми бантами. На затылке и над ушами красивые темные волосы баронессы были завиты в локоны, а на лоб спускались мелкими кудряшками.
Баронесса вошла осторожными шагами и пытливо взглянула на мужа.
– Я не помешала? —тихо спросила она.
– О, нисколько, хотя я и занят весьма увлекательным чтением.
Баронесса облегченно вздохнула. Так весело муж давно уже с нею не разговаривал.
– Я хотела, дорогой, напомнить вам, что надо поберечь себя. Вам следовало бы отдохнуть, поездка верхом всегда утомляет вас…
– Сегодня я не чувствую усталости. За этим стоило поехать,—и он указал на развернутую грамоту Рудольфа.
Баронесса нагнулась над свитком.
– Ах, смотрите! Вот мой предок! —воскликнула она, указывая на подпись канцлера королевства Чешского – «Ладис-лав из Лобковице»1.
– Да, ваш предок. Высокородный канцлер, когда скреплял грамоту, едва ли думал, что она доставит столько хлопот одному из его потомков. Но теперь она в моих руках!
– Я слышала, как эти люди сопротивлялись и не хотели отдавать грамоты. И, кажется, не обошлось без крови?..
– Да, правда. Что делать!
– А эти грамоты действительно так нужны вам? – нерешительно спросила баронесса.
Ламмингер насупил свои рыжие брови.
– Ну да, вы жалеете этих бунтовщиков.
– Да ведь грамоты уже недействительны…
– Я тоже говорю так всем, а все же я их боялся, дорогая. Будь я прокуратором ходов, я бы сумел выиграть дело. Погода при дворе изменчива и не всегда для нас благоприятна. Вспомните только, что было при покойном императоре2, когда фон Грефенберг3 взялся отстаивать этих хамов, и чего мне стоило потом, при князе Ауэрсберге4, расстроить его планы. Если бы его послушались, то все эти владения не были бы сейчас моими, а между тем грамоты и тогда были ничуть не бо-
1 Супруга Максимилиана Ламмингера происходила из рода Лобко-виц.
2 Фердинанде III.
3 Игнац фон Грефенберг – чешский королевский прокуратор, смело защищавший ходов.
4 Князь Ян Ауэрсберг– тайный советник при императоре Леопольде.
лее действительны, чем сегодня. Основываясь на этих грамотах, наши мужики могли бы возобновить судебный процесс хоть завтра. А теперь кончено.
Ламмингер удовлетворенно рассмеялся. Но зато на лицо его супруги легла тень. Она молчала, и только затаенный вздох слетел с ее уст. Муж испытующе взглянул на нее и отрывисто произнес:
– Вы, моя милая, кажется, хотите еще что-то сказать?
– Да, но не решаюсь… Я слышала, что этих людей из Уезда будут наказывать… избивать… и что сегодня им не давали есть…
– О, вы милосердны даже к врагам своим. Да, они будут наказаны.
– Среди них есть один раненый и один совсем дряхлый старик…
– Об этом раненом лучше не говорите. А старика и тех, которые не так упорствовали, я пощажу —ради вас. Но уже поздно, дорогая. Спокойной ночи! Сегодня вы можете спать спокойно. Этим замком и этими землями будут вечно владеть наши дети и внуки. Порукой тому будет пепел, который останется от этих пергаментов.
И Ламмингер холодно поцеловал жену. Она не решалась больше настаивать. Веселый вид мужа сначала обрадовал ее, но теперь она уходила смущенная и огорченная. Оставшись один, Ламмингер прошелся по комнате, затем остановился у стола, где стоял ларец с грамотами, задумчиво поглядел на них. Наконец, он взял один из свитков и подошел с ним к камину. Он поднял уже руку, чтобы кинуть в огонь это былое свидетельство ходских вольностей, но вдруг рука его опустилась. Какая-то новая мысль пришла ему в голову. Он снова вернулся к столу, уложил свиток в ларец и захлопнул крышку.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Ночью ударил мороз. Острее всех почувствовали его ходы, заключенные в Тргановском замке. Сидя в общей камере на голом полу, уездские старики, а с ними староста Сыка и молодой волынщик Искра Ржегуржек, жались в кучку вокруг старого Пршибека, по-прежнему не расстававшегося со своим чеканом. Еще с вечера, когда их привели сюда, они успели переговорить обо всем. Говорили о Матее Пршибеке и еще больше о Яне Козине, о его смелости, его мужественной речи, обо всем его сегодняшнем поведении. Козина сегодня всех удивил. Только Искра Ржегуржек, улыбаясь, сказал:
– Вот! А никто мне не верил, когда я говорил про него—хороший парень!
Но тут старый Вахал напомнил горькую правду:
– А что толку? За что терпит Козина, за что досталось тебе, староста, и Матею Пршибеку, если этот матерый волк похитил наши грамоты?
Тяжелым камнем ложились эти слова на души узников. Все примолкли, погрузившись в собственные мысли. Да и волынщику было сейчас не до шуток…
Поздней ночью отворились двери. Вошел караульный с большим фонарем, а с ним двое дворовых. Один бросил на пол охапку соломы, другой поставил хлеб и воду, и ушли. Разостлав солому и усевшись, арестованные принялись за еду. Только староста Сыка и старый Пршибек не притронулись к хлебу. Кусок не шел им в горло. И когда остальные растянулись на соломе, собираясь заснуть, они не легли, а остались сидеть.
Ночь была тихая и светлая. В предрассветных сумерках через два небольших оконца едва виднелись темные дремлющие леса. Оба хода, не отрываясь, смотрели туда. Староста Сыка произнес вполголоса:
– Это все было наше…
– Да,—отозвался старик,—еще дед мой расхаживал там как хозяин, а теперь мы смотрим на этот лес из темницы…
Они замолчали, но вдруг староста воскликнул, указывая рукой:
– Глянь-ка, Пршибек, вон там, над лесом, какая звезда! Пршибек поднял глаза и перекрестился.
– Комета,—медленно проговорил он,—никак знамение бо-жие!
Над косматым гребнем черного леса на синем небе сияла комета с длинным, обращенным кверху хвостом.
– Ну и громадина! —ответил Сыка.
Уже все ходы смотрели на небо. Одни приподнялись на колени, другие стояли во весь рост. Все слышали восклицание Сыки, потому что никто не смыкал глаз.
– Комета спроста не бывает,—объяснял старый Пршибек.—Я их видел несколько на своем веку, и всякий раз потом была война или голод и мор. Но такой большой я еще ни видал. Разве только в тот раз… я был тогда подпаском… перед той войной, что тянулась целых тридцать лет. Как сейчас все помню. Мы сидели на завалинке и глядели на небо. Мой дед верно напророчил тогда, что беда придет, большая беда. Он еще знавал лучшие времена. На жупане и на камзоле у него были еще золотые нашивки, а нам остались лишь эти черные… И прожил старик так долго, что собственными глазами увидел, как сбываются его слова. Довелось ему быть свидетелем того, как императорское войско все у нас позабирало, не осталось ни козленка в хлеву, ни ломтя хлеба в доме. Смолоду носил он жупан с золотом, а на старости лет ходил оборванный и голодный, как нищий. И не осталось у него ничего, кроме вот этого чекана!.. А когда вспоминал он про ту звезду или кто при нем заводил речь о старых временах, слезы у него так и текли из глаз. Да, так-то вот. Плохо ему пришлось, а что бы он сказал сейчас? Тогда еще была надежда, а сейчас…—голос у старика дрогнул,—эта звезда… что-то она принесет нам…
– Нам ничего. Господь бог забыл о нас,—горестно вставил старый Вахал.
Все повернулись в его сторону. За такие слова раньше все осудили бы его как богохульника, но сейчас никто не проронил ни звука. Казалось, молчание было знаком согласия…
В то время как старый Пршибек с тревогой смотрел на зловещую звезду, сын его, Матей, лежал, растянувшись на холодном земляном полу, и спал, подложив под голову свою большую широкополую шляпу. Руки его уже были свободны от веревок. Сон богатыря-хода не был спокоен. Матей вздрагивал и вскрикивал во сне. Он и во сне продолжал бороться с врагами и возмущаться их подлым коварством,—набросились вдруг на него, как на злодея, и скрутили веревками!
В соседней камере, такой же отвратительной, как эта, на источенном червями бревне сидел у стены Козина. Прислонившись раненой головой к холодной стене, он глядел на видневшуюся сквозь ржавую решетку крохотного оконца полоску звездного неба. Он все перебирал в уме события истекшего дня. Он не потерял присутствия духа и не поддался унынию.
Душу его наполнило спокойствие, спокойствие решимости и бесповоротного выбора. Все прояснилось, исчезли колебания, не было гнетущей тяжести приближающейся грозы. Гром грянул, но зато рассеялась туча, нависшая над его совестью и честью. Минувший день словно очистил молодого хода перед всеми и показал, что он не таков, каким его считали все и даже родная мать.
И при этом на глазах у всех подтвердилась истина, в которую он не переставал верить: ходские права всегда имели и сейчас имеют силу, что бы ни твердили паны с их регрейшт зПепйит. Иначе почему бы Ламмингеру так понадобились грамоты? Так неужели же отдать свои права без боя!
Козина вспомнил о детях, о матери. Как она глядела на него там, в сельском правлении, когда он дал ей понять, что знает ее тайну, как провожала его вечером, когда ходов уводили в замок! Сейчас она, должно быть, с детьми и с Ганкой,—все вместе. Дети спят, а Ганка, бедняжка, верно, плачет… Дети спрашивают, где папа… Дети… Павлик, Ганалка – милая головка…
Глаза Козины понемногу слипались, и, наконец, сон смежил его усталые веки. Но не знающие усталости думы вырвались из стен темницы и понеслись через лес, далеко, пока не остановились у расписанной нехитрыми узорами кровати, где под высоким пологом спали круглолицый мальчуган и белокурая девчурка, а над ними со счастливой улыбкой склонялась молодая мать…
*
На следующий день после полудня Ламмингер пригласил своих гостей, графа Штампаха и молодого ротмистра графа из Вртбы и Фрейденталя, в замковую канцелярию.
В просторной, чисто выбеленной комнате было уютно. В камине ярко пылали дрова. Все трое уселись перед огнем в обитые кожей кресла и возобновили начатый еще по пути в канцелярию разговор.
Говорил хозяин.
– Они не успокоятся, пока у них останется в руках хоть обрывок пергамента. Это хитрый народ… Они молчали и не подавали голоса, но как только представился бы удобный случай… Вы не знаете, что это за упрямый и крепкий народ. Они цепко держатся за все, с чем свыклись. Я хорошо помню, как было дело, когда при покойном отце их заставили сдать оружие. Они долго сопротивлялись, прежде чем выдали эти старые ружья и пистолеты. Да и то не сразу… Сколько понадобилось настояний, угроз и наказаний…
– Ну, а теперь привыкли жить без оружия…—с усмешкой заметил граф Штампах.
– Конечно, привыкли. То же самое будет и с этими грамотами.
– Что же, значит, эти хамы были организованы по-военному? – спросил молодой ротмистр.
– Даже свое знамя было у них и знаменосец.
– Вот как!
– Тот исполинский ход,—помните, в правлении, он был там выше всех на голову,—это и есть их последний знаменосец. Он же и сдавал это знамя. Знамя они отдали позже всего. Долго не удавалось выяснить, где они прячут его. А оно было здесь, в Уезде, как и грамоты. У отца этого великана. Я послал за знаменем мушкетера, но они не отдали его. Только когда им пригрозили как следует, они сами принесли его. Надо было видеть это зрелище! Знамя нес сам Пршибек, этот высокий, и с ним пришла чуть не вся деревня – его отец, староста, кон-шелы и все мужчины. Это были почетные проводы знамени!—добавил барон с ядовитой усмешкой.—А когда они сдавали его здесь, в канцелярии, старый Пршибек расплакался, да и многие другие из этих упрямцев утирали слезы.
– Словно старые солдаты,—вставил полковник.
– А это знамя где-нибудь сохраняется или уже уничтожено?—поинтересовался ротмистр.
– Оно, кажется, где-то здесь, среди старого хлама. Управляющий, наверное, знает, где оно. Хотите взглянуть, господа?
Гости ответили, что хотели бы посмотреть на это мужицкое знамя. Ламмингер позвонил в колокольчик, управляющий появился в дверях. Он достал ходское знамя, которое стояло за большим темным шкафом, где хранились бумаги. Не без труда вытащил он знамя из пыльного угла, вышел во двор, чтобы отряхнуть с него пыль, и принес обратно господам.
– Древко сильно надломлено,—сказал он, развертывая знамя, когда-то белое, окаймленное черной полосой, а сейчас неопределенного цвета. Знамя было разорвано в нескольких местах. Барона окружили гости.
– Это не от ветхости, это почетные раны,—заметил полковник, рассматривая дыры.
– А вот и герб – песья голова! – воскликнул молодой граф из Вртбы, указывая на вытертую, полинявшую вышивку.
– Им больше бы подходила бычья голова! —засмеялся Ламмингер и, обратившись к управляющему, спросил, как ведут себя ходы.
– Как и вчера, ваша милость, Козина и Пршибек, да и тот волынщик даже не пикнули, когда мушкетер их драл лозами.
Ничего не ответив, Ламмингер повернулся к офицерам.
– Если угодно, приступим, господа?
– Да, можно начинать,—ответил полковник. Ламмингер кивнул управляющему. Тот прислонил ходское
знамя к стене поближе к камину и вышел за дверь. Минуту спустя он вернулся с кутским коллегой Кошем и двумя служащими барона. За ними вошли узники с Козиной и Матеем Пршибеком во главе. Ходы выстроились полукругом перед господами. Управляющий, знавший уже о замысле своего хозяина, поставил на стол перед Ламмингером ларец с ходскими документами. Старый Пршибек и староста Сыка вздрогнули при виде ларца. Матей Пршибек с помрачневшим лицом смотрел на старое знамя.
– Узнаете? —ледяным тоном начал Ламмингер, указывая на ларец.—Здесь ваши грамоты.
При этих словах управляющий поднял крышку ларца и стал вынимать грамоты одну за другой, так, чтобы все их видели.
– Все, что ли, тут? —произнес он как бы невзначай и при этом поглядел на старосту Сыку.
Тот заморгал глазами.
– Все, ваша милость! —подтвердил он.
– Ну, так проститесь с ними! —сказал управляющий. Взяв большие ножницы, он отрезал от грамот печати, бросая их в пылающий камин, а затем туда же отправил и все грамоты. Пергамент зашипел, и ярко вспыхнул огонь. В мгновение ока были уничтожены гарантии прав и вольностей, которые почитались и соблюдались в течение нескольких столетий. Из присутствовавших здесь ходов только старый Пршибек пользовался когда-то благами этих вольностей. Остальные знали о золотой свободе только по рассказам стариков. Но каждый из них верил, что это их сокровище утрачено не навсегда и волшебным ключом к нему являются эти старые грамоты, унаследованные от предков. И вот теперь грамоты пожирает огонь, сейчас они превратятся в горсть пепла, и вместе с ними навсегда погибнет последняя надежда на избавление от позорного крепостного рабства.
Ламмингер обвел глазами ходов. Злорадный огонек горел в его холодном взгляде. Да, он не ошибся, и расчет его был правилен. Наконец-то! Вчера еще они упорствовали, даже когда он им грозил солдатами и виселицей! А сейчас… Сейчас они повесили свои упрямые головы. И как уныло и мрачно глядят они на огонь, даже этот богатырь Пршибек! Ну, а этот как? Козину не смирили ни розги, ни это зрелище? Он все еще может усмехаться? Да, усмехаться, и еще с презрением! Ну, подожди, скоро тебе будет не до смеха…
В канцелярии стояла глубокая тишина. Только в камине слышалось шипение и треск, когда падала туда печать или грамота и ее охватывал огонь. Прежде чем бросить в роковое пламя последнюю грамоту, управляющий обратился к ходам:
– Конец вашим привилегиям. Теперь, когда они уничтожены на ваших глазах, в присутствии высокородных господ (он перечислил их титулы) и служащих нашего милостивого пана, вы, надеюсь, поумнеете и не будете больше на них ссылаться.
С этими словами он хотел кинуть последний свиток в огонь, но по движению барона догадался, что тот тоже намерен что-то сказать, и застыл с поднятой рукой.
– Выполняйте отныне свои повинности добросовестно, как полагается крепостным, иначе вам же будет хуже,—строгим тоном произнес Ламмингер.—Вы сами видите, что все напрасно.
Он кивнул управляющему —пожелтевший пергамент взметнулся над камином и исчез в огне. Все вздрогнули. В то же мгновение прислоненное к стене ходское знамя покачнулось и с грохотом упало прямо на решетку камина. Одним прыжком Матей Пршибек очутился у камина и схватил знамя, чтобы спасти его от огня. Но уже было поздно. Пламя охватило шелк, а когда Пршибек замахал знаменем, пытаясь погасить огонь, оно стало походить на пылающий факел.
Ламмингер и офицеры в замешательстве отшатнулись от Пршибека. Помещение наполнилось дымом, который прорезывали огненные языки, пожиравшие ходское знамя. Пршибек прижал знамя к полу и пытался погасить огонь рукой. Но старания его были тщетны. Он обжег лишь себе руки, от знамени же осталось только древко, но зато ходское знамя погибло в его руках и не досталось на посмешище панским палачам.
Запах гари ускорил завершение этой клонившейся к развязке сцены. Ламмингер пригласил своих гостей в соседнюю комнату, злясь и на управляющего и на «этого деревенского хама», за которого, хотя и в шутку, все же вступился полковник: что ни говори, а у него добрая солдатская кровь, и будь этот великан чуточку помоложе, он охотно взял бы его к себе в полк, в котором не нашлось бы ему равного.
Полчаса спустя оба офицера в сопровождении кирасир выехали из Тргановского замка и направились к Уезду.
А попозже, уже под вечер, со двора замка выходили старые уездские ходы, которых до сих пор держал под арестом трга-новский пан. Последним из ворот вышел старый Пршибек, опиравшийся на чекан, и его сын, Матей, несший на плече древко бывшего ходского знамени. Тргановский управляющий хотел отнять его у Пршибека, но кутский управляющий со смехом сказал:
– Оставь ему этот обломок на память. Пусть останется у ходов хоть что-нибудь от их былой славы!
Когда выходили со двора, господская челядь смеялась над Матеем. Он шел, опустив глаза в землю,—не от стыда, а из осторожности, чтобы не вспылить и не проучить барскую дворню за ее наглый смех.
Староста Сыка шагал рядом с Козиной и то и дело поглядывал на него, как бы ожидая, что он скажет. Но молодой ход молчал, словно не понимая этих вопрошающих взглядов.
Печальное было возвращение. Никто не произнес ни звука. И вдруг раздался голос старого Вахала:
– Это конец. Конец…
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Гости тргановского пана, краевого гетмана, недолго задержались в Уезде. Они забрали кирасир, занявших вчера ход-скую деревню, и всем отрядом тронулись в путь. Теперь, когда Ламмингер по-своему расправился с грамотами и достаточно застращал ходов, надобности в солдатах не было.
Облегченно вздохнули ходы, когда непрошеные гости скрылись из виду. Вздохнули, но не обрадовались, ибо в Трга-новском замке еще томились узники, а драгоценное сокровище ходов, их единственная и последняя надежда на освобождение от тяжкой крепостной неволи, было украдено.
В доме Пршибеков, как и всюду в деревне, было грустно и тихо. В горнице одиноко сидел Пайдар, поджидая свою племянницу Манку. Он не вернулся в Поциновице и остался здесь, чтобы Манке не пришлось оставаться одной с кирасирами. Молодого Шерловского он услал, наказав ему объяснить дома, почему он задержался в Уезде, и передать, что вернется, как только тут успокоится. Шерловский послушно отправился в путь. Он, правда, охотнее остался бы или взял бы Манку к своим, если бы она согласилась. Всю дорогу он тревожился за нее и успокаивал себя только тем, что старый Пайдар не допустит, чтобы ее кто-нибудь обидел.
Он беспокоился о ней больше, чем она о себе. Манка и слышать не хотела о том, чтобы идти в Поциновице к его родным. Она ничуть не боится солдат, а кроме того, с ней остается дядя. Да и как она может уйти, когда не знает, что с ее отцом и дедом? Ими были полны сейчас все ее мысли, и она расспрашивала о них всех, кого можно.
Сама не своя Манка влетела в горницу и принялась рассказывать дяде Пайдару, что она слышала в доме Козины. Старая Козиниха только что вернулась из Трганова, куда ходила сегодня уже второй раз,—в первый раз она побывала там рано утром; старуха оба раза бродила вокруг замка, стараясь разузнать, что сталось с ее сыном и остальными. На этот раз она вернулась с вестями. Горькие вести… О них-то и рассказывала теперь Манка дяде. Паны жестоко обошлись со всеми ходами, особенно с ее отцом и Козиной. У девушки задрожал голос, когда она рассказывала, что ее отца, Козину и волынщика Искру избивали палками. Старый Пайдар, до сих пор сидевший на грубо сколоченном стуле у обрубка липового ствола, порывисто встал. Он был поражен. Дела, не слыханные в Ходском крае! Уважаемых всеми людей бить, как бродяг или воров!..
– Палками? Нас?.. И мне случалось быть под шпицрутенами, но это! Ну, подождите, паны. Так дело не пойдет.
Манка еще продолжала беседу об узниках, об отце и о дяде, когда во дворе скрипнула калитка, и в наступающих сумерках мелькнули две тени. Отворилась дверь, и вошли те, о которых шла речь. Первым переступил порог старый Прши-бек, усталый, сгорбленный, с растрепанными от ветра и мокрыми от снега волосами. Он поздоровался. Манка бросилась к нему и схватила его за руку; лицо старика прояснилось. Следом за ним с древком вошел Матей. Он молча пожал руку Пайдару. Затем поставил в угол древко знамени и коротко сказал дочери, чтобы она сварила деду похлебку. Только после этого он опустился на стул и, облокотившись о липовую колоду, заменявшую стол, подпер голову ладонью.
Манка возилась у печи, но внимание ее было занято больше отцом, чем огнем и дровами. Пайдар подошел к племяннику и сказал, нарушив томительное молчание:
– Да, пришлось вам потерпеть… А правда, что они вас палками…
– И ты еще!…—закричал на него Матей, резко вскинув голову. Молчи и не говори мне! Хватит с меня этого позора… Обкрадут, как воры, да еще и бьют…—Матей встал.—Нет, этого я им не забуду! Господом богом клянусь… Пусть я околею!
Свет от зажженной Манкой лучины упал на Матея. Он уже не сидел, а стоял и говорил, выпрямившись во весь рост, с поднятой к небу рукой, бледный, со сверкающими, налитыми кровью глазами.
Старик, сидевший на краю постели, смотрел на сына и, молитвенно сложив руки с высохшими, узловатыми пальцами, вполголоса бормотал:
– Эта звезда… эта звезда.
В то время, когда Манка беседовала с дядей Пайдаром, старая Козиниха сидела одна в своей горнице. Она давно нуждалась в этой минуте одиночества. Накануне, после того как у нее похитили грамоты и увели сына, она всю ночь не сомкнула глаз; она сидела у своей снохи, пока не уснули напуганные дети. Едва забрезжил день, старуха набросила тулуп и поспешила в Трганов. Долго всматривалась она в белые стены господского замка, обходя его кругом, в надежде хоть краем глаза увидеть Яна или узнать, что с ним и с остальными ходами. Но пришлось ей вернуться ни с чем. Дома ее ждала сноха, не находившая себе места. Она и сама готова была полететь к замку, если бы не дети и не солдаты.
Дивные дела творятся на свете! Старуха до сих пор всегда чуждалась Ганки, а теперь стала относиться к ней как к родной дочери. Возилась с детьми, помогала Ганке во всем; вернувшись вечером из Трганова, она, чтобы не опечалить сноху, не сказала ей всей правды.
Когда солдаты ушли, старуха вошла в свою горницу и стала молиться за сына. Тихо было вокруг. Только ветер заунывно посвистывал в сумраке осеннего вечера. Вдруг во дворе залаял старый Волк. Его неистовый лай отвлек старуху от молитвы. Старуха прислушалась, но собака скоро умолкла. Козиниха снова склонила голову и продолжала полушепотом читать молитвы. Но недолго пришлось ей молиться. Послышались быстрые мелкие шажки, и в горницу, запыхавшись, влетел маленький Павлик. «Папа пришел!» – крикнул он, едва переводя дух. Не успела Козиниха добежать до порога, как появился сам Ян с Ганалкой на руках, а за его спиной виднелось сияющее лицо Ганки.
Старуха не в состоянии была произнести ни слова: обвязанная голова, бледное лицо… Глаза ее наполнились слезами, она молча протянула сыну руку. В этом жесте был и радостный привет и просьба о прощении. Сын, тронутый, крепко пожал протянутую руку.
Вся семья уселась за бабушкин стол. На лицах была написана радость. Дети не отходили от отца. Ганка расспрашивала его —что было в замке, как с ним там обращались? Козина коротко ответил и перевел разговор на кирасир, он спросил, как они похозяйничали тут в усадьбе и вообще в деревне. Мать говорила мало. У нее все время вертелся на языке один вопрос, но она так и не задала его, видя, что сын избегает этого разговора.
Неожиданно пришел гость – драженовский дядя, старый Криштоф Грубый. Еще вчера, когда отвели в Тргановский замок Козину и других ходов, старуха Козиниха послала сообщить брату о случившемся. Он извинился, что так поздно пришел, так как не был дома, а ходил в Брод по своим делам. Грубый горячо потряс руку племянника и сказал:
– Слышал, слышал уже, родной!
Он снял плащ и шляпу и подсел к столу. Молодая хозяйка ушла готовить ужин.
– Значит, ты знаешь, Криштоф…—начала старая Козиниха, издали приближаясь к вопросу, который ей так хотелось задать.