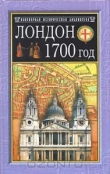Текст книги "Псоглавцы"
Автор книги: Алоис Ирасек
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
Алоис Ирасек
Псоглавцы.
Исторический роман
Перевод А. С. Гуровича
С древнейших времен естественной и надежной защитой Чешского королевства служили дремучие леса, простиравшиеся от пограничных гор далеко в глубь страны.
Особая стража охраняла проходы через порубежную чащу, она же заботилась о «земских воротах», то есть о крепостях и укреплениях, возведенных здесь для защиты пограничных дорог.
Постепенно, главным образом в тринадцатом веке, когда в наши края валом повалили чужеземные колонисты, короли чешские перестали ценить пограничные леса —эту естественную защиту государства, и разрешили иностранцам понемногу вырубать их.
Дольше всего и лучше всего сохранились леса на западе, на границе с Баварией, по склонам и у подножия величественной Шумавы. Часть этих лесов и важнейшие дороги, ведущие из Домажлице в немецкие земли, с незапамятных времен сторожили ходы—народ крепкий, закаленный, сложения богатырского, нрава удалого.
Деревни ходов, некогда встречавшиеся только по опушкам королевских лесов, теперь раскиданы и в долинах и по склонам гор, но всегда так, что между ними и границей высятся горные кряжи или гряды холмов, за которыми ходы укрываются от неприятеля, как за надежными бастионами. Миль шесть в ширину тянется вдоль границы этот пояс, по которому в соседстве с перевалами и главными дорогами рассыпаны ходские деревеньки.
Дальше всех на юго-восток от Домажлице, близ Вшеруб-ского перевала, лежат селения Льгота и Поциновице: к северо-западу от них, между Вшерубской и Бродской дорогами, были расположены деревни Кичев, Мраков, Тлумачев и Страж, а еще дальше в северо-западном направлении, вдоль дороги на Мюнхен,—Уезд, Драженов, Постршеков, Ходов и теперешний городок Кленеч.
Когда здесь были поселены чешские пограничники, получившие название ходов, точно неизвестно. Но известно, что службу свою они несли честно, отважно защищали все проходы и тропы от вражеских вторжений и участвовали во всех битвах, происходивших в их крае или в соседних с ними местах.
Известно также, что они помогли князю Бржетиславу наголову разбить немцев у Брудека и доблестно сражались за родину в последующие времена, особенно в славную эпоху гуситских войн.
В мирное время они ходили вдоль рубежей и следили, чтобы немцы не отодвигали с пользой для себя наши границы, без разрешения не рубили чешские леса, не охотились в них и вообще не допускали самоуправства. При этом, как в записях значится, дело часто доходило до кровавых схваток с баварскими, в особенности с бродскими порубщиками и браконьерами. Верными союзниками ходов в их сторожевой службе были большие и сильные псы, верным другом – тяжелый чекан1, а в более поздние времена – пищали и ружья. Ходы носи -
1 Чекан, чакан, на языке ходов «чакана» —это одновременно и посох и оружие, длиною около полутора метров, сделанный из крепкого дерева. Нижний конец чекана был снабжен острием, верхний—топориком с обушком. Кроме того, верхняя часть чекана украшена металлической резьбой и шляпками гвоздей. В старые времена чеканы носили женатые мужчины. Они обычно захватывали с собой чекан, когда отправлялись по делам службы или в Баварию, в город, на свадьбу, крестины и в других подобных случаях.
ли оружие даже тогда, когда решениями сейма это запрещалось всему остальному населению Чешского королевства.
Когда чешскому королю случалось проезжать по Ходско-мукраю, ходы встречали его в полном вооружении, со знаменем, на котором был герб с изображением песьей головы. По старинному обычаю, они подносили королю бочонок меда и провожали его, как почетная стража, через границу
В награду за свою опасную и трудную службу ходы пользовались особыми правами и привилегиями.
Испокон веку они были свободными людьми, не подчинялись никаким властям, кроме самого короля. Дворяне не имели права селиться на ходских землях или покупать эти земли. Ходы не знали крепостного права, тяжелыми цепями сковавшего остальное сельское население. Они свободно могли пользоваться всеми богатствами лесов, которые охраняли, беспрепятственно охотились в них, меряясь силами с волками и медведями, которых на Шумаве было великое множество еще в семнадцатом веке. Они могли безвозбранно заниматься у себя в крае любыми ремеслами и были освобождены от податей и пошлин по всему королевству Никто не мог чинить им препятствий переезжать с места на место, жениться по своему выбору, собираться на сходки.
У ходов был свой суд, вершивший дела по «ходскому праву». Суд этот состоял из назначенного королевской властью «старосты ходов» и коншелов, или старост ходских деревень. Заседал суд каждое четвертое воскресенье в Ходском замке—крепости в Домажлице.
Крепость была резиденцией домажлицкого бургграфа или гетмана, «ходского старосты» и присяжного писаря—ходской высшей администрации. Там же ходы хранили свое знамя, свою печать и жалованные грамоты, полученные от Яна Люксембургского, Карла IV, Вацлава IV, Иржи Подебрадского и других королей В крепость, в случае опасности, они собирались с оружием в руках; под защиту ее стен они отправляли во время войны своих жен и детей и прятали там свое имущество.
В последний раз ходы несли свою службу в роковом для Чехии 1620 году. Они заградили засеками все дороги к баварской границе, а король Фридрих Однозимний строжайше приказал, «чтобы они, согласно своей повинности и по порядку
1 Отсюда их кличка – псоглавцы. Смотри у II. Странского
очереди от каждого отдельного селения, не только днем, но наипаче ночью бдительно охраняли и защищали эти места от внезапных нападений врага, пребывая там до установленного часа и никуда не отлучаясь ни днем, ни ночью, и чтобы сделали себе надлежащее воинское знамя, одним человеком носимое, и знамени тому присягнули А чтобы на этих сторожевых постах лучший порядок поддерживался, пребывать на них один день старосте, а другой день писарю…»
В последний раз перекликались тогда в дремучих шумав-ских лесах ходские часовые, в последний раз реяло над головами доблестных хранителей чешской границы окаймленное черным белое знамя с песьей головой.
Грянула битва у Белой горы.
Разлив всеобщего бедствия захлестнул и этот уголок Ход-ского края. На сороковой день после староместских казней императорский наместник Карл фон Лихтенштейн за семь тысяч пятьсот золотых «заложил» вольных ходов гофрату Вольфу Вильгельму Ламмингеру барону фон Альбенрейту, который в качестве императорского комиссара был одним из главных виновников трагедии 21 июня 1621 года. А девять лет спустя за пятьдесят шесть тысяч золотых ходы были уже проданы тому же Ламмингеру в полное и потомственное владение.
Барон фон Альбенрейт не хотел признать и не признал, конечно, ходских вольностей и привилегий и стал обращаться с ними как с обыкновенными крепостными.
Тогда ходы и повели свою последнюю длительную и упорную борьбу. Свободолюбивые люди стойко защищали свои права от насилия и беззакония. Больше шестидесяти лет длилась эта неравная борьба. Порою вспыхивала искра надежды, и ходы думали, что им удастся выиграть тяжбу при венском дворе, но выиграл ее окончательно и бесповоротно наследник Ламмингера, его сын Максимилиан. Ходам раз и навсегда было сказано, что просьба их отклоняется, что все их привилегии аннулированы и потеряли силу, а сами они обязаны под страхом строгой кары хранить.
ЭТО было в 1668 году действительно воцарилось в Ходском крае. Гробовое молчание. Его не нарушило даже разразившееся в 1680 году по всему Чешскому королевству грозное крестьянское восстание.
Но все же не было. Ходы нарушили его. А с этого и начинается наша история.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Ранние ноябрьские сумерки спустились на горы и долы и окутали тьмой весь край, приютившийся у подножия крутого Черхова и вдоль хребта Галтравы. Тяжелые черные тучи неслись, задевая за лесистые вершины, они проносились над горной цепью Чешского Леса, вздымавшейся над притихшим краем исполинской стеной, теряющейся в поднебесье.
Настал грозный час.
Над тучами и над землей —над всем владычествовал ураган. Все дрожало перед ним —и одинокое дерево среди поля и вековые великаны в дремучей чаще на склонах гор. Старые и молодые березы, густо растущие на горе Градек, вознесшейся над деревней Уезд, жалобно стонали и гнулись, ураган злобно срывал последние желтые листья и в бешеном порыве гнал их в черную мглу. А на соседней вершине Гурке непокорно гудел дубовый лес. Потрясая раскидистыми кронами, дубы сопротивлялись вихрю, который, стремительно вырвавшись из леса, бросался на притихшую деревню, прилепившуюся к Градеку, как одинокое гнездо.
Раскачивались и шумели деревья вдоль дороги и в садах. Громче всех гудела вековая липа в просторном дворе Козины, а журавль у старого колодца под липой отчаянно скрипел и визжал. Но все тонуло в вое ветра, свирепствовавшего в густых ветвях старого дерева.
В доме горел огонь. Тусклый свет, пробивавшийся во двор сквозь низенькое оконце, упал на взметнувшийся внезапно столб желтых листьев; вихрь яростно закружил их, подхватил и в одно мгновение унес в темную высь. И когда ураган, словно взбесившись, заревел и засвистел с особенной злобой, кто-то подошел к окну. Показался чей-то силуэт, окно приоткрылось, и обнаженные женские руки выставили в темноту небольшую миску; тотчас же над миской заклубилось белое облачко, заклубилось и, точно рой мельчайших снежинок, было развеяно ветром, в жертву которому было назначено. Рыдающая Мелюзина жадно поглотила муку, поданную ей для умилостивления, застонала и, ринувшись во тьму, исчезла.
Окно закрылось, тень за окном исчезла.
На дворе по-прежнему бушевала непогода. Но в доме, в довольно просторной горнице, было тепло и уютно. В очаге пылал огонь и потрескивали смолистые деревья. Ярко горела воткнутая в черный светец лучина и освещала женщину, которая, принеся жертву Мелюзине, отошла от окна и поставила порожнюю миску на некрашеную полку.
Это была крестьянка, молодая, стройная и красивая женщина; особенную прелесть ее лицу придавал открытый взгляд карих глаз и прямой нос. На ней был обычный наряд —юбка и безрукавка, голова была повязана пестрым платком.
Поставив миску на полку, она опять уселась на стул поодаль от расписной кровати с пологом и, взявшись за толстый шнур, равномерным, легким движением стала раскачивать подвешенную к потолку холщовую люльку, напевая вполголоса:
Бай, бай, детка,
Малолетка,
Ты б уж спала да молчала,
Своей маме не мешала…
За окном ей вторила буря. Вой ветра и шум деревьев сливались в один сплошной рев, от которого стекла дребезжали в рамах. Молодая мать продолжала петь колыбельную песенку. Из-под полога, свисавшего над кроватью, доносился громкий шепот и приглушенный смех. Долго сдерживаемый смех прорвался, наконец, и зазвенел, веселый и звонкий, как серебряный колокольчик. Другой, низкий голос тотчас стал его успокаивать, а хозяйка прикрикнула, но совсем не строго:
– Потише там, дайте Ганалке заснуть! —И, покачивая люльку, она снова запела:
Не заснешь же, голубочек, Бросим детку в омуточек; А из омута в Дунай – Схвати его водяной!..
Маленькая Ганалка глядела в одну точку и, довольная, что-то лепетала все тише и тише, пока, наконец, не умолкла. Качнув люльку еще раз-другой, мать отпустила шнур и направилась к кровати; в тот же миг из-под светлого полога поднялся ее муж, который играл там со старшим сынишкой.
Это был высокий статный крестьянин лет тридцати с небольшим, с длинными темно-русыми волосами. Закинув волосы за уши, он с улыбкой взглянул на свою жену. А трехлетний круглолицый мальчуган в рубашонке, с горящими, как угли, глазенками, цеплялся за плечи отца и звал мать под полог.
– Тише вы, йеугомонные! —с притворной суровостью прикрикнула хозяйка.—Давно спать пора. Ложись, Павлик! Живо под одеяло! Смотри, Ганалка уже спит.
– И как крепко спит! – рассмеялся отец, указывая на люльку, в которой была видна белокурая головка двухлетней девочки. Свет лучины золотил ее светлые кудряшки, девочка улыбалась.
Молодой Сладкий, прозванный Козиной по имени своей усадьбы, подошел к люльке. Он был в светлых кожаных штанах до колен, высоких чулках и тяжелых башмаках, без жилета, рубаха с широкими рукавами распахнулась на груди. Козина протянул руки к дочурке, высоко поднял ее и, лаская, понес к постели; все его движения обличали силу и ловкость. На постели собралась теперь вся семья – развеселившиеся ребятишки, карабкающиеся на плечи отца, и смеющиеся вместе с ними родители. Здесь царила гармония семейного счастья, которое не мог нарушить вой осенней непогоды.
Это счастье, однако, досталось не без боя. Когда четыре года тому назад Козина, уже самостоятельный хозяин, поведал матери, кто его избранница, старая Козиниха сначала и слышать не хотела об этом. Девушка была, правда, красивая, но из бедной усадьбы. Не такую невестку хотела бы видеть в доме старая Козиниха. Правда, должность старосты не передавалась больше от отца к сыну в их роде, но все же, как и в старые времена, он принадлежал к числу наиболее уважаемых в Ходском крае, и дом Козины по-прежнему был окружен почетом. Ведь каждый ребенок знал, за что новые паны сместили деда Козины с должности ходского старосты: он не захотел плясать под их дудку и идти против своих.
Но в конце концов старуха все же уступила.
– Яблоко от яблони недалеко падает,—говорила она про сына.—Настоящий Козина упрям, как бык. Только бы Ганка не связала его по рукам и ногам…
Веселый волынщик Ржегуржек, по прозвищу Искра, смеясь, сказал тогда:
– Я уверен, не свяжет! Как голубки будут жить!
Еще бы не предсказывать ему благополучие и любовь, когда один он знал тайну молодого хозяина, был его послом и советчиком. Так или иначе, а предсказание его сбылось.
Молодой Козина и Ганка действительно жили, как два голубка, и не полгода, не год, как часто бывает, а вот уже пятую осень. Козина чувствовал себя в семье счастливым, и чем дальше, тем больше. Сидеть дома с женой и с детьми, шалить и забавляться с ними – лучшего он не желал. В деревне уже начинали злиться за то, что он почти не появлялся в мужской компании, не приходил даже выпить кружку пива и покалякать о разных делах.
Разве только с волынщиком Искрой Ржегуржеком он всегда не прочь был встретиться и потолковать где-нибудь в поле, на опушке леса или в воскресный день у себя в саду.
Да, не узнать было молодого Сладкого. Когда-то он любил бродить целыми ночами по лесу с ружьем и силками, рыл волчьи ямы и всегда готов был подстроить какую-нибудь штуку ненавистным панам. А женился – присмирел, как ягненок.
И когда паны приказывали привезти дрова или явиться на какую-либо другую работу, он молча выслушивал приказание и посылал своего работника. А прежде он, как и все в Ходском крае, проклинал барщину и всячески уклонялся от нее.
Старая Козиниха в такие минуты, крепко сжав губы, сурово и мрачно смотрела на сына. В душе она осуждала его, а порой и жаловалась своему старшему брату, Грубому из Драженова, когда он заглядывал к ней:
– Нет! Это не Козина. Не в отца пошел. У него только жена на уме.
«Жена и дети»,—правильно было бы сказать. Так по крайней мере казалось и сейчас, когда он, не слушая завываний осенней бури, Сидел со своей семьей на кровати под пологом и смеялся вместе с детьми, расшалившимися, как котята.
Вдруг он выпрямился и прислушался. Одновременно очнулся от дремоты и старый Волк; выскочив из-под стола, пес залаял.
– Посиделки ведь только начались,—удивилась Ганка, беря на руки дочку. Ганка подумала, что кто-нибудь из прислуги возвращается с посиделок у соседа.
– Нет, кто-то чужой,– ответил Козина. В эту минуту снова раздался стук в дверь.
Козина вышел в сени. Загремел засов, и снаружи послышался мужской голос, распевавший:
На Уездском Градеке сладко поет пташечка…
Потом что-то сказал Козина, заглушая слова певца; но мужской голос продолжал петь:
Ах, как славно распевает! Звуки песни Льются, льются, залетая к нам в ворота…
С песней вошел певец в горницу, остановился у порога и поздоровался с хозяйкой. Маленький Павел встретил его радостным возгласом, а хозяйка приветливо сказала:
– Заходи, заходи, Искра! Только из города? Поздновато. Достанется тебе от Дорлы.
– Ну и пусть. Будет Дорла хреном, будет Искра перцем. И, поправив свой инструмент, висевший у него на ремне через плечо, волынщик лукаво улыбнулся.
– Что это ты так весел? —спросил хозяин.
– Как же мне не веселиться, если ветер на дворе распевает во все горло, так и заливается! Ну и дорожка была, истинное наказание божье! Мех мой надувало ветром, волынка сама играла. Музыка была такая, что пришлось в темноте скакать с камня на камень, из лужи в грязь,—только брызги разлетались…
Искра Ржегуржек положил волынку^ на скамью и уселся сам, не снимая с головы барашковой шапки с малиновым верхом. На его круглом, гладком лице с ямочкой на подбородке все еще играла улыбка. Улыбались собственно только его веселые плутоватые глаза, которые он жмурил всякий раз, когда собирался сказать или выкинуть что-нибудь смешное. Он был почти ровесником молодого хозяина – может быть, на два, на три года старше.
Хозяйка тем временем принесла соли и большой каравай хлеба, обернутый чистым полотенцем.
– Режь да ешь,—пригласила она гостя.
– Что нового в городе? —спросил Козина.
– Нового? Немного. Сидели там в корчме двое каких-то, как будто из магистрата, и говорили, что паны расспрашивали про нас. Твой дядька из Драженова тоже был там и все это слышал.
– Про что расспрашивали? – заволновался хозяин.
– Про ходские права. Искали в магистрате те грамоты – знаешь, что хранились раньше в нашем замке.
– Да кто искал?
– Был там управляющий Кош из Кута и управляющий из Трганова. Те двое из магистрата хохотали над ними до упаду. Не знаю, как там было дело, только Кош, говорят, и кричал и грозился, что тргановский пан покажет ходам…
Волынщик умолк, но потом вспомнил что-то и добавил:
– Один из этих там, в корчме, очень хорошо объяснял, что наши ходские права до сих пор имеют полную силу. Да! А старик Ломикар, да и теперешний молодой только издевались над ходами, когда те толковали о грамотах!
Хозяева слушали затаив дыхание и не заметили, как маленький Павлик, соскользнув с постели, подобрался к волынке и погрузился в восторженное созерцание чудесного козлика. Сначала он только любовался им, потом потрогал глаза, потом мягкую шерсть и сверкающие блестки, которыми Искра украсил лоб козлика между рожками. Но мальчугана заметила мать. Отец же продолжал смотреть в землю и поднял глаза только тогда, когда волынщик умолк.
– Когда это было, Искра? —спросил он.
– Третьего дня, должно…
– Не вышло бы опять какой беды,—озабоченно вздохнула молодая хозяйка.
– Я так думаю, что…– начал было волынщик, но он не докончил, старый Волк внезапно вскочил на ноги и залился лаем.
Козина подошел к окну. Он всматривался в темноту, но никого не увидев, вышел на крыльцо.
Искра посадил маленького Павлика к себе на колени и собирался показать ему, как надо дуть в рожок волынки, но в это время хозяйка тронула его за плечо.
– Слушай, Искра,—начала она.—Ты заметил, как задумчив был Козина, когда ты рассказывал? И такое на него теперь находит часто. Так, просто – ни с того ни с сего. Вот он весел, говорит, смеется, и вдруг сразу – словно оборвался. Я иногда думаю, что ему что-то запало в душу и легло камнем на сердце. Может быть, я ему уже не люба, и он жалеет, что…
– Не мели вздор! —перебил ее волынщик.—Жалеет? И не жалеет и не пожалеет, это я хорошо знаю. Об этом тебе нечего тужить.
– Счастье меня баловало. Мы боимся потерять то, что носим в своем сердце… Ну, а если не это, то что же?
– Ну и мысли же лезут тебе в голову! Все пройдет!
– Дай бог!..—вздохнула молодая женщина, немного успокоенная словами Искры. И тут же невольно рассмеялась, когда ее малыш с помощью Искры извлек из волынки несколько жалобных звуков.
Тем временем молодой Козина, выйдя из сеней на крыльцо, внимательно оглядывал двор. Кто-то здесь был —это несомненно, иначе чуткий Волк не залаял бы. Ветер все еще завывал, трудно было что-нибудь услышать. И все же!.. Кто-то постучал в окно,—там, напротив, через двор, в домике, где жила его старуха мать. Она, должно быть, уже спала,—в окнах было темно. Но вот мелькнул огонек, и в упавшем из окна свете, слабо озарившем двор, можно было различить двух мужчин, стоявших у дверей. Мужчины подождали, пока им откроют, и потом исчезли в дверях.
Козина с минуту стоял в нерешительности. Из горницы доносились плачущие звуки волынки, но он их не слышал. Он зашагал через двор к домику матери. Попробовал толкнуть дверь. Она была заперта. Пригнувшись, он подошел к окну и заглянул внутрь. Он увидел мать в кожухе и двух гостей ее. Один из них вынул из-под плаща не то сундучок, не то ларец. Другой открыл крышку и, вытащив что-то гладкое, блестящее, как серебро, показал старухе.
Но тут Козине пришлось поспешко отскочить от окна: с крыльца послышался голос его жены, она удивилась, что в такую непогодь муж так долго остается во дворе.
– Никого нет. Зря брехал Волк,—сказал Козина, направляясь к крыльцу.
– А зачем ты ходил к матери?
– Хотел посмотреть, что делает. У нее еще свет горит. Мне показалось это странным. Оказывается, сидит на лавке и богу молится…
– Ну, заходи скорей. Холодина такой, что у меня зуб на зуб не попадает. Да и Искра уже собирается домой. Павлик клянчит у него волынку…
Супруги вернулись в горницу.
Искра тем временем занимался Ганалкой. Он носил ее на руках по комнате, убаюкивая тихой песенкой. Девчурка уставилась было на него, но мало-помалу глазенки ее стали слипаться, и, наконец, она уснула. Волынщик бережно уложил ее в люльку.
– А из тебя вышел бы неплохой отец,—шутя заметила хозяйка.
– Да уж, наверное, только вот аист к нам дороги не найдет,—ответил волынщик и добавил, усмехаясь:
– А ведь тогда, пожалуй, Дорла меньше ругала бы меня…
Вспомнив, что ему надо еще поиграть на посиделках, чтобы заработать жене кудели, он взял волынку, с которой Павлик еле расстался, и пожелал хозяевам доброй ночи. Козина пошел проводить его. Выйдя вместе с ним на крыльцо, он шепотом спросил Искру,—возвращался ли из города вместе с ним драженовский дядюшка.
– Нет, он остался в корчме. Подсел к тем двум из магистрата и о чем-то шептался с ними. О чем – не знаю, я ни слова не разобрал. А теперь слушай, я кое-что скажу тебе. Ганка мне призналась, что она тревожится за тебя. Она, глупая, думает, что ты разлюбил ее: задумывается, дескать, молчит, словно на сердце у него тоска… Да будь у меня такая жена, я бы все время радовался от счастья и все на свете было бы мне милым. Опомнись, к чему ты все это выдумал? Жена-то в чем виновата? Что с возу упало, то пропало…
И, кивнув Козине, Искра скрылся во тьме. Козина стоял на крыльце, пристально глядя через двор на домик своей матери. Там горел свет. Поздние гости еще не ушли. Козина хотел было опять подойти к окну, но передумал и вернулся в сени. Из горницы донесся нежный голос жены, напевающей песенку:
…Своей маме не мешай…
Только теперь дошли до его сознания слова волынщика. Занятый другими мыслями, он пропустил их тогда мимо ушей. Привычный голос жены прозвучал для него так же сладостно, как в те времена, когда она еще девушкой распевала песенки у себя в саду, а он, притаившись, наслаждался этим пением. Так же свежо, так же нежно звучал ее голос и теперь. А когда он увидел, что она сидит над уснувшей дочуркой, мрачные думы рассеялись, лицо его прояснилось, и он улыбнулся жене…
В эту ночь молодая женщина заснула успокоенная, с легким сердцем. Догоревшая лучина еще тлела некоторое время, потом погасла. Комната погрузилась во мрак. Спали все, кроме хозяина, который, лежа рядом с Павликом, не мог сомкнуть глаз. К нему снова вернулись прежние мысли. Он слышал дыхание сынишки, слышал ровное дыхание жены и Ганалки; прежде оно убаюкивало Козину, теперь, прислушиваясь к нему, Козина думал о другом. Он напрягал свой слух: он ждал, не придет ли мать, не постучит ли, не вызовет ли его. Но все было тихо. Козина не выдержал, встал и подошел к окну.
У матери все еще горел свет.
Козина все стоял, глядел и ждал…
ГЛАВА ВТОРАЯ
Погасив огонь, старая Козиниха легла в постель. Она еще не заснула, когда к ней постучались те два гостя, которых видел ее сын. Набросив длинный кожух, крытый коричневым сукном и отороченный бараныш мехом, она пошла открыть дверь.
– Прохожие,—отозвался на ее вопрос один из пришельцев, и она узнала голос брата.
Это был Криштоф Грубый, драженовский староста, высокий, немного сутуловатый мужчина. Он был в широком плаще; в правой руке он держал тяжелый чекан, на рукояти которого при свете зажженной лучины поблескивала медь. Войдя в горницу, он поставил на невысокий стол из белого клена окованный железом дубовый ларец с резными ножками. Когда Криштоф снял с головы высокую баранью шапку, лучина осветила его морщинистое, но еще моложавое, серьезное лицо. Длинные, сильно тронутые сединой Полосы падали ему на плечи и только на лбу были ровно подстрижены. Орлиный нос и живые глаза, во взгляде которых чувствовались твердость и сознание собственного достоинства, придавали особое благородство внешности старика.
Рядом с ним совсем маленьким казался его спутник, уезд-ский староста Иржи Сыка. Это был человек небольшого роста, но коренастый и широкоплечий. Одет он был в белый жупан с черной оторочкой; из-под его тяжелой широкополой шляпы на плечи падали густые темно-русые волосы.
Козиниха в старом длинном кожухе, на котором от пестрых вышитых цветов сохранились лишь следы, с изумлением глядела на нежданных поздних гостей. Но она молчала и спокойно ждала, что они скажут. Брат ее приступил к делу без околичностей. Он коротко рассказал о своем посещении города, где доподлинно узнал от двух членов магистрата, что паны справлялись о ходских грамотах, полагая, что магистрат скрывает их, так как несколько лет тому назад они хранились в Ходском замке. Паны пытались выведать все тайком через своего управляющего Коша, но магистратские, как и все здесь, не очень-то любили тргановских панов и охотно рассказали обо всем драженовскому старосте. И Грубый, не заходя домой, отправился из города прямым путем в Уезд, где у старосты, издавна уважаемого всеми ходами, хранилось драгоценнейшее сокровище псоглавцев – их писаные привилегии. Хранились они здесь с тех пор, как ходов продали старому Ламмингеру. Тогда несколько ходских старшин, в их числе и дед старого Козины, вовремя вспомнив о грамотах, поспешили в город просить домажлицкий магистрат, чтобы грамоты отдали им1.
– Что ж, теперь вы не наши, так возьмите с собой и свои грамоты. Лучше пусть будут у вас, чем у этого немца! – сказали члены магистрата и пустили ходов в подземелье замка, где хранился ларец с их документами.
С тех пор дубовому ларцу приходилось странствовать из одной деревни в другую, так как новые паны, хотя и не признавали ходских привилегий, но упорно искали грамоты. Этот небольшой ларец, в котором хранилась под ключом драгоценная свобода, прятали в надежном месте то у одного, то у другого ходского старосты, но чаще всего в уезде. Так пове-
1 В 1585 году король Рудольф на 60 лет передал управление ходами городу Домажлипе в обеспечение полученного им займа в размере 37142 копы.
лось с того рокового дня, когда ходам было предписано – и вплоть до сегодняшнего дня.
Паны как будто перестали интересоваться этими грамотами или забыли о них. И вдруг – словно гром среди ясного неба – опять они их ищут.
Вот об этом-то и рассказывали ходские старосты во вдовьем домике старой крестьянке, которая слушала их, стараясь не проронить ни слова. На лице Козинихи, по которому нетрудно было догадаться, что она доводится сестрой Кришто-ФУ Грубому, не отражалось в эту минуту ни страха, ни беспокойства. Наоборот, лицо ее просветлело и глаза загорелись радостью.
– Видно, наши грамоты чего-нибудь да стоят,—произнесла она, и по лицу ее скользнула лукавая усмешка.—И вы правильно сделали, принесли их мне, женщине… Что ж, я их припрячу как следует, а искать в моей хижине никому и в голову не придет.
Тем временем Сыка, вытащив из кармана своей жилетки небольшой ключик, отпер ларец и вынул оттуда прежде всего печать, величиною с талер, на короткой серебряной цепочке. Драженовский староста и его сестра, склонившись над ларцом, глядели на обернутые в бумагу и аккуратно уложенные свитки пергаментов. Сыка вынул их один за другим и клал на стол. Ведь он сдавал их, а потому считал нужным и для себя и для других развернуть и еще раз проверить все документы. Сам он хранил их много лет и потратил не один ночной час, пока все их перечитал —и те, что были писаны по-чешски, и те, что по-латыни. Последние —по переводам, сделанным когда-то в лучшие, более свободные времена.
Грамотей Сыка, пользовавшийся у своих славой «прокуратора», разложил по порядку все ходские свободы, все грамоты, начиная от самой древней и кончая грамотой короля Ма-тиаша. В скромной горнице, освещенной огнем сосновой лучины, лежали теперь эти тщательно сложенные, перевязанные лентами, побуревшие по краям, захватанные по углам пальцами, старые, пожелтевшие пергаментные свитки. Огромные печати свисали на шелковых шнурах когда-то белого и красного цвета; столетия изменили белый цвет в желтоватый, а красный лишили его яркости. Печати хорошо сохранились; и самая старая из некрашеного воска, на которой изображен был король Ян Люксембургский верхом на коне, в полном рыцарском вооружении, с мечом в правой руке и щитом на левой, и печати остальных королей – Карла, Вацлава, Иржи, Владислава, Фердинанда, Максимилиана, Рудольфа и Матиаша; две последние печати алели ярче всех.
В комнате воцарилась тишина. Оба хода и старуха в молчании глядели на роковые грамоты, которые помнили века и знали лучшие, более счастливые времена, а теперь стали свидетелями горя и унижения. Сыка еще раз перебрал все грамоты одну за другой, как бы пересчитывая их, и сказал, обращаясь к Грубому:
– Все здесь. Ни одна не пропала.
Грубый подтвердил его слова кивком. Он тоже прекрасно знал эти грамоты с давних времен.
– Да, то были иные времена, тогда эти грамоты и печати имели значение,—произнес Сыка.
– А теперь разве ничего не значат? —отозвалась старуха.
– Не значат? Нет, значат! И если нет у них силы сегодня, так будет завтра! —решительно и твердо ответил Грубый.—Тут наше право, твердый орешек, его не раскусить ни ломикаровским управителям, ни самому Ломикару. Наши короли были иными, а их слово значит побольше, чем слово пришлого немца.
– Верно, верно,—подтвердил Сыка.—Потому-то Ломикар и хочет отобрать у нас грамоты и сжечь их. Он тогда взял бы плетку и кричал: «Пляшите, мерзавцы!» Однако вот еще не стерлись слова! —И, развернув латинскую грамоту короля Иржи, Сыка показал на подчеркнутые строки в приложенном к ней переводе: «…и ни дворяне, ни вельможи никоим образом не могут владеть ими (ходами), ни закрепощать их, ни селиться на их земле»,—Да, и это тоже еще имеет силу…