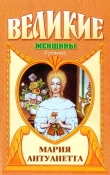Текст книги "Шкатулка воспоминаний"
Автор книги: Аллен Курцвейл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
32
Оставшиеся дни недели Клод так тщательно следил за своей внешностью, как никогда раньше. Он мылся в местной бане и искал у себя вшей. Он снял старую рубашку, с воротником таким же черным, как края древней монеты, и надел свежую, которую Маргарита почистила яванской водой и погладила. Он одолжил у Этьеннетты скребок для чернил и вычистил темные полумесяцы грязи из-под ногтей. Плюмо по этому поводу сказал: «Ты – живое доказательство того, что безрассудная страсть – отличный способ соблюдать гигиену».
В решающий день у Клода было только одно поручение до похода к мадам Хугон. Продавец беллетристики из отдаленного пригорода заказал две дюжины копий «Наслаждений старого извращенца». Клод решил взять коляску. В переулке возле Мобертской площади он нашел незарегистрированный экипаж, у которого не хватало двойной «П» на боку, знака монополии Перро. Клод добился того, чтобы его довезли до места назначения по сниженной цене.
Дело с продавцом беллетристики было улажено быстро и без происшествий, и Клод мог отправляться к патронессе. На сэкономленные деньги он заглянул к парикмахеру, чтобы добавить последний штрих к своему внешнему виду. Он не нуждался в бритье – кожа на его лице была мягкой, как замша, – но он все равно пошел. Парижская парикмахерская сильно отличалась от своей турнейской родственницы. Не было здесь вывески «Брею за су, режу за два», равно как и услуг по кастрации боровов и козлов. Спросив мальчика о наличии шишек или струпьев, парикмахер взялся за его лицо, вооружившись особым мылом и бритвой, выкованной, как хвастался брадобрей, в Шеффилде. К сожалению, техника бритья не соответствовала качеству инструментов, и Клод покинул цирюльню с двумя или тремя маленькими порезами на шее и одним серьезным доказательством посещения парикмахерской прямо под подбородком. Если бы юноша пришел с извозчиком, тот бы обязательно удержал за это часть платы, однако Клод был один и слишком волновался накануне предстоящей встречи, чтобы протестовать. Он отказался от лосьонов, предложенных брадобреем, но пал жертвой ароматического масла.
Таким Клод предстал перед мадам Хугон в день его совращения. Он шел к ней домой в выглаженной рубашке на плечах, с ароматом лаванды на щеках, одолженным париком на голове и трактатом об онании, прижатым к животу. Служанка – Клод заметил, что ей бритье пошло бы на пользу больше, чем ему, – проводила юношу в гостиную за библиотекой.
Смятенный гость осмотрел комнату, выискивая следы мужского присутствия – трости или, быть может, треуголки. Единственным не женским элементом в комнате была замешкавшаяся служанка, чей гермафродитизм еще больше подчеркивал хрупкость и женственность мадам Хугон. Сопровождаемая шелестом шелков и с нежной улыбкой на лице, хрупкая и женственная, она вошла в комнату. Интерес мадам Хугон будто спал, когда она увидела Клода разительно изменившимся.
– Зачем ты спрятал свое деревенское очарование за этой ужасной одеждой?
Нервный пот пробил Клода и поборол запах дешевого лосьона.
– Вижу, ты принес книгу. Прочитал ли ты ее внимательно?
– Да, прочитал.
– И что ты думаешь о выводах, к которым пришел доктор?
– Полагаю, я могу серьезно заболеть, если не будут предприняты определенные меры.
– Ты прав. Если ты будешь продолжать в том же духе, могут возникнуть серьезные последствия. – Клод не знал, был ли у этих слов скрытый смысл. – Возможно, даже самоубийство.
– Такой приятный способ уйти! – смело заявил юноша.
– Непочтительность только добавит тебе проблем. Ты должен немедленно прекратить распутствовать! Если я смогу, то помогу. Хочешь ли ты этого?
Клод кивнул.
Мадам Хугон выгнала служанку и заперла дверь. Подошла к маленькому шкафчику из тика.
– Я давно знаю автора той книги, что дала тебе. Вижу по твоему выражению лица – ты удивлен. Ты спрашиваешь себя, как я могу быть знакома с таким выдающимся специалистом? Должна тебе сказать, что мой интерес к его работам связан с неудачной попыткой выполнить свои супружеские обязанности. Возможно, ты об этом слышал.
– Только то, что возникли проблемы… э-э-э… с женой мужа.
– Весьма тактично, хотя не соответствует действительности, могу тебя заверить. И заверю, не сомневайся! – Она томно посмотрела на Клода. – Я хочу предаться… как там говорилось в той книге? Ах да, я хочу предаться «определенным греховным настроениям».
Клод промычал:
– Но ваш муж…
– Тебе не нужно волноваться по поводу моего мужа. Он здесь не живет. Дело о нашем браке рассматривается в суде. – Мадам Хугон подошла ближе к шкафчику, открыла его крошечные дверцы и достала стеклянную бутылочку. – Снимай этот ужасный парик и присядь сюда.
Клод садился, пока мадам Хугон выкладывала крем на ладонь. Юноша заглянул в шкафчик, чтобы посмотреть, что еще там есть. Молоко ослицы было самой интересной составляющей. Патронесса ловко засунула руку в штаны Клода. Пока она пробиралась глубже, из его кармана выпала миниатюра. Мадам Хугон рассмеялась и сказала:
– Я могла быть так же близко еще несколько недель назад! Тебе стоило только попросить…
Все остальное произошло в тишине. Рука мадам Хугон произвела движение, сходствующее натиранию. Выдающиеся доктора назвали бы то, что случилось, «стимуляцией семенной жидкости». Клод, однако, сравнил это ощущение с муравьями, ползущими по спине.
Натирания и муравьи не ограничились одним днем. С той пятницы мадам Хугон брала напрокат не только книги. Она брала напрокат самого Клода. Частота и продолжительность его визитов в особняк Хугонов увеличивались до тех пор, пока он не стал проводить больше времени вне магазина, нежели в нем. Это не расстраивало Ливре. Если он и раздражался иногда, его злость быстро проходила благодаря любезным денежным взносам со стороны мадам Хугон – оплате за услуги не менее любезного ученика. Подобной компенсации с лихвой хватало на то, чтобы нанять случайного работника на Гревской площади и оплатить дорогостоящее лечение Ливре у одного врача-шарлатана, недавно приехавшего в Париж (ценителя брюссельской капусты, кстати).
От Клода требовалось лишь проводить «чтения» в особняке в течение всей недели. Когда юноша не был занят этим, приходилось работать в магазине, но так как сделка приносила много денег, его время принадлежало ему самому. Ливре спрятал плетку и даже позволил ученику читать и проводить исследования, начатые уже давно, в течение месяца обретенной свободы.
Клод пытался поговорить о работе с госпожой, однако она, казалось, была заинтересована другими проявлениями его ловкости рук. Когда он сказал, что хочет закончить давний заказ и тем самым доказать свою любовь, она прильнула к нему и ответила: «Ты сам – доказательство, иного мне не нужно». Наблюдая, как Клод неуклюже поедает пирожные с кремом, мадам Хугон говорила: «Просто приходи ко мне, мой маленький крестьянский мальчик. Больше от тебя ничего не требуется».
Такое прозвище раскрывало суть склонностей мадам Хугон. Она хотела, чтобы Клод всячески поддерживал в себе то, что она понимала под «провинциальной непорочностью». Когда патронесса выходила с ним в свет, будь то опера, или чтения, или лекция в лицее на знакомую Клоду тему, она настаивала на том, чтобы юноша не выражался высокопарно. Принять это оказалось нелегко. Но в конце концов, он был влюблен и находился в ее услужении.
Отрицание его интересов осложнялось всплесками щедрости, которые часто казались Клоду попыткой контролировать его действия. Патронесса с радостью оплачивала обеды в кафе Пале-Руаяля или пирожные, однако отказывалась предоставлять средства на инструменты и хорошую одежду. Мадам Хугон видела в поношенном, плохо скроенном одеянии Клода проявление невинности и чистоты сельской местности, простых качеств, присущих, как она думала, лишь людям из маленьких деревушек, совсем непохожих на Париж, на город, где она родилась и откуда никогда не выезжала. У ее подруги мадам де Бово была негритяночка, Аурика, только что привезенная из Сенегала кавалером де Буффле, а мадам Гельветуа, пользующаяся дурной репутацией, играла с экзотическим ангорским котенком. Увы, коротко стриженные девочки и длинношерстные кошки стоили слишком дорого для мадам Хугон, получавшей алименты от мужа, которого заставил платить суд. А Клод вполне подходил. Кроме того, ученик мог доставлять ей такое удовольствие, какого владелицы негритяночек и ангорских кошек, как она полагала, были лишены.
Патронессе и ученику быстро наскучили беседы. Она отказывалась слушать его размышления о механике, а он уставал от ее трюизмов на тему музыки и гипноза. Зато пара с удовольствием изучала богатую и разностороннюю энциклопедию секса. За запертой дверью особняка мадам Хугон эти двое воспроизводили упражнения, заученные ими ранее, за одним исключением: мадам Хугон никогда не снимала полностью одежды. В остальном она была необузданна, любознательна и требовательна, выкрикивая уменьшительно-ласкательные прозвища своего любовника в моменты экстаза. Она компенсировала свою городскую праздность, демонстрируя привязанность к фантазиям скотного двора. Не однажды мадам Хугон просила повторить половые акты злополучных братьев Голэ (Клод иногда рассказывал ей о странных особенностях сексуальной жизни в Турне). После этого патронесса вела его на прогулки по сводчатым галереям Пале-Руаяля, где покупала ему подарки. Клод старался ответить тем же, преподнося букеты из фиалок, хотя Александра оставалась к этому равнодушной. Только после жаркого спора она приняла крошечный медный колокольчик – подарок на память, который будет напоминать ей, как сказал Клод, об их первой встрече в магазине. Мадам Хугон рассмеялась и стыдливо надела его на шею. Позже она всегда звенела им, когда пребывала в особенно пылком настроении.
В оставшееся от звона колокольчика время они отправлялись на прогулку. Мадам Хугон и Клод проходили мимо шахматистов в кафе де Валуа и мимо ораторствующих немцев в кафе де Шартр. [78]78
Огромную лепту в развитие демократического процесса внесло открывшееся в 1781 г. в Пале-Руаяль заведение под названием Cafe de Chartres – Кафе де Шартр.
[Закрыть]Потом они устраивались (чаще да, чем нет) в огромных мягких креслах кафе де Фой. Мадам Хугон больше всего любила это заведение, с его позолотой и тафтой, с мраморными столами, заваленными крошечными хлебцами и пирожными, с фарфоровыми молочниками и кофейниками, с разнообразием засахаренных фруктов и конфет. Наличие повсюду зеркал позволяло ей вести постоянные расследования. Усевшись перед богато украшенным стеклом, она могла наблюдать за Клодом и его реакцией на других посетителей, за реакцией других посетителей на Клода и, что самое важное, за собственной реакцией на их реакции. Хотя юноша и не считал сие заведение скучным, он чувствовал себя гораздо увереннее в темном подвале близлежащего кафе де Каво или, что еще лучше, в необыкновенном «Механическом кафе».
Александра не понимала увлечения Клода, но молча соглашалась на все, лишь бы сделать его счастливым. Он сделал набросок незатейливо украшенного «Механического кафе». Когда кто-нибудь садился за стойку и заказывал, к примеру, лимонад, посреди стола открывалась потайная дверка и на ее месте появлялся стакан с заказанным напитком. Вглядевшись в этот процесс, Клод заметил, что опорная ножка стола была пустой и вела к шумной кухне, где трудились машины и покрытые потом рабочие, достойные гравюры «В плену своих изобретений».
Клод предложил госпоже набросок, но та, как и следовало ожидать, не приняла его. Он пытался представить мадам Хугон друзьям из ремесленных кварталов, однако она только посмеялась над таким предложением. Александра даже не захотела посетить его чудо-чердак. «Я предпочитаю мероприятия», – сказала она.
И поэтому они посещали мероприятия: концерты, выставки, театральные представления. Они посмотрели «Женитьбу Фигаро» – спектакль, не оперу, которой еще только предстояло приехать в Париж, – хотя Клода куда больше интересовали успехи Бомарше как часовщика, работающего под своим настоящим именем – Карон. Через несколько недель после этого, в спальне, Александра впервые назвала своего маленького крестьянского мальчика Ангелочком. Парочке удавалось подавлять недовольство друг другом в течение нескольких месяцев, до тех пор, пока они не посетили сольный концерт певца по имени Ля Флоренц.
Голос певца высоко оценили подкупленные критики, так что зал был уже практически полон, когда парочка, источающая аромат жонкили и пота (результат поспешного представления, данного в особняке мадам Хугон), прибыла на место. Концерт начался вовремя и без всяких эксцессов, поэтому публика, положительно реагируя на мягкое, успокаивающее пение, пришла в глубокий, невежественный восторг.
Клод быстро соскучился и начал искать развлечения. Он потрогал сетку, окружавшую ложу, в которой они с госпожой сидели. Он посмотрел на свечи и пронаблюдал, как воск капает на голову дремлющего зрителя. Пафф! Он мысленно проследил за траекторией, по которой полетит его тело, если он прыгнет с третьего яруса прямо на провод центрального канделябра. Он сочинял истории о самых выдающихся нотаблях, пришедших на концерт. И ни одна из принятых мер не прогнала скуку. Вместо того чтобы наслаждаться сопрано, Клод прислушался к аккомпанементу. Музыкальные инструменты напомнили ему о всевозможных дистиллирующих трубках в лаборатории аббата. Он сделал вывод, что гораздо веселее быть задавленным на улице, нежели слушать какую-то harmonie, [79]79
Гармония (фр.).
[Закрыть]заставляющую инструменты компенсировать отсутствие голоса у певца. И все же в концертном зале голос звучал. Ля Флоренц пищал до тех пор, пока не произошла ошибка, но ошиблось не его сопрано, а музыкант. Случившееся взволновало публику. Нота – вернее, ее жалкое подобие – вылетела из какого-то духового инструмента, произведя неприличный звук, который по своей неприличности сравнился бы с пуком на похоронах. Неуклюжий звук, звук, который трудно забыть, звук, очень похожий на естественную человеческую реакцию.
Слушатели покачали головами и отшатнулись в своих креслах, будто повстречались с бешеной собакой или сборщиком налогов. Клод сделал все наоборот. Он потянулся к оркестровой яме. Чтобы продвинуться как можно дальше, он схватился за морду горгульи, вырезанной из колонны. Для него было важно проследить источник нового и крайне интересного звука. Во время антракта юноша наблюдал, как музыканты ухаживают за своими инструментами. Из валторны выдували слюну, гобой чистили павлиньим пером, платочком и шомполом, делая паузы для того, чтобы смочить язычок. [80]80
У ряда духовых, клавишных музыкальных инструментов и органов – тонкая пластинка, закрепленная с одной стороны и колеблющаяся от струи вдуваемого воздуха, от защипывания или удара.
[Закрыть]Последнее действие, смачивание язычка, производило звук, которого Клод раньше никогда не слышал. Два новых звука за один вечер!!! Для Клода сольный концерт Ля Флоренца обернулся настоящим триумфом.
Антракт закончился, и музыканты, не обремененные пением Ля Флоренца, заиграли серенаду. Это был Моцарт. Они осторожно исполняли произведение, стараясь не допустить появления еще одной фальшивой ноты. Когда музыканты достигли финального рондо, играя его оживленно и весело, Клод достал из кармана клочок бумаги, на которой хотел записать свои наблюдения. Александра остановила его, вырвав из рук карандаш. Он сбился и не смог отметить звуки.
После концерта парочка впервые поссорилась. Клод старался объяснить, насколько важно для него записывать наблюдения, однако Александра не желала слушать.
– Я не ожидала такого от моего Херувимчика.
– Я не твой Херувимчик!!! – сказал Клод.
Он разозлился не из-за упрека в плохих манерах, а из-за того, что на его идеи не обращают внимания. Юноша давно хотел рассказать о своей беде и все-таки, сделав это, изумился.
– Исследования звуков – это единственное, что у меня есть! Остальное, кроме тебя, – добавил Клод, – ничего не стоит.
Александра оценила последнюю фразу. Она почувствовала волнение Клода и постаралась утешить:
– Пойдем отсюда, давай будем вместе проводить исследования, только в интимной обстановке! Я уверена, мы сможем воспроизвести не менее интересные звуки и сами! – Она вытянула из-под платья маленький колокольчик, зажатый между ее грудями, и дважды позвонила.
Они вернулись в ее спальню и разыграли – Клод неохотно, Александра ревностно – историю влюбленной аббатисы. Оба строго придерживались сюжета, за одним упущением: аббатиса сбрасывала свое одеяние, а мадам Хугон – нет. Они занимались любовью три раза в ту ночь, но это была механическая любовь. Не та плавная и изящная механика, каковой Клод ее видел, – их движения скорее походили на тугие фрикции, заставлявшие двигаться его ранние ожившие картинки. После суматошной возни, каждый раз, когда Александра приближалась к высшей точке наслаждения, она начинала бормотать ласкательные прозвища, которые так не нравились Клоду: «Мой маленький крестьянский мальчик, мой Херувимчик!»
Сексуальные контакты всегда проясняли сознание Клода. Минуты после жарких объятий дарили ему необыкновенную ясность и силу мысли, способность поднять вопросы, о которых в остальное время он предпочитал молчать. Поэтому, когда все закончилось, Клод сказал:
– Мне не нравятся прозвища, которыми ты меня называешь.
– Прости, мой маленький.
– Если тебе так уж хочется называть меня уменьшительными именами, я бы предпочел, чтобы они были связаны с механикой или с чем-то еще, касающимся моих интересов.
Успокоенная занятиями любовью, Александра приняла предложение. После этого они заговорили нежно, и Клод старался рассказать ей о своих стремлениях:
– Жаль, что ты так и не услышала моей лекции. После нее ты бы ясно представила все, что мне нравится.
– Ты еще хочешь прочитать эту лекцию?
Клод кивнул.
– Тогда ты ее прочитаешь. Я все улажу с твоим учителем.
33
Немного усилий и крупная сумма денег – вот все, что понадобилось, чтобы дать Клоду возможность проявить себя и рассказать о своих мечтах. Продавец книг справедливо заключил, что, пока любовная связь между патронессой и его учеником угрожает его контролю над Клодом, бросать мадам Хугон вызов – значит, рисковать прибыльным предприятием. Через две недели после обещания Александры все уладить Клод стоял в читальном зале, расставляя инструменты. Он прикатил деревянную «юную леди» в комнату и вложил ей в руки стопку инструкций, горшки с неизвестной жидкостью, кусочки проволоки и стекла, а также механизм с загадочными функциями. На ее остов Клод повесил шарманку, одолженную у уличного музыканта.
Плюмо, как обычно, прибыл раньше остальных гостей и смог употребить не меньше трех стаканов неразбавленного бренди перед тем, как Ливре заказал крепленого вина, «раскрепощенного» водой. Журналист сказал Клоду, что с радостью будет задавать нужные вопросы в нужное время, однако юноша отказался от этой услуги.
Граф Корбрейский, богатый аристократ с непонятными научными воззрениями, прибыл сразу после господина Куртюа, немца и владельца паноптикума. Куртюа все время жаловался. Вот уже в третий раз за месяц один из посетителей проносил раскаленную кочергу и прижигал ею гениталии Людовика XVI.
– Вокруг политики поднялась какая-то суматоха, – сказал немец. – Это не предвещает ничего хорошего для королевства. Плохо, конечно, когда фигуру графа Жана-Батиста д'Эстена протыкают вилкой, но это!.. Это просто ужасно!!!
– Да, политика! – подхватил Плюмо. – Политика везде!
Куртюа продолжал говорить об уязвимости королевы:
– На ее грудь нападали уже дважды! Я вынужден приставить к ней охранника.
Граф, будучи бескорыстным роялистом, выразил крайнее негодование по этому поводу и посочувствовал отчаянному положению владельца паноптикума. Впрочем, его раздражало и кое-что другое. По дороге граф заметил, что одна из его собак прогрызла поля любимой шляпы.
Пьеро незаметно прокрался в магазин за Александрой, которая в этот раз пришла без эскорта. Все собрались, и Ливре призвал собравшихся к порядку. Он произнес равнодушную вступительную речь, которая заканчивалась такими словами: «Этот молодой человек пытает счастья в области, где у него никогда не было учителя. Прошу вас отнестись к нему с добротой, если не с уважением».
Клод встал и начал давно откладываемую лекцию о механическом воспроизведении звука.
– Насколько многим из вас известно, звуки, которые мы воспринимаем, могут быть воспроизведены различными способами. От столкновения, – тут он подошел к Александре и позвонил в колокольчик, висевший на ее шее, – или благодаря прохождению воздуха, – Плюмо издал громкий отвратительный звук, который остался бы неоцененным, если бы его не произвела на свет флейта, – или еще многими другими способами.
После вступительного слова Клод обрисовал в общих чертах свою необычную теорию об акустике, вспоминая Ньютона и Швицерса, Ойлера и Бернулли.
– Я особенно ценю работу Бернулли о согласных звуках и его размышления о клавесине. – Юноша продолжал говорить об уравнениях движения, о «De Motu Vibratotio» [81]81
О колебательном движении (лат.).
[Закрыть]и «Dissertatio Physica de Sono», [82]82
Размышления о физике звука (лат.).
[Закрыть]пока наконец не почувствовал, что публика забеспокоилась.
Он помолчал.
– Все эти работы имеют отношение к исследованию, которое я начал вести очень давно…
– И что же это за исследование? – перебил его Ливре.
– Я смею предполагать, что любой звук можно воспроизвести искусственным путем.
Несколько мгновений гости пытались осмыслить сказанное.
– Любой звук? – Ливре бросал Клоду вызов.
– Да. Я приведу несколько простых примеров. Закройте глаза и представьте себе визг тюленей в королевском саду. – Клод воспроизвел данный звук, потерев мокрым пальцем о стекло, взятое из рук «юной леди». – А теперь мышиный писк. – Он провел по стеклу влажной пробкой. – Или жужжание улья с пчелами. – Он повернул рукоятку шарманки. – Бульканье в горле верблюда. Закройте глаза! – крикнул Клод Александре перед тем, как изобразить звук, переливая жидкость из бутылки.
– А летучую мышь можешь изобразить? – спросил Пьеро. Клод едва подавил улыбку.
– Конечно, могу.
Он повернул деревянные болты трансформированного ручного пресса.
– А лай собаки? – бросил граф.
– Это возможно, да только у меня здесь нет необходимого оборудования.
Граф расстроился.
– А как насчет птицы? – подошла очередь Куртюа подать голос.
– Какой именно?
– Не имеет значения.
– Хорошо. Если вы одолжите мне свои часы. – Куртюа передал ему свой репетир. – Представьте себе ласточку, охотящуюся за насекомыми. Вы услышите ее полет, завершившийся щелчком клюва. – Клод заставил вибрировать тонкую полоску металла и затем захлопнул часы, точно имитируя звук кормления.
Владелец паноптикума нехотя кивнул.
Клод вернулся к своей речи:
– Позвольте, я повторюсь. Если у человека есть слух, терпение и средства, он может инструментировать уханье совы, зов зайчихи в период течки, топот задних лап кролика, рев стада оленей. Только это элементарно. При помощи машин можно извлечь и более сложные звуки.
Ливре кашлянул изо всех сил, и Клод знал, что он это сделает.
– Я могу воспроизвести даже этот звук!
– Что? Кашель? – Ливре хохотнул.
– Да. И не один. Я записал не меньше шестнадцати различных кашлей, из них смог сымитировать девять. Классический кашель может быть легко изображен с помощью драчёвого напильника, если пилить им мокрую сосну. Другие кашли сложнее. Сухой кашель бондаря, мышьяковый – господина Карли-Рубби, – Клод кивнул Пьеро, – и надсадный кашель моего учителя, сопровождающийся присвистом, исходящим из верхних дыхательных путей, и одышкой, – все это требует более замысловатых инструментов.
Клод вновь обратился к жидкостям и трубкам. Через несколько секунд давление в его ручном кашлеимитаторе поднялось, и тот издал сначала тихое бормотание, затем высокое бульканье, щелчок, затем удушливый кашель и наконец знаменитое клокотание Ливре.
– Смысл этого упражнения в том, что механик, обладающий натренированным слухом, может создать богатый репертуар немузыкальных звуков. В Женеве есть мастера, которым удалось воспроизвести пение коноплянки при помощи одних только часов с модифицированным ходом. Как и они, я предпочитаю реальные доказательства, а не пустые размышления и теории. Вот почему надеюсь, что эти грубые инструменты вдохновят вас на изготовление более тонких конструкций.
Кроме Пьеро и Плюмо, все в зале захихикали. Господин Куртюа, может, и заинтересовался бы делом, если бы мог взять шефство над изобретателем. Увы, он не мог. А граф Корбрейский не оказался достаточно умен, чтобы оценить открывшиеся возможности, – для его убеждения потребовалось бы слишком много времени. Ливре, естественно, отнесся ко всему скептически. Оставалась только Александра. И ее реакция огорчила Клода больше всего.
– Я не совсем поняла, что ты тут говорил, но у меня есть вопрос. Зачем тебе понадобилось воспроизводить звуки природы? Разве тебе недостаточно пения самой коноплянки?
Клод не мог предложить достойного ответа на вопрос, так как это угрожало всему его мировоззрению.
Лекция закончилась. Никаких предложений о поддержке не последовало. Александра покинула магазин, как и пришла – одна. Она высмеяла Клода или по меньшей мере не поверила в него. Его музе недостало веры. Клод сдался бы окончательно и бесповоротно, если бы не повстречал в тот вечер одного старика.
Вычистив «Тайны», то есть вытерпев еще одно унижение, которое Ливре с удовольствием присовокупил к провалившейся лекции, Клод покинул «Глобус», пребывая в состоянии всепоглощающей тоски. Он скрылся на своем чердаке, где расстелил по полу тетради. В течение нескольких часов Клод истязал себя рисунками, выполненными в лучшие времена его жизни, пастельными и карандашными изображениями физических недостатков старшей сестры, поместья, чучела на дороге, чудесных механических часов. В его набросках присутствовала жизненная стойкость, которой теперь ему недоставало. Капля пота упала со лба Клода и оставила грязный след на автопортрете.
Чердак угнетал юношу. В поисках спасения он отправился на улицы города. Клод прошел мимо пекаря, несущего корзину с булочками, и мимо фонарщика, тащившего по камням мостовой свой шест. Поворачивать было некуда, и Клод вступил на паперть церкви Святого Севериана. Он сделал это не из внутренней необходимости, а потому, что надеялся найти прохладу в стенах здания. По крайней мере так он себе сказал. Клод помедлил, прежде чем перекреститься. Он не мог исполнять ритуалы, над которыми его учили смеяться. Юноша прошел мимо молодого священника, который выставлял в ряд свечки ценой в пять су каждая. Две женщины, преклонившие колена в нише, перебирали четки и бормотали «Отче наш». Небольшая группка торговцев, как и Клод, нашла здесь спасение от жары. Они тайком играли в карты, сидя в дальней нише.
Клод преклонил колени. Пот, от которого щипало спину, высох. Он закрыл глаза и прислушался. Юноша услышал, как молодой священник скребет щеткой, удаляя воск с каменного пола, услышал траурное бормотание кающихся грешниц, щелканье четок, ритмичное подметание, шорох игральных карт.
Заиграл орган, и все собравшиеся в церкви погрузились в музыку заупокойной мессы. Александра бы сейчас выдала пустое критическое замечание по поводу гармонии, но для Клода музыка была даже не прекрасна, а просто чудесна. Остальные прихожане согласились бы с ним. Выскабливание, подметание, щелканье четок, шелест карт – все затихло. Когда импровизированный концерт закончился, Клод поднялся по спиральной лестнице в комнату, где располагался орган, чтобы выразить свою благодарность исполнителю. Он подошел к занавеске и обнаружил, что торжественные звуки органа сменились пронзительными ругательствами органиста; он жаловался подмастерью – мужчине, кстати, уже преклонного возраста.
– Почини трубы и педали к завтрашнему дню, ты слышишь меня?! – ревел органист.
Старик не мог не слышать. Он почтительно поклонился. Органист заладил дальше:
– Очень важно, чтобы все было сделано к завтрашнему вечеру. Я готовлюсь к сложной импровизации. – Последняя фраза была сказана без намека на юмор. Органист гордо вышел вон, оставив Клода и старика наедине.
– Трудно починить? – спросил юноша.
– Всю ночь придется работать, – ответил старик, тяжело вздыхая. Он все еще не отдышался после нагнетания воздуха.
Клод молчал до тех пор, пока старик не сказал:
– Приглашаю составить мне компанию, если это тебе подходит. – Сказанное прозвучало больше как просьба, нежели как предложение, и Клод согласился. Ему тоже не хотелось оставаться одному.
Дружеское общение скоро переросло в содействие. Клод помогал, чем мог – проверял, пригонял, настраивал. Старик, довольный тем, что к нему относятся серьезно, рассказывал об инструменте, описывая в деталях многочисленные мехи, трубы для прохождения воздуха, буксиры и клавиатуры. Клод делился собственными наблюдениями.
Орган и часы – разве есть на свете более сложные механизмы? И Клод, и старик, оба говорили о тонкостях их любимых предметов и в конце концов после дружеского спора пришли к тому, что лучший Ърган вводит в оцепенение, как и хорошие часы, а лучшие часы звучат подобно органу.
Починка продолжалась, как и предсказывал старик, целую ночь, и все это время Клод слушал, задавал вопросы, помогал и наблюдал. Он говорил об Ойлере, о Бернулли и об уравнении движения, надеясь получить моральную поддержку, в которой ему было отказано после лекции.
Впрочем, старика эти речи не впечатлили.
– Забудь про всех этих новомодных ученых. Тебе лучше послужат хорошие инструменты. Разве не понимаешь, что мало знать, почему пар поднимается от горячего яблочного пирога? От этого ты не станешь кондитером. Тебе нужны умелые руки, хороший рецепт и правильная печь. Вот и все. Что касается звуков, дело тут не в уравнении движения, а в уравнении эмоций, именно они не дают тебе пробраться к источнику красоты.
Эти слова взволновали Клода. Старик говорил как аббат.
Остаток ночи они беседовали о различных регистрах органа. Клод останавливался возле каждого, спрашивая название и технику изготовления. К тому времени, когда все поломки были вычислены и исправлены, юноша окончательно решился создать нечто такое, о чем все вокруг говорили как о невозможном. Он сможет сделать механизм, интригующий и обольщающий людей. Сие творение поднимет его на ступень выше к достижению поставленной аббатом цели – преодолению границ человеческих возможностей.
– Вот в чем была проблема, – сказал старик, указывая на один из регистров. Клод посмотрел на инициалы, вырезанные у основания.
– Что означает V.H.?
– Vox humana, [83]83
Человеческий голос (лат.).
[Закрыть]– ответил старик.
Мягкая улыбка осветила лицо Клода. Он вошел в церковь, сопровождаемый мрачными настроениями реквиема, а покидал ее на высоких нотах благодарственного молебна, божественного гимна высшей похвалы – в то утро юноша наконец прозрел.