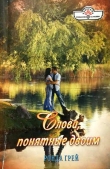Текст книги "Сказка о принце. Книга вторая (СИ)"
Автор книги: Алина Чинючина
Жанр:
Сказочная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц)
А кто бы вывел тогда из леса Вету?
Сколько он лежал так, Патрик не помнил, потом впал в забытье. А потом, кажется, уснул, а может, опять потерял сознание, потому что неожиданно обнаружил себя вовсе не в камере, а в странном, словно знакомом, но давно забытом месте – на серой равнине, где ничто не имело ни цвета, ни запаха, где было тихо, только доносился шум ветра, раскачивающего ветви деревьев где-то высоко-высоко.
Серый наст скрипел под ногами, и Патрик вспомнил, наконец, этот скрип и это серое небо. И обрадовался – значит, на этот раз действительно все…
Кандалов на руках и ногах не было, не было и боли. Тело ощущалось словно издалека, но все-таки ощущалось; никуда не делись ссадины и синяки. Патрик постоял какое-то время, оглядываясь. Потом пожал плечами и пошел вперед. Вперед здесь можно было идти куда угодно, но он двинулся к лесу, до которого не так далеко и было – три сотни шагов.
Волков в этот раз не встретилось: видимо, теперь ему и вправду сюда можно. Довольно скоро (а может, просто времени здесь нет) он вышел на знакомую поляну. И ускорил шаги, увидев сидящих у костра.
Ян услышал его шаги и поднял голову. И улыбнулся:
– Здравствуй.
Патрик заулыбался тоже, ощущая, как трескаются запекшиеся губы, но не чувствуя боли. Теплая волна разлилась в груди: наконец-то!
– Давно не виделись, – буркнул вместо приветствия Джар. – Быстро же ты…
– Что значит «быстро», старый ворчун? – весело спросил Патрик, опускаясь рядом с Яном. – Сюда быстро не хотят, как я понимаю, только в срок.
– А тебе не срок, не радуйся. Посидишь – и мотай обратно.
– Почему «мотай обратно»? – растерялся принц. – Я же…
– Нет, – качнул головой Ян. – Это мы тебя позвали.
Он сбросил с плеч куртку, кинул ее на снег.
– Подстели, а то простудишься.
– Да ладно, не все ли равно, – пожал плечами Патрик, но послушался. Аккуратно расстелил на снегу куртку, пересел на нее. Придвинулся поближе к огню и долго-долго смотрел на Яна. А Ян смотрел на него – и улыбался. И так они сидели и молчали…
Джар аккуратно ломал мелкие веточки и кидал их в костер, насвистывая какую-то мелодию.
– Ты изменился, – сказал вдруг Ян.
– Надо думать… Сильно?
– И да, и нет. Старше стал.
– Надо думать, – повторил Патрик. – А ты… ты-то как тут?
– Ну, если я скажу, что хорошо, – усмехнулся Ян, – ты все равно не поверишь. Но уж всяко лучше, чем ты сейчас. Нормально, бывает и хуже.
– Ян… – Патрик понимал, что говорит глупость, но не смог сдержаться, умоляюще взглянул на него, как когда-то давно: – Ян, вернись! Ты нужен мне!
И так же, как тогда, Ян ответил ласково:
– Ну что ты говоришь… Ты же знаешь, что это невозможно.
Он коснулся плеча Патрика.
– Тяжело?
– Д-да, пожалуй, – после паузы признался принц. – Так, немного…
– Он еще и гордый, – хмыкнул Джар.
– А где Магда? – спохватился Патрик, заоглядывался.
– Здесь где-то ходит, – махнул рукой Ян. – Мы не хотели, чтобы она тебя такого видела…
– А то она меня не видела! – фыркнул принц. – Всякого…
– Такого – нет, – серьезно сказал Ян. – Но не в этом дело, друже. Ты, кстати, не надейся, ты сюда не насовсем.
– А зачем вы звали-то меня? – спохватился Патрик.
– Да, в общем, низачем. Я соскучился, – он быстро взглянул на друга. – Ну и так… в общем, чтоб ты передохнул. Посидишь – и иди обратно.
Патрик невольно вздрогнул.
– Так надо, – едва слышно сказал виконт.
– Ян, – после недолго молчания так же едва слышно попросил Патрик, – возьмите меня к себе совсем.
– И не думай, – спокойно ответил тот. – У тебя на земле еще дел полно.
– Я больше не могу! – вырвалось у Патрика, и он опустил голову, стыдясь своей слабости.
– Можешь. Ты просто устал. Вот посидишь с нами, отдохнешь – и вперед. Тебя там ждут.
– Гайцберг, что ли, ждет? – фыркнул Патрик.
– И он тоже, – без улыбки согласился Ян.
– Сейчас кипяток будет, – сообщил Джар, – отвар сделаем. Попьешь с нами? Тебе бы глинтвейн сейчас, конечно, да вина нет…
Патрик поежился, обхватил ладонями плечи. Потом протянул руки к огню. Вроде и не холодно здесь, но… промозгло. И кажется, единственно живым здесь остался огонь… интересно, они-то чувствуют его теплое дыхание?
– А вы… я всегда смогу приходить к вам… сюда? Я ведь пытался, но…
– Нет, не всегда. Только когда очень нужно.
– Значит, сейчас – нужно?
– Сказано же – рано тебе сюда, – сообщил Джар. – Потому и нужно.
Он ловко снял с огня подвешенный на треноге котелок (голой рукой! не боясь обжечься! ишь ты, отметил Патрик), поднял стоящую на земле кружку, аккуратно налил до половины темный отвар, пахнущий горько и терпко. Протянул принцу:
– Держи. Пей, только осторожно – горячий.
– А вы?
– А нам-то зачем? – фыркнул Джар. – Нам уже поздно, мы отсюда все равно никуда не денемся.
Отчетливый холодок пробежал по коже, Патрик повернулся к Яну.
– Пей, пей, – успокоил тот. – Лучше будет, вот увидишь.
Отвар пах летом и скошенной травой. Принц вспомнил невольно стог сена, в котором они ночевали с Ветой.
– Ян, Джар… скажите мне, Вета… жива?
– Не знаю, – после паузы ответил виконт. – Здесь ее нет.
– Это ничего не значит, – вмешался Джар, – сюда не все попадают. Ее-то, может, сразу уведут, это мы вот тут… торчим…
– Не пугай человека зря, Джар, – мягко остановил его Ян. – Нет ее здесь, это точно. На земле ищи.
Патрик прихлебывал из кружки отвар и молчал. Молчал и Ян, глядя на него. Джар убрал с костровища треногу и поднялся.
– Пойду я… поброжу. А ты учти, виконт, что время кончается. Скоро ему пора.
– Я помню, – тихо ответил Ян.
Небо над головой оставалось все таким же серым, но воздух чуть-чуть потемнел. Вечер, что ли?
– У вас бывает ночь? – спросил Патрик.
– Нет. И дня не бывает.
– Здесь всегда так… серо?
– Всегда.
– А вы… что вы делаете тут?
– Не надо, Патрик, – попросил Ян. – Когда попадешь к нам насовсем, сам все узнаешь. Мне тоже… не очень хочется рассказывать об этом лишний раз. Да и нельзя.
– Прости.
Они снова замолчали.
Где-то вдалеке послышался волчий вой – сначала одиночный, потом подхватили другие, словно вся стая подняла кого-то и гонит к лесу. Патрик отставил в сторону пустую кружку, потянулся… Хорошо как. Нет кандалов на руках и ногах, утихла боль – да за одно это он готов был остаться здесь навсегда.
– Ты молодец, – тихо сказал ему Ян. – Ты правда молодец.
– Ты думаешь, я прав в том, что делаю?
– Прав ли ты, поймут только те, кто будет жить после нас. Но ты делаешь – и это главное. Ты… делай за себя и за меня, ладно?
– Я постараюсь.
– А боли не бойся. Она, в конце концов, конечна и всего только боль. Поверь, это не самое страшное… и даже смерть – тоже не очень страшно.
– Я знаю. Теперь я это точно знаю.
– Да… – Ян осторожно провел пальцами по дырам на рубашке принца. – Но тебе пора.
– Уже? Ян, но я… можно, я останусь здесь еще ненадолго?
– Нет, Патрик, – очень серьезно проговорил Ян, вставая. – Иначе ты останешься здесь совсем.
– Не самый худший вариант, – усмехнулся принц и тоже встал.
– Рано. Иди, прошу. Ты должен.
Пару секунд они смотрели друг на друга.
– Прощай, – тихо сказал Патрик.
– Нет, – поправил Ян, – до свидания.
…Клочок неба, видный сквозь решетку окна, посветлел. Утро? Сколько времени прошло? Патрик приподнял голову. Снаружи было тихо, где-то в углу царапалась и пищала крыса. Он пошевелил руками – послышался звон цепей. Значит, все-таки жив. Значит, это был только сон. Принц прислушался к себе и понял, что боль почти утихла. Слегка ныли плечи, но лихорадка отступила, ясной стала голова, и, кажется, сил прибавилось. Очень хотелось есть. Он приподнял руки (они слушались), поднес к глазам, сдвинул браслет ближе к кисти. В неярком белесом свете ему показалось, что ссадины, оставленные на запястьях кандалами, выглядели не так страшно. Значит, и остальные – тоже?
Сон или явь?
Патрик улыбнулся. Осторожно повернулся на бок, закрыл глаза. Сон пришел – настоящий, крепкий, и снилось ему летнее поле и лес, и солнце – такое, каким было оно давным-давно, еще в детстве.
До вечера его не трогали. Когда сменилась стража, принесли еду: тарелку с кашей и ломоть хлеба, кувшин воды. Каша оказалась неожиданно вкусной и почти горячей, и Патрик съел все до крошки, и хлеб сжевал с жадностью, стараясь есть медленно и тщательно. Воду не стоит выпивать сразу, лучше растянуть на всю ночь. Видно, он вправду пока еще нужен живым.
Он дожевывал последний кусок, когда в коридоре снова раздались шаги и заскрипела, открываясь, дверь. Патрик неловко дернулся, обернулся к двери.
И хмыкнул. В неверном и тусклом свете свечи он разглядел вошедшего и двоих солдат, вытянувшихся в струнку. Неторопливо проглотил остаток хлеба и снова улегся на топчан, не обращая на гостя никакого внимания.
– Мог бы и встать, – сухо заметил король, проходя. Махнул солдатам рукой, те мгновенно испарились. Дверь снова душераздирающе заскрипела.
– С чего это? – Патрик лениво потянулся.
– Я все-таки король.
– Дерьмо ты, а не король, – равнодушно сообщил принц.
– Да? – Гайцберг приподнял бровь. – А ты – весь в белом?
Патрик проигнорировал этот вопрос. Он лежал, кое-как повернувшись на бок, и смотрел в потолок.
– Ну, я, собственно, не за тем пришел, – король придвинул тяжелый табурет и сел. Огляделся, зачем-то потрогал свечу. – Я хочу с тобой поговорить…
– А я – нет. Тебя это не смущает? Ах да, тебе же не привыкать.
– Патрик, – Гайцберг помолчал. – Скажи, чего ты добиваешься своим упрямством?
Принц приподнялся на локте, с интересом посмотрел на него.
– Ты до сих пор не понял, Гайцберг? – он захохотал и снова лег. – Уничтожить тебя. Это же так просто.
– Ну, пока что куда вероятнее другой исход. Ты недолго продержишься, Патрик. Ты все быстрее теряешь сознание, все дольше лежишь после допросов. Объясни мне, к чему такое упорство? Я все равно сломаю тебя.
– Удачи в помыслах.
Несколько мгновений король молчал, барабаня пальцами по грязному столу.
– Я согласен пойти на небольшие уступки. Мне надоела эта бессмысленная война, отнимающая время. Подпиши отречение – и можешь убираться на все четыре стороны. Твоих сторонников я вычислю сам, это не так сложно. Тебя устраивает такой вариант?
Патрик покачал головой, перевел взгляд на трещину в потолке.
– Патрик, зачем? Чего ради ты так стараешься? Зачем тебе эта власть, ты все равно лишен ее. По праву наследства трон перешел к Августу, а от него – ко мне. Отец и двор отреклись от тебя, ты не имеешь прав на корону.
– Имею, Гайцберг. Имею. Даже не по праву наследства – по праву крови. И это ты сломать не сможешь никогда.
Король задумчиво смотрел на него.
– Послушай, Патрик, – медленно и чуть недоуменно спросил он, – неужели ты совсем не боишься боли?
Патрик с интересом перевел взгляд на герцога.
– Это в рамках допроса? – поинтересовался он лениво, закинув руки за голову.
Король прошелся по комнате, остановился рядом с топчаном.
– Не сочти притворством, но мне действительно интересно. Ты ведешь себя так, словно тебе все равно. До тебя в руках Мартина побывало много таких, кто считал себя героями – но все они ломались очень быстро. – Он хмыкнул: – Насколько все-таки эффективна простая, добрая боль, тем более в сочетании со страхом. Все мы – только люди, и как все люди, зависимы от тела и его ощущений. И неважно, король ты или простой смертный. Твой отец, умирая, стонал от боли, как последний бедняк. А ты… ты ведь даже не пытаешься притворяться, что ничего не чувствуешь – и все равно молчишь. Почему? Ты не боишься боли и смерти?
Патрик коротко усмехнулся, потер запястья под кандалами.
– Еще как боюсь, – искренне ответил он. – Но знаешь, Гайцберг, есть вещи поважнее этого. И когда у тебя не остается ничего, кроме них, ты перестаешь бояться.
– Вот как. И что же это за вещи?
– Тебе не понять.
– Да? А ты все-таки объясни, я попытаюсь.
Патрик покачал головой.
– Если за столько лет такой, – он выделил слово, – работы ты ничего не понял, то не поймешь никогда.
– Но ведь есть же и у тебя слабина? – почти крикнул король. – Есть? Чего-то же ты боишься в этом мире?
– Есть, – подумав, ответил Патрик. – Ищи. Найдешь – все твое будет…
– Смерть, очевидно, не из их числа, – полувопросительно произнес Гайцберг.
– Не-а, – по-мальчишески улыбнулся Патрик.
– Все живые боятся смерти…
– Не все, Гайцберг. Не все. Ян Дейк не боялся. Не боялась женщина, которую ты не знаешь. Не боялся мой отец. Тебе не понять.
– Нет, отчего же, я понимаю… – подумав, отозвался Густав. – Один человек уже говорил мне это… когда-то давно. Ладно, пусть умирать тебе не страшно. А умирать, зная, что все напрасно? Зная, что то, что ты делаешь, не принесет результата? Этого ты не боишься?
– Боюсь, – подумав, признался Патрик. – Но я надеюсь, что так не будет.
– Да? А я вот другого мнения. Ты сдохнешь здесь, не вернув себе трон. Твои сообщники рано или поздно будут раскрыты. Тебя будут считать беглым каторжником, в истории ты останешься как отцеубийца. К чему такое упрямство?
– Все равно ты ничего не понял, – вздохнул принц. Лег поудобнее, закрыл глаза. – Понимаешь, Гайцберг, бывают моменты, когда приходится идти до конца – даже если кажется, что все потеряно. Не надеясь ни на что. Просто потому, что иначе – нельзя, невозможно. И идешь. Потому что по-другому не можешь.
Густав помолчал.
– Мысль твоя мне ясна, но… Ладно, это, в конце концов, твоя жизнь, а не моя, даже если ты ломаешь ее своими руками. Но тебя хватит ненадолго, Патрик. Подумай. У тебя есть время до завтрашнего вечера; я жду только отречения.
Патрик улыбнулся.
Несколько мгновений король смотрел на него испытующе и внимательно. Потом пожал плечами и вышел из камеры.
Патрик вцепился зубами в костяшки пальцев и застонал. Он выдержит? Еще бы сам он был в этом так уверен!
* * *
Холера пришла в Ружскую провинцию еще весной, едва просохли дороги и установился конный путь. Пришла с юга, с границы, откуда с возобновлением военных действий снова потекла река беженцев. Первыми заболели, как водится, бедняки, но в этот раз болезнь не пощадила и поместья богачей, и даже принятые наместником меры оказались недостаточными. А запереть провинцию в карантине, выставив военный заслон, теперь, на третий год войны, не было возможности – в войсках внутреннего охранения служили зеленые мальчишки и старики, да и тех не хватало. Спасибо и на том, что удалось закрыть дорогу для беженцев, которые теперь искали пристанища в Леренуа или на юге Приморья.
Раннее тепло, суматоха и забитые людьми дороги быстро принесли заразу в Руж. Лечебница Староружского монастыря уже к концу марта была забита больными, а скольких еще монахини пользовали в деревнях, уезжая туда с благословения настоятельницы. Работали на износ; деревенские дурачки кричали на папертях, что холера эта – наказание Господне за то, что… впрочем, версии расходились в разных деревнях, и выслушивать их очень быстро стало некогда: больным было не до того, а еще не заболевшие либо ухаживали за больными, либо пытались уехать, а там уж – кому как повезет. Но почта в Ружскую теперь не приходила, и из самой провинции написать стало практически невозможно: даже королевские гонцы обходили зараженные города стороной.
Изабель молилась теперь только об одном: пусть Патрик останется на месте, где бы он ни был, не приезжает сюда, ни за что не приезжает сюда. Зная брата, она не сомневалась, что он сходит с ума от тревоги за нее, но уже несколько месяцев от него не было вестей, и каждое утро она просила Бога: «Пусть он не приедет!» – и каждый вечер вздыхала облегченно: не приехал, жив, убережется, какое счастье!
За эти полтора года они так и не увиделись, но раз в несколько месяцев ей приходили от принца вести: запыленный, пропахший лошадиным потом гонец – всегда в штатском, всегда ночью, в самой дальней келье – говорил что-то вроде «Господин Людвиг ван Эйрек просил кланяться и справиться о вашем здоровье». И каждый раз она отвечала:
– Передайте господину ван Эйреку, что я здорова и молюсь за него.
Мать-настоятельница, пряча маленький, но увесистый мешочек, звенящий монетами, кивала благосклонно, и человек исчезал за дверью – словно и не было его, словно приснился, и только стук копыт за окнами говорил, что это не сон, что брат ее жив и на свободе, а значит, жива и надежда – на то, что когда-нибудь она вернется домой.
Впрочем, жилось Изабель не так уж плохо. Мать-настоятельница перестала заговаривать с ней о постриге, а сама принцесса старалась об этом не думать. Стирала, мыла полы, помогала в трапезной, полола грядки в огороде, вечерами шила или вязала – и уже совсем далеким и неземным казалось время, когда носила она красивые платья, когда на руках не было мозолей и пальцы были не жесткими и черными от въевшейся земли, а мягкими и нежными… подумать только. Впрочем, что за беда! Главное, что Патрик жив. Изабель улыбалась и каждое утро благодарила Бога за это, а грубая одежда и мозоли – это ли главное в жизни? Вечерами, глядя на закатное небо, она чувствовала странное успокоение. Хотелось взлететь туда, в небо, или убежать из монастыря, уехать, умчаться вскачь в мужской одежде и верхом, а дальше будь что будет… что-то неясное манило за собой, гнало прочь сон, томило обещанием неведомого и странного. Потихоньку уходили из памяти, стирались воспоминания о страшном гнете последних месяцев жизни во дворце, все чаще принцесса замечала, как поют на рассвете птицы, а однажды и сама запела – тихонько, вполголоса, перебирая крупу, не замечая удивленных взглядов работавших с нею сестер.
А потом не стало времени не то что на воспоминания и вздохи, а даже и на вечернюю молитву перестало хватать сил. В холерные бараки принцессу не пускали, но работы хватало и в самом монастыре. Монахини работали на износ, ухаживая за больными, привозимыми со всех концов провинции; а ведь были еще и воспаления легких, и дети болели не реже, и бабы меньше рожать не стали. Мать-настоятельница до поздней ночи, даже когда весь монастырь, кроме дежуривших в бараках, погружался в сон, оставалась на ногах. Всегда аккуратно одетая, спокойная, немногословная, она казалась порой Изабель капитаном на корабле – точно в тех детских сказках, которые когда-то рассказывал ей отец. Все подчинялись ее коротким приказам, и ни разу не бывало так, чтобы мать Елена не знала, что делать или как лечить. Если же все усилия сестер оказывались тщетны, она осеняла себя крестом и так же негромко приказывала готовить могилу. Хоронили умерших – тех, у кого не было родных – на монастырском кладбище.
Не было ни суеты, ни суматохи, сестры работали, сменяя друг друга, молча, быстро и аккуратно. Мать Елена строго следила за чистотой трапезной и келий, за очередностью смен в больничных бараках, за тем, чтобы огород был засажен вовремя, и так же строго – чтобы спали и ели дважды в сутки все сестры, невзирая на занятость и чин. Порой приходилось ей за руку уводить и укладывать спать тех, кто в лихорадке работы не замечал усталости. Шел Великий пост, но тем, кто ухаживал за больными, было сделано послабление в еде. Иные молодые монахини, не чувствуя от усталости даже голода, отодвигали чашки или пытались спорить – и получали строгое внушение: не дело пререкаться в святые дни, послушание превыше поста и молитвы.
В эти дни впервые поняла Изабель, что единственное, что позволяет человеку оставаться самим собой, – это смех. Смех – все, что остается, когда потеряно остальное. Вечерами в трапезной сестры, едва не падая от усталости, смеялись, вспоминая происшедшее за день, – и она видела, как переставали дрожать их руки, как таяла в глазах смертельная усталость. Смеялись то сами над собой, над своей неловкостью, неуклюжестью, нерасторопностью, то над больными – и этот смех не был кощунственным, он был исцеляющим. Изабель знала, что смеялись и умирающие в бараках, и это помогало им переносить боль и смиряться с мыслями о смерти. Смеялась и мать-настоятельница, когда ужинала с ними, и эти недолгие минуты, казалось Изабель, роднили монахинь больше, чем могла бы сроднить молитва. Они ничем не могли помочь друг другу – только смехом. И отступало отчаяние, удушающее чувство собственного бессилия, осознание того, что люди умирают, а они ничем, ничем не могут им помочь – разве что облегчить переход на тот свет. Наверное, думала Изабель, бывают дни, когда Господь слишком занят, чтобы услышать молитву, и тогда людям остается одно – смех. И она смеялась вместе с сестрами, и чувствовала, как утихает тоска и тревога за брата.
К концу весны болезнь пошла на убыль – может быть, благодаря усилиям людей, а может, оттого, что косить ей больше было некого, все, кому суждено было умереть, умерли, а остальные худо-бедно пошли на поправку. Однако карантин не снимали, и хотя самые срочные королевские донесения уже стали доставлять, почтари еще не отваживались заворачивать в Ружскую.
Все эти месяцы из-за отсутствия новостей в провинции гуляли самые разные слухи. Говорили, что еще немного – и война будет проиграна. Говорили, что еще чуть-чуть – и война будет выиграна. Что холера дошла уже до столицы, и король при смерти, а правят страной от его имени министры. Что холеру наслали лесные люди, чтобы уморить короля. Что бывший принц, который сосланный, жив и скоро взойдет на престол. Что бывший принц был жив, но совсем недавно умер от холеры (Изабель вздрагивала, слушая это), и находились даже свидетели, у которых «моей бабы сестры деверь при том был и слышал последнюю волю принца, а воля та – чтоб народу жилось лучше и спокойнее». О принце, правда, болтали украдкой и втихомолку, не по трактирам, теперь закрытым, а втихомолку и «только тебе, а ты смотри никому». Власти не совались в зараженный Руж, но своя, местная, полиция хватала, невзирая на болезнь, и уж болтунам, говорили, мало-то не казалось. Шептались и монахини, теперь им стало полегче, но не все – в основном, молодые.
Однажды ночью Изабель не спалось. Ныли руки и ноги, горели ладони, натертые черенком лопаты – весь день они окучивали картошку, но сон упрямо не шел. Уже совсем стемнело, уже стих монастырь и, кажется, даже в окне матери Елены погас свет, а она все ворочалась, то сворачиваясь клубком, то открывая глаза и глядя в темноту. Душно было, жарко; в конце концов, Изабель отворила окно, но духота не спадала. Со двора тянуло запахом пышно распустившейся сирени, жасмина и еще каких-то цветов.
Наверное, от духоты ей и приснился потом этот сон. Патрик – не похожий на себя, худой и почерневший – в их бараке; он метался по постели и бредил, а она держала его за руку и никак не могла разбудить, ему снилось что-то страшное. Рука была горячей, и жить ему оставалось совсем немного. Изабель изо всех сил пыталась перелить в него хоть капельку своих сил, но все было напрасно – брат уходил, а она не могла удержать его здесь. А за спиной слышался издевательский смех, и смех этот был знаком ей слишком хорошо. И даже когда она проснулась и с криком села на постели, смех все еще звучал, затухая, и понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что кругом тихо, а то был всего лишь сон.
Случилась беда, поняла принцесса – так же четко, как то, что она нужна Патрику. Первым ее порывом было броситься в ноги матери Елене и упросить отпустить ее в столицу, но ледяная колодезная вода охладила горящее лицо и привела в порядок мысли. Кто ее отпустит, в самом деле, и далеко она уйдет – до первого кордона? Ей ничего не остается, кроме как ждать. И ждать она может очень долго, потому что вряд ли кто-то приедет и расскажет ей, что случилось.
Целую неделю она ждала, пугаясь каждого стука в ворота, ворочаясь по ночам без сна, и молилась как никогда горячо, и тайком ставила свечи за здоровье Патрика. А потом была ночь на исходе второй недели, когда ее вызвала к себе мать Елена. Когда она вошла в маленькую комнату для свиданий, высокий человек в штатском поднялся навстречу ей, и, глядя в холодные его глаза, Изабель уже знала, что это стоит ее судьба.
* * *
Господин Кристофер ван Эйрек, ректор, шел по коридору Университета и задумчиво посматривал по сторонам, щурился от света, проникавшего в узкие, высокие, прорезанные в толще стен окна, временами вздыхал. Большая перемена, гляди, чтоб не стоптали. В плотном потоке, который заполнял коридоры большого здания и плыл в обе стороны, ректор то и дело кланялся, кивал, отвечал на приветствия студентов и преподавателей, но почти не замечал лиц тех, кто здоровался и улыбался ему навстречу. Мысленно он был уже там, на лекции, которую ему предстояло сейчас читать.
Улыбались навстречу многие, но многие и хмурились. Господин ван Эйрек состоял на должности ректора уже десять лет, но ни разу еще не слышал за своей спиной сказанное шепотом, вполголоса, а то и вслух слов «прогнулся, боится». А именно это услышал он вчера, проходя вечером по коридору мимо группки студентов. Первый и второй курс, хоть и старший факультет, но все равно совсем еще дети… да, он понимал: молодость горяча. Все, что делал ректор ван Эйрек последние полтора года, имело целью лишь одно: спасти Университет. Университет, который он любил всей душой и который, кажется, уже стоял на грани закрытия. Почему? О, Его Величество, если даст себе труд, убедит кого угодно, и ректора тоже. Студенты во все времена освобождались от военной службы, а сейчас страна как никогда нуждалась в солдатах – это раз. Слишком вольные высказывания позволяют себе некоторые преподаватели – это два (ну да, а попробуйте не высказываться вольно, если собеседник твой мало того что несет откровенную чушь, так еще и облечен властью; господин ректор сам старался такого себе не позволять, но преподавателей понимал). И студенты его были на грани бунта – это три. И кто, скажите, будет терпеть этот рассадник вольнодумства в центре Леррена?
И ректор задвинул свою гордость подальше. Он писал прошения в полицию, заверял следствие в исключительной благонадежности тех, кого арестовывали «по первым двум пунктам: преступления против короля и короны». Напоминал в тысячный раз о «внутреннем праве», по которому судить студентов должна была не городская Управа, а суд Университета. Бывало, совал и взятки. Умолял преподавателей быть осторожнее, не болтать что попало даже в дружеских компаниях, а одного из профессоров предупредил однажды: еще одно такое высказывание – и Университет обойдется без него, профессора. Мало ли что вам не нравится, мне вот тоже… много что не по душе, но я же не кричу об этом на заседаниях Ученого Совета, правда? Наказывал студентов, замеченных полицией в кабаках после полуночи. Ван Эйреку самому было противно от того, что он делал, но он знал: если это нужно будет Университету, он пойдет на что угодно.
А что вы хотели? Короли рано или поздно меняются (здесь Кристофер настороженно оглядывался, даже если был один), а Университет остается. И если сейчас его не станет, то… в общем, восстановить разрушенное гораздо сложнее, чем сохранить построенное. Дай Боже здоровья и удачи его новоявленному родственнику Людвигу, но пока на троне Густав… в общем, нужно продержаться.
Кристофер отдыхал душой только на занятиях. Забыть про дрязги, проблемы, заботы, уйти с головой в Науку, увидеть горящие интересом молодые лица, с кем-то поспорить – не боясь, не оглядываясь, как прежде, потому что в научных спорах те, кому положено доносить, мало что поймут. Объяснять – и видеть, как вспыхивает в глазах искра понимания. Отвечать на вопросы – и знать, что его ответы пойдут дальше, над ними будут думать, а завтра спросят что-нибудь еще. О, так бывало нечасто, не во всех группах, но ведь бывало! Да, часть из них, закончив Университет, пойдет торговать рыбой, часть повесит диплом на стену и забудет о нем, но… есть и такие, кто пойдут дальше. Их мало, но иногда ректор чувствовал, что только ради них и стоит работать. В конце концов, короли не вечны.
А они, молодые, осуждали его. За осторожность, которая кажется трусостью. Кристофер грустно усмехнулся. И это они еще не знают, как выкручивается и лжет господин ректор на приемах у господина министра внутренних дел, или в бумагах, которые он заполняет для следствия, или в отделении полиции, где в очередной раз отвечает на надоевшее «что вы можете сообщить нам об этих студентах?» Ему и самому противно, но что же делать-то? Лучше пусть так, чем завтра кого-то отправят на каторгу или в действующую армию.
Не за всех, конечно, он так бился. Но по странному стечению обстоятельств чаще всего попадали в неприятности те, кто был талантлив или хотя бы просто способен. Порой ван Эйреку хотелось материться: ну что вас тянет-то туда, мальчишки, почему же вы тратите силы не на то, что у вас получается лучше всего? Ну занимайтесь вы наукой и не лезьте в политику, ведь это не ваше дело, дети должны учиться! А они – лезли. И смеялись ему в лицо в ответ на уговоры и упреки.
Гоподин ректор споткнулся на ступеньке и понял, что почти пришел. За три десятка лет, проведенных в Университете, он и с закрытыми глазами, и с самого жуткого похмелья, и пьяный, и трезвый, и здоровый, и больной нашел бы дорогу в любую точку большого, величественного здания на площади Акаций, в котором даже летом стояла прохлада. Ему оставалось подняться по этой маленькой лестнице и повернуть направо, к аудитории, из которой доносились уже голоса.
Четвертый курс, медицинский факультет. Ван Эйрек любил эту группу больше других, даром, что сам – математик, а группа – будущие медики. Мальчишки попались, как на подбор, любопытные и умеющие спорить. Из них всех только усатый Клод Колье был заметно старше остальных, уже за тридцать; остальные – молодежь, азартная, но еще беззаботная. Однако сегодня группа казалась странно притихшей – словно несчастье какое свалилось, брат у кого-то умер или еще что…
Солнце чертило тонкими лучами по столам и крышке кафедры, в распахнутые окна долетали крики торговок с рынка.
– Что это вы сегодня такие притихшие? – поздоровавшись, ректор кинул стопку свитков на кафедру и обвел взглядом своих подопечных. И удивился: – А где, позвольте спросить, Жданич и Рецци? Лекция основная, я просил всех присутствовать. И вчера их не было… что, каникулы решили объявить до срока?
По рядам пронесся шепот. Из-за первой парты у окна поднялся высокий рыжий студент по прозвищу Лихой – за привычку лихо свистеть, гоняя голубей с крыш. Свист его знал весь Университет.
– Они арестованы, господин ректор.
Ван Эйрек помрачнел. Слишком часто за последние месяцы приходилось ему слышать эти короткие два слова.
– За что? – поинтересовался он для порядка, даже не ожидая ответа.
– Там не сообщают, – угрюмо ответил рыжий.
– Говорят, дело политическое, – негромко сказал сосед Лихого – чернявый плотный Павич. Лихой ткнул его локтем в бок.