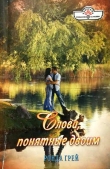Текст книги "Сказка о принце. Книга вторая (СИ)"
Автор книги: Алина Чинючина
Жанр:
Сказочная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
Нет, конечно, она любила рассматривать, что получилось у других. Особенно нравились ей вышивки Анны Лувье – вот кто мастерица! Ее панно «Море на закате» даже Ее Величество в подарок попросила и изволила одарить милостивой улыбкой, и даже немного золотой нити в дар преподнесла – с расчетом на следующее творение (которое так и осталось незаконченным). А покров, который в исполнение обета преподнесла в собор святого Себастьяна мадам Жевалли! На алом бархате – вышивка версанским жемчугом и двадцатью оттенками бежевого и коричневого шелка: Мадонна с Младенцем. А изящные диванные подушки-думочки, которые делала мама… Нет, Вета никогда не обольщалась относительно собственного таланта.
Но… то ли нужда заставит – соловьем запоешь, то ли заказчики у нее оказались попроще, и их устраивало. Пошло дело. Не так уж много свободного времени оставалось у Веты, да и Ян, чем бы ни был занят, увидев, что мать взялась за рукоделие, сразу бросал игрушки и крутился возле, так и норовил потянуть нитки в рот. Но плохо ли, хорошо ли, а развлечение стало теперь заработком. Вета вышивала еще довольно медленно, но аккуратно и втихомолку вздыхала, вспоминая дорогие шелка и бисер, которые едва ли не обязательными считались для каждой уважающей себя дамы-рукодельницы. Но покупатели не были особенно разборчивыми, и ее полотенца, а потом и скатерти стали подспорьем для маленькой семьи. Рукоделие Веты брали сначала соседи и знакомые бабки, потом на рынке Катарину стали узнавать и спрашивать, нет ли чего новенького. Видно, очень красивыми казались горожанам вроде бы нехитрые ее цветы. Просили свадебные рушники (узоры подсказывала Вете Катарина), хвалили и раскупали кукол, вышитых по примеру игрушечного клоуна Яна. Вета просиживала над работой вечера до глубокой ночи, и только ругань Катарины («глаза портишь да лучину зря жжешь, проживем мы и без твоей работы, а ну ложись сейчас же!») заставляли ее свернуть полотно и лечь, наконец, спать.
Платили, конечно, не всегда деньгами. Вернее, чаще совсем не деньгами. Дровами, яйцами, полотном, молоком для малыша. Лишних монет у тех, кто жил рядом, не было. Вета, не привыкшая к нужде, долго вспоминала, как десять золотых – что там, одно ее платье когда-то стоило больше! – они собирали всей улицей.
… Кончался ноябрь, Яну минуло полтора года, и то серое дождливое утро ничем не отличалось от прочих.
– А кто у нас маленький? А кто у нас вкусный? А кого я сейчас съем? Съем и косточек не оставлю!
Ян визжал, уворачиваясь от матери, носился из кухни в горницу и хохотал взахлеб. Вета нарочито неторопливо косолапила за малышом, протягивая скрюченные руки.
– Я медведь-медведь, я мальчика схвачу-проглочу! А-ам! – она схватила сына на руки и принялась целовать маленькие щечки и нос, смеясь и подкидывая малыша. – Ой, как вкусно!
– А ну, тихо вы, эй! – прикрикнула Катарина, выглядывая в окно. – Идет, что ли, кто-то? Дождь, ничего не разобрать! Неужто Митка?
Дождь моросил уже несколько дней, холодный, тоскливый, и ветер завывал – так, что Ян по вечерам боялся засыпать – «А вдруг там страшный зверь воет и меня утащит?». Вета, просыпаясь ночью, прислушивалась к стуку капель за окном и тихонько вздыхала. Слава Богу, у них есть теплый дом и печка, а каково в преддверии зимы бродягам без крова? Походи-ка под дождем, помеси грязь на раскисших дорогах. Она молча молилась о тех, кто сейчас далеко, о друзьях, разбросанных по стране. Маргарита… и Анна Лувье – худенькая, слабенькая. Как они выдерживают суровые восточные зимы?
Ян затеребил мать:
– Мама, исе! Исе мидедь!
– Погоди, малыш, – Вета тоже услышала шаги на крыльце и стук в дверь. – Подожди, сейчас…
В избу ввалилась, облепленная мокрой одеждой, Мита – соседка, через три дома живет. Ввалилась, прислонилась к косяку, точно ноги не держали, сдернула с головы платок. Сразу запахло дождем, землей, мокрым деревом.
– Бог в помощь, хозяева, – выговорила устало. Тихо вздохнула, снимая сабо, шагнула босыми ногами к печке.
– Ой, а мокрая ты! – всплеснула руками Катарина, возившаяся у печки. – Надо же, как льет… Иди-ка грейся. Ну, что? – она взглянула на соседку. – Как?
Вчера вечером бабка вернулась от колодца мрачная; поставила на лавку у двери полные ведра – и выразилась, да так завернула, как Вета никогда еще от нее не слышала. Хорошо, Ян спал. Девушка удивленно взглянула на Катарину; та перехватила взгляд, перекрестилась («Прости, Господи, грехи наши тяжкие») и пояснила мрачно:
– На жизнь нашу ругаюсь. Не жизнь, а… – от последнего слова Веты вспыхнули уши.
– Что случилось?
– Бабы сейчас рассказали... Этьена нашего, кузнеца, нынче забрали. Пошел утром в кузню, а как назад возвращался – там на улице драка была. Пьяные, что ли… прицепились к нему. Ну, Этьен отмахиваться стал, а тут – полиция. Забрали всех, конечно. Митка в город кинулась… вот, не знаю теперь – вЫходит что или без толку. Да без толку, конечно, что там... Если забрали – назад не жди. Этот дурень еще, говорят, и ругался, когда его забирали… короля, что ли, лаял. А у Митки семеро по лавкам и мать старая, уже не встает. С сумой пойдет баба…
– Что так сразу с сумой-то? – возразила Вета. – Если не виноват Этьен – отпустят.
– Сейчас тебе, отпустят, – вздохнула Катарина. – Ладно, подождем. Может, и выгорит дело…
Одного взгляда на Миту было достаточно, чтобы понять: не выгорело. Глаза у нее ввалились, волосы выбивались из-под платка, лицо было потухшим и каким-то отрешенным.
– Бабусь… – голос Миты звучал глухо и монотонно, – я просить пришла… денег не займешь?
– Расскажи, – попросила Катарина. Вытерла руки, села рядом, обняла соседку за плечи. – Расскажи, что узнала?
– Я там нашла одного… говорит, если заплачу ему, то сделает так, что Этьен не зачинщик, а только участник, и про ругань его… ну, про короля которая… говорит: забудем, из дела вычеркнем. Вот… теперь собираю. Все, что было у нас, выгребла, серьги свои с утра заложила, у матери кольцо взяла. Хожу теперь по соседям. Катарина, – Мита вдруг упала на колени, – Христом-Богом прошу, выручи! Хоть сколько-нибудь! Ведь если засудят его, мы же по миру пойдем!
– Да что ты передо мной бухаешься, ровно перед иконой! – рассердилась бабка. – Встань сейчас же! Не отказываю ведь. Обожди, у меня сколько-то отложено.
Она ушла в горницу, заскрипела крышкой сундука.
Ян озадаченно смотрел на бабку и чужую тетку, вертел головой. Вынул палец изо рта, притопал к Мите, осторожно погладил ее, так и сидящую на полу, по плечам. Женщина горько улыбнулась ему.
– Маленький…
– Сколько надо-то? – крикнула Катарина из горницы.
– Много, бабусь. Десять золотых просят.
– Эх, грехи наши тяжкие…
Вета нерешительно кашлянула.
– Так подождите… зачем же сразу взятку? Ведь если он не виноват, надо же… доказывать. Жалобу писать.
Мита и вышедшая из горницы Катарина посмотрели на нее, как на сумасшедшую.
– Жалобу? – переспросила Мита, словно не расслышав. – Да ты что, девица? Кому жалобу?
– Ну, как кому? Начальству!
– Да на кого?!
– Ну, на этих, которые забрали вашего мужа. На полицейских. Его ведь должны отпустить, если он не виновен, это же не по закону!
Мита горько рассмеялась, тяжело поднялась с колен.
– Эх, Вета-Вета, глупая девочка. Счастье твое, что ты никогда с таким не встречалась. Да разве закон за кого из нас когда стоял?
– Значит, надо адвоката…
И сама поняла, как глупо и нелепо это прозвучало здесь, в маленьком доме на окраине. Адвокат – он для богатых и знатных, для тех, кто перед законом – человек. А бедняки, которые десять золотых всей улицей собирают…
– Тетка Мита… Вы подождите, может, и отпустят его! Разберутся…
Катарина фыркнула, пересчитывая медяки. Ян, привлеченный звоном монет, подошел к столу, потянул монеты в рот.
– Не трожь, Янек, не трожь! – Вета торопливо взяла на руки сына.
– Отпустят, как же, – так же горько проговорила Мита. – «Кто за порог тюрьмы ступил, того не жди назад» – так, что ли, поется? Не-ет, выкупать надо, иного выхода нет.
Ян возмущенно завозился, вывернулся из рук матери и снова подбежал к столу.
– Вот, – Катарина сгребла деньги. – На тридцать серебром набрала. Возьми, Мита. Авось поможет…
– Спасибо, бабушка, – тихо сказала Мита и поклонилась. – Я отдам, честное слово! Спасибо!
Сжав в ледяной ладони монеты, она вышла.
– Как же, – с тоской сказала Катарина, глядя ей вслед. – С чего ей отдавать-то? Ох ты, Господи, царица небесная! Вета, что ты стоишь, как заговоренная? Смотри, он уже в муке весь перемазался! Ну и неслух!
* * *
Старый садовник Ламбе по ночам ворочался без сна, слыша, как посапывает рядом Лиз. Раньше… да, раньше он шел во дворец с радостью. Теперь работа отчего-то перестала приносить счастье. Никому не нужны теперь его цветы, и сам он никому не нужен. Идет война, и люди забыли, как дарить цветы, теперь они только плачут, теперь в цене черный креп да доски. Цветочницы стоят без работы, хлеб вздорожал, и уже пришлось рассчитать двоих слуг. Нынешний неурожай дорого народу встал. А средняя дочь недавно родила, но не хватает молока, и грудной Пьетро по ночам почти не дает ей спать. Ох-хо-хо. И со службы того и гляди, выгонят: кому теперь при дворе стали нужны букеты? Густав в цветах ни черта не смыслит, королева уехала… даже принцессы теперь нет, а она, помнится, так любила тюльпаны. Фрейлины – и те поутихли, и балов уже давно не было – война.
Да… раньше деревья зеленее были. Все у него есть, у Ламбе: и дом, и достаток, и в кубышке лежит на черный день… хотя, если дальше так пойдет, скоро и кубышки не будет, они уже дважды в нее руку запускали, а куда деваться? Старшенькой помочь надо, муж у нее пьет. Все есть, да радости нет. Да и чему тут радоваться? Тому, что у свояченицы сына убили на войне? Хорошо, у него, Ламбе, три дочери. Тому радоваться, что вчера в хлебной лавке, говорят, мальчонку насмерть задавили? А сегодня во дворце один молодой негодник, вновь принятый, сопляк еще, уважил – его, Ламбе, старым дураком назвал. За спиной, правда, но он услышал…
А было ведь и другое. Было так, что и Его Величество с ним, Ламбе, советовался. И королева однажды спасибо сказала и ручку поцеловать позволила. Да… Куда все минуло? Теперь во дворце все, точно собаки побитые, по углам прячутся…
Вот уж поневоле поверишь, думал Ламбе, в бабкины сказки. Кто его знает, может, и была правда в той истории про принцессу Альбину и лесных людей. Может, и не зря покойный Карл держал это деревце у себя в кабинете. Ведь и правда, король-то нынешний – так, сбоку припека Дювалям, да и трон получил по чистой случайности. Может, и не зря болтают про то, что он молодого принца изветом на каторгу упек. Он, Ламбе, болтать не любит, но уши у него пока еще есть. Вон из Приморья выживший принц Патрик (Бог весть, в самом ли деле принц) к столице шел, войско собрал. Собрать-то собрал, а далеко ли ушел? Едва стаял снег, двинули против него солдат… хотя сейчас и солдат-то днем с огнем не сыщешь, все кто на войне, кто – вон, на паперти культями трясет. В воскресенье как пойдешь к обедне, так чего-чего только не наглядишься: у одного руки нет, у другого – ноги… счастье наше, что три дочери, но уже внуки большенькие, вот и дрожишь: болтают люди, что скоро и подростков начнут забирать. Королю убоина надобна, мужиков уже не хватает. Старый Ламбе, копаясь в земле, хмурился и вздыхал.
Одна радость – деревце его живет. Та единственная веточка упрямо зеленела, словно наперекор всему, раньше своих уличных товарок выпускала весной почки. Прошлым летом набух даже один бутон и несколько дней стыдливо розовел меж сухих сучьев, а потом раскрылся, выпустил нежно-сиреневые лепестки. Ламбе, глядя на него, улыбался, гладил загрубевшими пальцами нежные листочки.
Лиз тоже привыкла к новому жильцу. Ламбе и раньше, бывало, приносил из дворца цветы, но все больше в горшках и так не дрожал над ними никогда. Иногда Лиз ворчала на мужа, если тот не успевал полить деревце вовремя, во время зимних холодов не хуже садовника беспокоилась и даже предложила переставить кадку ближе к печи. Однажды ночью – случилась минута – Ламбе рассказал жене сказку про истинного короля и наследников принцессы Альбины. Лиз не удивилась. Погладила мужа по голове и вздохнула:
– Кто его знает, правда ли…
– Если правда, – угрюмо сказал Ламбе, – то как еще Его Величество похвалит, если узнает, что дерево у меня. Ведь недаром поди велел выбросить…
– А как узнает? – резонно возразила Лиз. – Да и потом: что бы там ни было, но дерево-то ни при чем, верно? Да и потом, уже ведь сколько? – два года минуло. И не узнал никто. Пусть растет, тоже ведь… живая душа.
Старый Ламбе гладил волосы жены сухой ладонью и тихонько, неслышно вздыхал
* * *
В Леррене стояла духота. В бледно-синем, словно выцветшем небе не было ни единого облачка, и солнце раскаленным шаром висело, царило над горизонтом, заливая город потоками горячих лучей. Каменная мостовая в центре, казалось, вот-вот расплавится от зноя, и странно было думать, что еще только конец апреля; что же будет в июне? Южное лето когда щедро и ласково, а когда и безжалостно – например, если ни разу не бывает дождя.
В полдень на улицах не видно ни души. Даже ко всему привычные городские кошки попрятались в подворотнях в скудной тени. Собаки, вывалив языки, разморенно лежали под деревьями, ленясь даже лаять. Да и на кого лаять? Редко-редко пробежит в лавочку служанка, когда-никогда мальчишка-подмастерье просверкает пятками, торопясь с поручением. Королевские гонцы разве что… но этим жара не жара, холод не холод – у них служба такая. Вот мучаются-то, бедолаги, сдержанно сетовали горожане, глядя на несущихся во весь опор всадников на взмыленных лошадях. А бывало, и не жалели, говоря: сами себе такую жизнь выбрали.
Ближе к центру Леррена, конечно, зелени больше и тень погуще. Улицы уже не узенькие, так что не протиснуться – нет, даже две кареты и те разъедутся. Короткими перебежками, от тенечка к тенечку там пройти можно. Хотя тоже – кому ходить? Ну, ладно, дворяне, которые на государевой службе, к обеду домой заторопятся… верхом или в каретах, в которых и зной не так донимает. Ну, слуга с поручением… А кто свободен от тягот и хлопот, те только к вечеру покажутся, когда жара спадет, или вовсе уедут из города – кто в летнее поместье, кто в провинцию. Нынче, бывает, в провинции-то и спокойнее…
В воскресенье, конечно, народу побольше. Кто из церкви, кто в гости… ближе к закату парочки выходят – пройтись по набережной Тирны, платье новое показать, на девушек посмотреть… Но опять же – жара нынче такая, что и парочки подкосила. Раньше, чем сядет солнце, народ на улицы и не показывается.
Вот, например, этот долговязый малый куда в воскресенье идет и зачем? Жара, Страстная неделя началась, а он идет. Одет не Бог весть как, но пристойно – не то приказчик из лавки, не то писарь в мелкой конторе. Шаг спокойный, размеренный – значит, не так уж торопится, значит, не по срочному делу. Куда направляется, видно, знает – головой по сторонам не вертит… так, оглянется пару раз, точно давно здесь не был и новому удивляется. Но не из этих кварталов, точно. И куда понесла его нелегкая в такую жару?
Упитанная, но кудлатая шавка из дома купца третьей гильдии господина Терки проводила прохожего взглядом, подумала лениво, гавкнуть ли, поднялась… и улеглась на место. Ну его, жарко.
Долговязый свернул в переулок, ведущий от набережной к церкви, вытер лоб, вздохнул. Жарко.
Сегодня утром он приехал в Леррен, и пока все складывалось хорошо. В гостинице «Три петуха» комната нашлась сразу, и завтрак принесли наверх, и воды горячей удалось добыть. За день, проведенный в дороге, одежда пропиталась потом, лицо стало серым от дорожной пыли. Он уехал из поместья ван Эйрека рано утром, по прохладе (относительной, конечно) и рассчитывал добраться до столицы до закрытия Ворот.
– Не задерживайтесь в Леррене, Патрик, – попросил его Лестин при прощании, – там сейчас неспокойно. Помните про запрет на публичные гуляния, обходите людные места. Вас, как ни сильно вы изменились, можно узнать в лицо.
– Я буду осторожен, – серьезно пообещал Патрик. – Но вряд ли меня станут искать в обличье мещанина или чиновника. Не волнуйтесь, Лестин, со мной ничего не случится.
Он планировал остановиться в «Трех петухах» – гостинице, хозяин которой в свое время был Лестину сильно обязан. Если задержится в дороге, то въедет в город утром, заночевав на постоялом дворе в десяти милях от столицы. Днем встретится с Жаном и Ламбе, а вечером уедет… ну, или на худой конец следующим утром. К Ламбе Патрик пойдет в обличье неприметного горожанина; лучше было бы, конечно, мастерового, но мастеровой из него – «у вас на лбу написано «грамоте знаю, шпагой владею», – сказал ему Лестин. Идти же в дворянской одежде не хотел сам Патрик, чтобы не вызвать лишних подозрений. Сегодня воскресенье, на ярмарку едут крестьяне из предместий и окрестных деревень, так что вероятность попасться патрулю на улице или привлечь лишнее внимание в городе сводилась почти к нулю.
Он не стал останавливаться на постоялом дворе, надеясь добраться до Леррена до закрытия Ворот, но все-таки не успел, и ночевать пришлось в стоге сена, вернувшись назад и отъехав от последних домов предместья миль на несколько. Впрочем, выспался он неплохо, хоть не душно было, по крайней мере, и клопов нет. Ехать прямо к открытию Ворот не имело смысла: Жана отпустят в увольнительную не раньше десяти утра, и Патрик повалялся в сене, глядя в высокое небо без единого облачка. Господи, когда же эта жара кончится? Потом он купил молока в первом попавшемся доме, а с собой еще оставалось немного еды. В Воротах не спросили паспорт (а говорили, что теперь проверяют всех входящих), караульный только скользнул по нему взглядом; видно, тоже жара разморила. Так что пока все складывалось благополучно.
В гостинице Патрик с наслаждением умылся и переоделся в костюм, одолженный Августом у кого-то из слуг. Обычная одежда горожанина: потертые, но чистые коричневые штаны, такой же сюртук, полотняная рубашка, серая шляпа. Не то писарь, не то приказчик в купеческой лавке, не то учитель чистописания, временно оставшийся без работы. К господину главному королевскому садовнику оборванцем не пойдешь, так что выглядит прилично – и не привлекает внимание.
Они с Жаном встречались обычно на берегу, в укромном месте чуть левее Новой пристани. Сюда доносился портовый шум, но народу почти не было; вдобавок лужайка эта со всех сторон окружена деревьями, а от дороги ее отделяет плотная стена высоких тополей. Не видно тех, кто стоит на берегу, ни с дороги, ни с пристани – Тирна в этом месте делает изгиб, а дорога идет сначала в гору, а потом круто вниз. Отсюда, если идти берегом, недалеко до казарм Особого полка: Старую пристань, расположенную в центре города, и Новую – за городской стеной – соединяет тропинка, которая идет вдоль берега, у самой воды. Тропинка узкая, но нахоженная, и пройти по ней можно, минуя Ворота.
Патрик осмотрелся и сел на траву в тени раскидистого вяза. Берег в этом месте был довольно высоким, обрывистым; внизу лениво катила волны разморенная жарой Тирна. Патрик долго-долго смотрел на воду, нестерпимо сверкавшую в лучах солнца, потом расстегнул ворот. Эх, искупаться бы… Но нельзя. Пусть здесь тихо и безлюдно, но мало ли… с его-то шрамами светиться лишний раз. Одежда одеждой, но привлекать внимание все равно не стоит.
Где-то рядом, невидимая в траве, жужжала пчела. Жарко. Патрик вытер мокрый лоб и вспомнил вдруг, как они с Жаном встретились здесь первый раз полгода назад. Улыбнулся. Да, полгода минуло, тогда стоял сентябрь… самое начало. И жара была такая же…
…Чтобы найти тогда Жана, пришлось снова идти к тетке Жаклине: соваться в казармы Патрик не хотел. Тетка, завидев «бывшего пациента», обрадовалась так искренне и открыто, что Патрика кольнула совесть. Он вспоминал о ней, конечно, но нет бы хоть деньгами помочь… Захлопотала, усадила было за стол, но принц отказался и попросил только передать племяннику – он ведь в увольнение по-прежнему по воскресеньям приходит? – что хотел бы увидеть его и будет ждать завтра в полдень у реки. Тетка придирчиво расспросила его о здоровье, поахала над тем, «какой опять худой – что вас, дома не кормят, что ли? Или корм не в коня?», посетовала на дороговизну продуктов. Еще сказала, что Жан служит благополучно, и Патрик втихомолку облегченно вздохнул. Не тронул никто ни Вельена, ни тетку – и слава Богу. Просьбу о встрече обещала, конечно, передать.
Патрик понимал, что его появление будет для солдата совсем не таким радостным, как для Жаклины. Для Жана он – едва ли не призрак с того света, снова вечная опасность. Со времени его отъезда из Леррена они больше не встречались, и Жан, наверное, перекрестился облегченно – такую заботу с плеч скинул, и вот все заново… Но что же делать…
Все вышло так, как он и предполагал. Едва услышав просьбу рассказать о том, что делается в полку, Жан – они сидели рядом на траве – вскочил и испуганно замотал головой:
– Ваша милость, – он вытянулся, комкая в руках картуз, вытер враз вспотевший лоб, – ну не тяните вы с меня жилы! Ну, что вы делаете, я ведь жить хочу! Я и так уже… – он испуганно огляделся, – от собственной тени шарахаюсь, не то что… На мне и так греха висит – не рассчитаться, если прознает кто!
– Да, – кивнул Патрик, – прознает кто – тебе головы не сносить. А не надоело бояться, Жан?
– У нас и без того гайки закрутили – ни вздохнуть, ни охнуть, – не слыша его, продолжал Вельен. Он говорил торопливо и сбивчиво, как говорят о наболевшем. – Герцог наш… ну, Его Величество то есть – начальство прямое. Мы-то думали, легче жить станет, все ж таки Особый полк, нас и раньше муштрой не давили. А на деле – работы втрое добавилось, офицеры, как псы цепные, ровно с ума спятили. И все молчи, не смей пикнуть. И служба такая, что аж самому противно, мы ведь не чиновники какие, не палачи, мы все-таки гвардия. А на деле… тьфу. И попробуй кто пикни! А тут еще вы…
– Вот именно, – жестко сказал Патрик. – И у тебя есть выбор: или бояться и молчать вот так всю жизнь, и детей учить бояться – или помочь мне сбросить этот камень. Совсем сбросить.
Жан вздохнул, снова сел. Сорвал травинку, закусил.
– А ну как узнают? – спросил шепотом.
– Я же не прошу тебя кричать во всю дурь: долой короля, – пожал плечами Патрик. – О чем узнают? О том, что у вас в полку делается? О том, кто в какой наряд куда ходит? Так офицеры ваши и без тебя все это знают… а я не знаю. И насчет платы будь спокоен: не обидим.
– Да черт бы с ними, с деньгами! Ведь если проведают, что я вам что-то передаю, мне головы не сносить!
Патрик засмеялся.
– В самом крайнем случае, тебя убьют… да шучу, шучу. Но вообще… знаешь, Вельен, бывает так, что жизнь под сапогом становится хуже смерти. И вот тогда бояться перестаешь. Совсем. Ты подумай только: тебе ведь не только за себя дрожать надо, а еще и за тетку. Всегда. Всю жизнь. А если мы победим, ты сможешь жить спокойно, и она тоже. И никогда не трястись от страха, что за вами придут ночью.
Жан опустил голову.
– Так ведь это если победите…
– Я ничего не могу обещать тебе, – негромко сказал Патрик. – Я не знаю, сколько нам нужно будет времени, только надеюсь, что не очень много. И – да, все это время мы будем бояться. И делать свою работу. Но все равно мы победим, и вот тогда… тогда все будет хорошо.
– Мудрено вы говорите, ваша милость, – покачал головой Жан. – Не по нас эта мудрость, господская она. Нам-то все равно, при каких господах хребет ломать да в строю шагать…
– Если бы тебе было все равно, солдат, – Патрик посмотрел ему в глаза, – ты бы не рассказал мне всего этого. И не стал бы тогда, ночью, меня вытаскивать на своем горбу через весь город, рискуя.
Жан молчал.
– Ладно, Жан, – тихо сказал тогда Патрик. – Если боишься, то лучше не надо. – Он поднялся. Вскочил и Вельен, привычно вытянулся во фрунт. – Прости, что побеспокоил. Жаль, я надеялся на тебя. Желаю дослужить спокойно. Удачи.
Он повернулся и исчез в зарослях – кусты жасмина качнулись и сомкнулись за его спиной.
Палило солнце. Где-то над головой прожужжал басовито шмель. Вельен снова вытер мокрый лоб и выругался.
– Эй! – крикнул он сдавленно, делая шаг следом. – Эй, погодите, ваша милость!
Он нырнул в кусты, осторожно нащупывая тропинку.
– Да? – раздался голос где-то совсем рядом. Жан повернулся – и увидел Патрика, стоящего чуть ниже, на узенькой тропинке, неведомо как затерявшейся в зарослях. – Что ты, солдат?
– Погодите, – Жан тяжело дышал. – Я… а что вам сделать-то надо, ваша милость?
…Они встречались раз в месяц, и Жан, сначала державшийся напряженно и испуганно, становился с каждым разом все более злым, но странно спокойным. Он, так долго сомневавшийся, видимо, сделал выбор – и успокоился. Теперь, если что – все равно пропадать, так какая разница, сколько и чего на нем будет висеть. Если первые доклады его были отрывочны и неопределенны («примерно две сотни человек, а спрашивать я побоялся»), то теперь он говорил четко и раздобывал порой такие сведения, что казалось странным, откуда бы может это знать простой солдат. Он узнал, например, о предстоящей облаве в Университете, и господин Кристофер ван Эйрек успел предупредить тех студентов, кто был на подозрении в полиции: они успели уехать из города. Он докладывал обо всех арестах, беспорядках или волнениях в столице. Не сказать, чтобы сведения его носили немыслимую важность – но они помогали в мелочах. В таких мелочах, из которых складывается рутинная подготовка к заговору. Особый полк, казавшийся самым опасным противником именно из-за неизвестности, превратился благодаря рядовому Вельену в обычную задачу, решить которую сложно, но все-таки можно, если знать – как.
…Жан появился совсем не с той стороны, откуда приходил обычно. Как всегда, слышно его было за десять шагов – топал по-солдатски тяжелыми сапогами, словно зверь ломился сквозь кусты. Как обычно, хмуро поздоровался, вытянувшись во фрунт, и удивленно замигал, увидев перед собой не «господина», а не пойми кого. Потом узнал, заулыбался.
– А вам идет, ваша милость, – сказал с одобрением. – Вполне себе… я б вас и не признал, если б на улице встретил…
– Ну, спасибо, – улыбнулся Патрик. – Значит, и Густав не признает.
– Ну, вот это вряд ли, – помрачнел Жан. – Я уж упредить вас хотел, ваша милость: у нас тут такая работа началась. Хватают в городе всех подряд. Я теперь на другой участок переведен и вроде как старшим… ну, мне ж капрала присвоили, – в голосе его скользнула хмурая гордость. – Так вот, приходится с арестами ходить едва не каждый вечер. И все сплошь не к отребью какому, а к благородным. Это не ваших мы хватаем?
С лица Патрика слетела улыбка.
– У кого были?
– Вот, на улице Вязов были, там казначей, господин Франц Фицжеус, живет… жил. Вчера на площадь Трех Королей приходили – к господину Жутку, архивариусу. И наши ребята, кто ходил тоже, говорят… Не ваши?
– В чем обвиняются? – спросил Патрик резко.
– Да все в том же: государственная измена. Я почему про вас и подумал. Вы там поосторожнее, что ли…
В этот раз рассказ Жана был коротким, но то, о чем он говорил, заставило задуматься. Выходило так, что или Густав почуял неладное, или среди заговорщиков появился предатель. Аресты не коснулись вплотную тех, кто был в ядре заговора, но ходили близко, слишком близко: среди родственников и знакомых. Впрочем, на предателя не похоже: гребли «частой сетью», но вслепую: среди всех арестованных только двое были причастны к делу. Но где гарантия, что не потянут остальных? Оставалась, конечно, надежда на то, что Густаву в череде дел пока не до того, но… стало ясно, что нужно торопиться.
– Вот еще что, Жан, – попросил Патрик. – В последнее время во дворце не менялось расположение часовых? Нам нужно знать, где стоят посты и в каком количестве. И очередность караулов тоже… на вторую половину июня.
Вельен задумался.
– Далеко еще до июня-то, ваша милость. Ближе к делу будет ясно. Вам на какой-то день или так, вообще?
Патрик помедлил.
– Нужно знать, кто разводит посты в ночь на семнадцатое июня, – сказал он тихо.
– Хорошо, – кивнул Жан. – Сделаем.
После паузы спросил тоже едва слышно:
– Значит, недолго осталось?
Патрик улыбнулся и ничего не ответил.
Прощаясь, Жан помедлил. Сунул маленький, но тяжелый мешочек в карман, взглянул в лицо принцу – и попросил тихонько:
– Будьте осторожны.
И проломился сквозь кусты на тропинку, исчез с глаз.
Дом королевского садовника находился в «чистом» квартале Леррена: там, где селились богатые купцы, представители городских общин и городской голова. Одноэтажный, обнесенный красивой узорной решеткой, он смотрел на улицу тремя окнами с яркими ставнями, а еще три окна выходили в небольшой сад. Дорога к центру Леррена шла в гору, и Патрик порядком вспотел в своем сюртуке; раскаленная мостовая, казалось, обжигала жаром даже через подошвы башмаков.
Он шел и думал, узнает ли его Ламбе. Должен узнать. Сразу? Может, и сразу. Легенда, придуманная для отвода глаз, годилась для слуг или для жены Ламбе… принц усмехнулся: изображать торговца ему еще не приходилось. «Не откажите в любезности заглянуть к нам в оранжерею, мы хотели бы представить вам образцы саженцев, привезенных с Юга». Даже пакетики с семенами с собой, их насовал садовник господина ван Эйрека. Как называются те большие красные зонтики, которые так любит «дядя»? Черт, всю дорогу учил название – и опять из головы вылетело.
Однако, где же они просчитались? Или просто это вечная паранойя Густава? Самое плохое, что не знаешь наверняка…
Дверь ему открыла молоденькая служанка в накрахмаленном чепце с кружевами, в белом переднике, быстроглазая, кругленькая, с насмешливыми быстрыми глазами и носиком кнопкой. Она окинула его деловитым взглядом и, поправив выбивающиеся из-под чепца медные кудряшки, сообщила:
– Господина Ламбе нет дома, они с госпожой в гости уехали.
– Не скажете ли вы мне, – попросил Патрик, – когда господин Ламбе вернется?
Девушка повела плечиком: мол, это вы, сударь, видно, нехристь, в Божий день по делам бегаете, а наш хозяин воскресенье чтит.
– Не знаю, – смилостивилась наконец, – к вечеру будут. К дочери они уехали.
Но, закрывая дверь, взгляд на него кинула далекий от презрения, а куда как заинтересованный. И опять волосы поправила – этак кокетливо… Патрик вздохнул.
Что же, придется зайти еще раз, вечером. Да уж… ладно, ничего не поделаешь. Принц поднял голову, посмотрел на солнце. Полдень миновал, до заката еще далеко, и уже хочется есть. Найти, что ли, трактир попроще… серебра и меди у него с собой не очень много, а золото осталось в «Трех петухах». Жаль, конечно, что не удастся уехать вечером, ну да ладно. За комнату уплачено, можно вернуться туда… но до гостиницы так далеко идти. Да по жаре, да сначала вниз, а потом снова в гору. Нет уж… лучше сначала поесть, а потом пойти обратно на берег, подождать до заката там, у воды, у прохлады. Вот если бы можно было еще и искупаться…