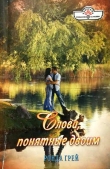Текст книги "Сказка о принце. Книга вторая (СИ)"
Автор книги: Алина Чинючина
Жанр:
Сказочная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 24 страниц)
– Спокойнее, мой принц, – говорил ему Лестин. – Нам не нужно торопиться, сейчас время работает за нас. Чем глубже увязнет Густав, тем лучше.
А Густав действительно увяз, теперь это было видно. На юге шла война, на севере горело пламя восстаний. Мотаясь по провинциям, Патрик видел, как обнищали за эти месяцы люди, и понимал, что еще от силы год – и кипящий котел взорвется. И понимал, несмотря на уверения Лестина, что ему нужно торопиться. Элалия и Версана тоже были настроены серьезно, и ему совсем не улыбалось потом отвоевывать у соседей то, что они сумеют выгрызть себе в этой войне.
Вот когда в полной мере оценил наследный принц то, чему учили его все эти годы! Только теперь он понял, что все, что вбивали в него учителя, имело под собой реальную основу и главное – работало, надо было только правильно применять эти знания. Пусть сколь угодно противны были увертки и намеки, но теперь Патрик не только умел видеть их, но и понимал всю необходимость негласных этих правил. Это было нужно, это было единственно правильным. Только теперь он до конца осознал смысл яростной ругани отца и деликатных наставлений лорда Лестина. И был благодарен им… В конце концов, теперь от правильности его действий впрямую зависела жизнь, и если бы только его жизнь…
А потом на смену отвращению пришел интерес и в какой-то мере даже азарт, точно в игре в шахматы. Политика действительно похожа на игру в шахматы – с той лишь разницей, что потеря короля здесь означала не следующую партию, а смерть – в лучшем случае, в худшем же – свидание с Гайцбергом. Мир порой казался черно-белой клетчатой доской, очередные ходы снились во сне, а люди иногда представали фигурами, и тогда Патрик спохватывался и одергивал себя, напоминал, что в его руках – чужие жизни.
И каждая ошибка могла стать роковой. Любой из тех, кто обещал поддержку и помощь, мог с равным успехом помочь деньгами или поручительством – или шепнуть кому надо словечко, на радость королю Густаву. Приходилось полагаться на удачу, знание придворного расклада и свои прежние воспоминания, да еще – на чутье и опыт лорда Лестина.
Лорд Лестин…. Сколько раз, лежа ночью без сна, напряженно обдумывая очередную многоходовку, Патрик благодарил Бога за этого человека! Помощь его была не просто огромной – ей вообще не было цены. Каждый день Патрик клялся себе, что если (когда!) они победят, он сделает все, чтобы старый лорд до конца своих дней никогда ни в чем не нуждался.
В угаре и азарте, в напряжении и риске пролетали дни.
Иногда охватывало отчаяние. Опускались руки, разъедала душу ржавчина сомнения, бессилие протягивало когтистые лапы. Когда «все равно», когда «а зачем нам это надо, от добра добра не ищут, менять власть – занятие слишком рискованное» или того хуже – «это самозванец». Последним, если они, напуганные или купленные, не хотели ничего слушать, Патрик и не пытался доказывать… и как же много их было! Иногда, чаще всего по ночам, думалось в глухой тоске, что зря он затеял это. Зачем рисковать, зачем подставлять верных тебе людей, если можно отказаться от всего этого. Уехать к господину ван Эйреку, стать его племянником, жить в поместье, жениться на Луизе – все равно Вета потеряна для него навсегда. Проводить вечера в библиотеке, дни – в хлопотах или разъездах по соседям, детей нарожать. Зачем, для чего он ввязался в эту бессмысленную авантюру? Все равно уже никому и ничего он не сможет доказать.
А утром приходило письмо от Лестина, или очередное краткое «я верю его высочеству» – и возвращались силы, и жизнь снова обретала смысл.
* * *
Ночью Вете приснился сон. Она танцевала на придворном балу; бал был многолюдным и пышным, но странно молчаливым – все, с кем встречалась она глазами, умолкали и кланялись ей, и ни одного слова не слышала она ни от кого, точно отделенная от всех прозрачной стеной. Но музыка звучала, музыка звала и манила, и Вета снова стояла у стены, то раскрывая, то складывая от нетерпения веер, пока к ней не подошел высокий светловолосый юноша в светлом костюме, так похожий на Патрика в день помолвки… только странно чужими казались темные глаза на знакомом до последней черточки лице. Он поклонился ей, приглашая в круг, и только когда ладонь Веты легла в его ладонь, она вдруг поняла: это ее сын. Это Ян, ему семнадцать, и это бал в честь его рождения.
И они закружились среди множества пар, и странное сладкое чувство стиснуло ее сердце. Все было хорошо, она прожила необыкновенно счастливую жизнь, и если б сказали ей сейчас, что нужно умереть, она согласилась бы. А потом, когда смолкла музыка и пары рассыпались, Вета увидела Патрика – он шел к ней из глубины зала, улыбался и протягивал руки. Живой и настоящий, только старше, морщины наметились у глаз, а волосы стали совсем седыми. Они прожили вместе много лет и были счастливы. И она стиснула в одной руке пальцы сына, а другой взяла за руку мужа и засмеялась.
И проснулась от собственного смеха, ощутив, что щеки ее мокры, и мокра подушка, а горло сдавило так, что нечем дышать…
Уже светало – в конце мая ночи вовсе короткие, но бабка Катарина тихо дышала на лавке напротив – значит, еще совсем рано. Закряхтел, заворочался в колыбели малыш; Вета встала, тронула рубашечку – сухой. Но, похоже, скоро проснется и потребует есть. Бабка Катарина советовала уже отнимать Яна от груди – неделю назад ему исполнился годик, а молока у Веты стало меньше. Полтора месяца назад он пошел ножками и теперь уже вполне уверенно ходил, а порой и бегал, но часто по старой памяти опускался на четвереньки. Обстоятельный, деловитый, молчаливый, он напоминал Вете отца, графа Радича. И ведь всегда своего добьется, и не криком, не слезами, будет молча делать по-своему, даже если прикрикнешь.
Ян… Янек… Вета горько усмехнулась. Янек… Так называли того, большого, Яна только Патрик и граф Дейк, отец, никому другому виконт не разрешал таких вольностей. Что сказал бы он, услышав, как смеется и лепечет «мама» мальчик, названный его именем? Обрадовался бы? Упрекнул бы? Бог весть…
Катарина зашевелилась и сонно проговорила:
– Чего не спишь?
– Янек закряхтел, – шепотом, чтобы не разбудить сына, ответила Вета.
– Ну, и закряхтел, что с того? Небось золотая слеза не выкатится. Ложись, спи, пока можно. Скоро вставать уже…
– Ложусь, бабушка, – послушно ответила Вета и, наклонившись, поцеловала малыша в мягкую щечку.
День этот выдался жарким даже для конца мая. Вета то и дело обмывала сына прохладной водой, умывалась сама – к полудню горячие лучи прокалили маленький домик, прошили насквозь, хотя бабка завесила все окна. Ян капризничал и отказывался от еды, но пил чуть ли не по две кружки зараз, и к обеду ведро для воды оказалось пустым. Вета вздохнула. Опять тащиться по солнцепеку к колодцу… и вечером тоже… в такую жару хоть без перерыва пей – не поможет. Тогда, в дороге, было так же душно, мучила жажда… и Патрик отдавал ей свою воду… Малыш попытался залезть на лавку, сорвался, упал, но не заплакал. Посидел задумчиво посреди комнаты, встал и деловито полез снова. Мать улыбнулась. Упрямый. В отца?
У колодца было пусто – все попрятались, ставни везде закрыты от зноя, даже собаки лежат в тенечке, высунув языки, даже куры не роются в пыли посреди улицы. Вета умылась ледяной водой, сняла чепец и намочила голову – стало легче. Уф… Неужели летом будет еще жарче?
– Давай, что ли, помогу, – сильная рука отняла у нее коромысло.
Вздрогнув, девушка обернулась – и улыбнулась с облегчением. Пьер, сосед… Тоже, что ли, за водой пришел? Но нет, ни коромысла, ни ведер – неужели за ней шел от самого дома?
– Гляжу, – мужик словно услышал ее мысли, – идешь с коромыслом, дай, думаю, помогу. Ты ж сломаешься, если на тебя полные ведра повесить.
– Так уж и сломаюсь, – усмехнулась девушка, отдавая ему ведра. – Спасибо.
Она была рада помощи и не скрывала этого. Ходить по воду – самая нелюбимая из всей домашней заботы, но кому, кроме нее? Бабка все чаще жалуется на боль в ногах и пояснице, а без воды как? И не по разу в день ходить приходится. Вета умела теперь печь хлеб, могла выполоскать зимой в проруби целый таз белья, но тяжелые эти ведра отмотали ей все руки.
Теперь соседский сын уже не называл ее приблудой и не боялся, что отберет нежданная постоялица у бабки ее дом, а саму выставит на улицу. Они подружились; Пьер ей нравился незлобивым своим характером и добродушием, а может, жалела его Вета за неудалую судьбу. Овдовев два года назад, он остался с маленьким сыном, но до сих пор не женился, хотя соседки не раз пытались сосватать ему какую-никакую вдовушку, и из бедноты, и из зажиточных. Пьера нельзя было назвать даже середняком, но не оттого, что не умел или не любил мужик работать – нет, любое дело кипело в его огромных, поросших русым волосом ручищах. Просто бывают люди, которых не любят деньги; начни торговать такой – вмиг прогорит, и с кубышкой у него что-нито да приключится, или воры нагрянут, или неурожай; на жизнь вроде хватает, а вот чтоб отложить на черный день – такого сроду не будет. Пьер, еще пока жива была жена, поправил дедов дом – так, что душа радовалась глядеть, узоры деревянные на перилах крылечка вывел. На ярмарках расходились влет плетеные корзинки и узорчатые прялки его работы. И мальчонка у него бегал не в драной рубашонке, и кусок хлеба всегда был, пусть часто и без лука. Когда умерла жена – зимой полоскала белье и соскользнула в реку, хоть и вытащили ее, да застудилась и к весне свечкой стаяла – мужик больше месяца пил. Уж и мать умоляла остановиться, и сынок на колени вползал, звал отца, и бабка Катарина вразумляла – без толку, лишь головой лохматой мотал и мычал что-то невнятное. А потом в одночасье завязал, только лицом почернел, словно после пожара, да так та чернота и осталась. Но почему-то Вете казалось, что когда Пьер смотрит на ее Яна, чернота эта будто сереет, разбавленная светом, и в глазах его, угрюмых, темных, мелькают лучики солнца. Последнее время Пьер заглядывал к ним по нескольку раз на дню, перешучивался с ней и с бабкой, однажды принес Яну деревянного маленького коняшку, сделанного искусно и ловко; Вета только вздыхала, глядя, как тянется к неразговорчивому соседу ее сын.
Они неторопливо шли по улице, стараясь держаться в тени деревьев.
– Жара нынче, – вздохнул Пьер. – Опять, что ли, хлеба погорят… второе лето подряд…
– Подожди еще, – возразила Вета, – может, будет дождь. Солнце-то какое… как в пустыне.
– Солнце… – повторил сосед. – На тебя то солнце смотрит, оттого и печет, радуется.
– Что-что? – изумилась, не поняв, Вета. – А я-то здесь при чем?
Пьер остановился. Опустил на землю ведра, встряхнул руками – большой, неловкий.
– Я… ты выходи за меня, – сказал он – и опустил голову.
– Что?! – Вета отступила на шаг.
Пьер откашлялся.
– Полюбилась ты мне, девка… с самой уж осени. Выходи за меня!
Вета уронила руки. Перехватило дыхание.
– Пылинке сесть не дам, – говорил Пьер, – беречь тебя буду. Малец у меня по ночам мать зовет… станешь ему матерью. А уж я твоего Яна, точно родного, приму. Негоже оно – вдоветь тебе, ты молода еще, собой красива, и сын у тебя, парню отец нужен. Или, может, скажешь, стар я для тебя слишком? Что молчишь-то?
Она стояла и смотрела на него. Палило солнце. Мир замер, выцвело все, даже птицы смолкли.
Пьер взъерошил русую бороду.
– Оно, конечно, ты мужа помнишь. Да ведь мертвым не больно, а я… мне без тебя не жить. Я бы уж так любил тебя!
Он взглянул ей в глаза:
– Станешь моей? Пойдешь за меня?
Не отводя глаз, Вета покачала головой.
– Что так-то? – Пьер глубоко, тяжело вздохнул. – Негож?
– Нет, – сказала она сдавленно, едва сдерживая слезы. – Нет, нет, нет!!
И пошла, побежала вдоль улицы, позабыв и про полные ведра, и про брошенное в пыли коромысло.
– Что ты? – спросила Катарина, когда Вета вбежала в дом и, схватив на руки сына, возившегося на полу с игрушками, прижала его к груди. – Обидел кто?
Вета покачала головой, спрятала лицо в растрепанных светлых волосах малыша, сдерживалась изо всех сил, но слезы все бежали и бежали по щекам. Мальчик нетерпеливо рвался на пол, к брошенным игрушкам.
– Что случилось? – уже обеспокоенная, Катарина оставила тесто, вытерла перепачканные мукой руки, подошла. Отняла Яна, спустила на пол. – Что плачешь-то?
Вета села на лавку, вцепилась зубами в кулак, пытаясь унять рыдания.
– Видела я, – сказала бабка, – Пьер за тобой пошел. Обидел, что ли, он тебя?
Девушка давилась слезами.
– Нет… он… замуж позвал…
– Оттого и плачешь?
– Да…
Бабка вернулась к тесту.
– Я-то думала, беда какая. Ну, позвал и позвал, чуяла я, что к тому дело идет. А чего ревешь? Что ты ему – отказала?
– Да, – всхлипнула Вета.
Катарина деловито вымешивала хлеб.
– Оно, может, и правильно, – сказала она чуть погодя. – Чего тебе с ним… Он мужик, конечно, добрый, работу любит и все такое. И пристроена бы ты была, не век же по чужим углам мотаться, а что сын – так не нагулянный, Пьер мужик умный, тебе в укор бы его не поставил. Но ведь мужик. Не пара тебе, благородной.
Вету обдало холодом. Слезы высохли враз, она вытерла лицо… спросила после паузы:
– Почему – не пара?
– А что же, – фыркнула бабка, – скажешь тебе, дворянке, в радость за простого идти? Пойдешь?
Молча, огромными, остановившимися глазами смотрела Вета на Катарину. В маленькой кухне на мгновение повисла тишина, только Ян бормотал что-то на своем птичьем языке.
– Ну, что смотришь-то? Или думаешь, не знаю я ничего? Я ведь сразу поняла, что ты не та, за кого себя выдаешь.
Вета сглотнула.
– Но, бабушка… как? С чего вы взяли? Я же…
Старуха пристально посмотрела на нее, потом засмеялась скрипуче и жестко, отложила скалку.
– Ну, милая моя, я была бы круглой дурой, если б простушку от знатной дамы не отличила. Давно уж нам с тобой поговорить надо было, да все тянула я, боялась – молоко у тебя пропадет, если переживать станешь, нежная ты. На тебе ж все написано было, да крупно, читай – не хочу. И говоришь ты не по-нашему, и кланяться не умеешь, а что руки в мозолях, так мозоли – дело наживное. Да по всему видать, что ты из знати. И во сне ты как-то говорила не по-нашему, на чужом языке; разве будет кухарка или там крестьянка язык чужой страны знать? И речь у тебя господская, правильная. И про мужа ты рассказывала… сразу я поняла, что не мастеровой он, видано ли дело – шпаги там да книжки. Только, похоже, в беду ты попала, а в какую – сказать не хочешь, да и не мое это дело. Я уж говорила, мне хватает того, что ты не воровка и не убийца. А мыслю я, что муж твой или отец оказались неугодны нынешнему королю. Права ведь я?
Вета опустила голову и не ответила.
– Ну вот, – удовлетворенно продолжала бабка, отряхнув руки. – Одного только не пойму, неужели тебе идти было некуда? Неужели нет никого, ни родни, ни друзей, что ты беременная на улице оказалась?
– Есть, – едва слышно проговорила Вета, – но нельзя было. Подставлять их страшно.
– Это верно. Беда – тяжкая и грязная ноша для друзей, все испачкаться боятся. Видно, муж твой пострадал, а родня испугалась, так?
– Да…
– Ну, вот. Так зачем мне тебя расспрашивать было, если все видно, как на ладони? Да и не в себе ты была, девка, боялась я… все думала, руки на себя наложишь. Хорошо, дите тебя спасло, к жизни вернуло.
Яну надоели игрушки, он швырнул тряпичный мячик, сшитый ему Ветой, за порог и подошел к матери. Вета снова подняла сына на руки. Мальчик молча, уверенно полез к ней за пазуху, нашаривая грудь. Вета машинально расстегнула ворот, Ян так же молча и деловито устроился поудобнее и удовлетворенно зачмокал.
Поглаживая ребенка, Вета беспомощно взглянула на бабку:
– Бабушка… Но отчего же вы не выдали меня тогда? Зачем к себе пустили?
– А какой мне прок тебя выдавать? – засмеялась Катарина.
– Вам бы за меня денег дали.
– А на что мне эти деньги? У меня хозяйство есть, да муж скопил, мне хватает. А ради десятка монет грех на душу брать… нет, милая, я уже старая, мне о душе думать надобно. Ну, выдала б я тебя – а потом на том свете приду я к Господу, и спросит Он меня: что же ты, Катарина, две живых души на смерть отправила? Никак, Иудой стать захотела? Не-ет, милая, я уж лучше так… обойдусь.
«Не десятком монет там пахло бы, бабушка», – подумала Вета, но вслух сказала:
– Спасибо.
– Не мне спасибо говори – мальцу своему. Его пожалела, не тебя. Сначала. А потом… а теперь и привыкла я к тебе вроде, привязалась. А вот теперь спросить хочу: что ты дальше-то делать думаешь? Неужели так и проживешь всю жизнь в работницах?
– А что мне остается? – горько усмехнулась Вета.
– Ну, если никто не хватился тебя за два-то года, может, и дальше не хватятся? Может, вернешься к родне да заживешь, и сына вырастишь, как пристало. А то ведь ты – дворянка, да он-то при такой жизни неученым останется.
Вета отвернулась, посмотрела в окно – на запыленный дворик, на кривую березу у крыльца.
– Не знаю, бабушка. Боюсь я, – призналась она. – Некуда мне идти – мать умерла, а отец… – она запнулась, – отец сам меня выдал… то есть не меня, а… словом, к нему нельзя. Он и не знает, что я жива.
– Вон оно как, – изумленно протянула Катарина. Подошла, села рядом. – Да разве может так быть, что отец родную дочку врагам отдаст?
– Может, бабушка. Близкой родни в столице у меня нет, а…
– Да что ты привязалась так к столице-то этой? – перебила ее бабка. – Тебе бы в глуши спокойнее было. Есть, поди-ка, у тебя дядья да тетки, что далеко живут? Доберешься до них, пусть не теперь, осенью но все-таки там тебе проще будет. Что ж ты тут полы метешь, если рождена в бархате ходить…
– До осени еще дожить надо, – вздохнула Вета.
– И это верно, – неожиданно согласилась старуха. Вздохнула, потрепала ее по плечу. – При нынешней власти и на завтра загадывать нельзя, а у тебя еще и ребенок. Ладно, девка, погоди пока. Живи у меня, тут тихо. Если уж за столько времени тебя никто не распознал, то, глядишь, и дальше обойдется. А как пройдет гроза, вернешься к своим.
Вета перевела взгляд на сына, погладила мягкую щечку.
– Если, – проговорила едва слышно. – Если.
Часть третья
Поединок
– …Итак, господа, нам осталось совсем немного. Теперь нужно назначить день выступления.
Стоял апрель 1601 года, и в воздухе кружились, неслышно опадая, лепестки цветущих яблонь. В раскрытое окно библиотеки поместья господина Августа Анри ван Эйрека тянуло сладким ароматом, который кружил голову; солнечные зайчики, метавшиеся меж ветвей, весело прыгали по стенам. Патрик, щурясь от яркого солнца, обводил глазами сидящих рядом на широком диване графа Ретеля и полковника де Лерона; удобно устроился в глубоком кресле в углу лорд Лестин.
В поместье господина ван Эйрека сегодня гости. У племянника хозяина, молодого Людвига, через неделю именины. Но они выпадают в этом году на последний день Страстной недели, а после Пасхи и полковника де Лерона, и графа Ретеля ждут в столице неотложные дела. Поэтому решили отпраздновать раньше.
Многое было уже готово. Первый пехотный полк де Лерона и Второй уланский, в котором командовал полковник Рейнбер, ждали только сигнала к выступлению. Два десятка лордов и дворян из знатных и влиятельных родов королевства в назначенный день готовы были прибыть в Леррен. Выступить в поддержку нового короля обещали наместники Леренуа, Фьере, Приморья и Тарской. Ждали в поместье господина ван Эйрека документы, которые должны были быть первыми подписаны законным королем; был уже определен новый состав Государственного Совета.
Этот год не принес стране облегчения. Война – с перерывом на зимнее перемирие – продолжалась. Она высосала из Лераны практически все силы, но и соседей изрядно измотала. Фронт, перемещаясь туда-сюда, в конце концов продвинулся на несколько десятков миль вглубь Лераны и замер, остановленный, у реки Реи. Самой большой территориальной потерей для Лераны стали Съерра, занятая Элалией еще в начале войны, и Конти, в которую в минувшем сентябре ввело войска Залесье. Да еще Вешенка прошлым летом под рукой очередного Самозванца объявила себя вольной областью; правда, ненадолго. Самозванца уже полгода как разбили, но восстанавливать разоренную войной и смутой провинцию у Густава не было ни средств, ни сил.
Третий год подряд свирепствовала засуха. Такого неурожая не помнили почти полсотни лет, и полиция, сказать честно, уже устала ловить и вешать болтунов, кричавших о том, что это наказание Господне, и вспоминавших об «истинном короле». «Истинные» самозванцы надоели Густаву хуже горькой редьки. В последние полгода всех, хоть как-то попадавших под подозрение в связях с мятежниками, разрешалось вешать без суда и следствия.
Неизменным дополнением к засухе стали крестьянские бунты. В одном только Леренуа их за год было три. Война выжимала из провинций все до последнего зернышка, и теперь сборщики налогов иначе как в сопровождении отряда солдат не ездили. Непокорная Тарская так и не затихла до конца; горняки, ободренные тем, что «всех не казнишь – работать некому будет», останавливали работу в шахтах при каждом удобном случае.
А еще холера в Ружской, грозящая перекинуться во Фьере и Леренуа. И пираты в Западном заливе; самый дерзкий и сильный из них, капитан Джон по прозвищу Цыпочка (бывший рыбак, бывший матрос Королевского флота, бывший контрабандист) захватил остров Бурь и, зная окрестные воды как свои пять пальцев, перекрыл доступ к берегам Приморья судам из Северных Земель. А порох и шерсть Лерана получала почти полностью с севера; леранский порох был хуже и требовал больших затрат в изготовлении.
А еще – контрабанда в Приморье. Которая, несмотря на принятые правительством меры, ожидаемо вызвала поддержку у купцов, особенно приморских. А что вы хотите, пошлины съедают половину прибыли, и если есть возможность ее обойти, почему не попробовать. Тем более что прошения в столицу о смягчении налогов уже не помогают…
А еще – участившиеся побеги с каторжных рудников, потому что половину солдат уже забрала война. Мелочь, конечно, на фоне всего остального, но в целом здоровья стране не добавляет.
И скандалы с военными поставками, которые возмутили всех. Конечно, гнилую кожу, заплесневелую муку и пшено с жучком армия получала и раньше, но в последний год воровство и надувательство выросло до неслыханных прежде размеров. Лорд Стейф, отстраненный от дел при Карле Третьем, при Густаве вновь занял прежний пост, и за ним казнокрады чувствовали себя, похоже, как за каменной стеной. Вопли протеста, доносящиеся из армии, были подхвачены и гражданским населением, но в столице услышаны не были. В самом деле, кто же поверит, что всеми уважаемые, знатные люди, патриоты своей страны, которые громче всех говорят о необходимости защиты Родины и о важности бесперебойного снабжения армии, будут поставлять гнилую муку. Это, наверное, провинциальные негодяи стараются, а в столице – да упаси нас Боже. Голодные, почти босые солдаты костерили правительство, не разбирая, кто прав, кто виноват.
Наверное, заговорщики управились бы и раньше, но разъезды по стране сильно затруднило военное положение, введенное на всей территории Лераны. Лошадей на постоялых дворах было не достать, любой одиноко едущий мужчина вызывал подозрение у патрулей, понаставленных в каждом десятке миль. А люди Самозванца и шайки, в которые сбивались беглые каторжники, и вовсе сословием и именем путников не интересовались. Купцы собирались в больше обозы, экономя на охране, у дворян отпала охота к перемене мест, и только королевские гонцы неслись сломя голову: с этих взять было нечего, они ценны не тощим кошельком и плащиком на рыбьем меху, а скоростью и информацией.
И было бы странно, если бы Патрик, с его способностью попадать в неприятности, не влип однажды в очередную историю – на этот раз с людьми Самозванца. Правда, он не стал рассказывать об этом ни Лестину, ни кому бы то ни было еще, но сам долго вспоминал, как сбился с дороги и едва не замерз, возвращаясь в Леррен из Приморья. В тех краях метели случались часто, и местные предупреждали: день будет вьюжный, пережди, не езди. Патрик торопился, и, неопытный в зимнем путешествии, потерял дорогу, заблудился и замерз бы, если бы лошадь не вынесла на попавшийся на пути маленький хутор… который к тому времени был занят войском Самозванца. И его угораздило постучаться и попроситься на ночлег в тот дом, где расположился как раз Самозванец.
Встреча эта, при всей ее невероятности и нелепости, закончилась благополучно. «Тезка», правда, едва не убил его, сразу опознав «столичную штучку». Вдобавок Самозванец был в ту ночь изрядно пьян; королевские войска из-за метели застряли на несколько десятков миль южнее, и пока крестьянской армии ничего не угрожало. Спасло его то, что в этот вьюжный зимний вечер, в отрезанном от большой дороги снегопадом хуторе, Самозванцу интересно стало поговорить с новым человеком.
«Настоящему Патрику» было лет тридцать пять; могучего вида мужик с густой черной бородой не походил на «истинного принца» ни внешностью, ни манерами. Но была в нем какая-то потрясающая жизненная сила, воля к победе, что ли… внутренний свет, который позволял без лишних слов опознать в человеке вождя. Родись он в другой семье, этот мещанин мог бы стать полководцем. Люди шли за ним, верили и принимали безоговорочно. Да, этот человек, случись ему достигнуть столицы, мог бы натворить больших дел. Неудивительно, что Густав бросил на его уже хорошо вооруженную и вполне боеспособную армию три самых лучших полка… конечно, самых лучших из тех, кто еще остались.
Они с Самозванцем проговорили почти всю ночь, и наутро Патрик почти готов был поверить, что перед ним – истинный король. Этот человек откуда-то знал и старую легенду, рассказанную принцу Марчем, и утверждал, что умеет разговаривать с птицами. Но дело было, в общем, совсем не в этом, а в том, что люди стекались под его руку десятками и сотнями, и уже два города – Альдек и Малая Тирна – вынесли ему на подушке ключи от городских ворот.
В войске Самозванца царила железная дисциплина, и, в общем, он даже мог себе позволить и выпить, если вечер не обещал неожиданностей. Патрика поразило то, как искренне люди верили своему предводителю: во взглядах тех из ближайшего окружения, кто не спал в эту ночь, читались настоящая любовь и преданность. В рассказах, докатившихся до столицы, Самозванец представал этаким народным героем и защитником бедных, но теперь Патрик воочию видел, вернее, слышал приказ утром повесить троих крестьян из войска, позволивших себе мародерствовать в деревне. Хозяйка хутора наутро рассказала, что муж ее прошлой зимой погиб на охоте, а сами они – большая семья – едва по миру не пошли. Теперь же бояться нечего: «истинный король» не даст им с голоду пропасть, помогает то продуктами, то полотном, спасибо ему. За то они, случись нужда, то в деревню весть подадут, то спрячут кого надо – в лесу ни в жизнь не найдешь. В захваченных городах Самозванец чинил суд – и судил, по рассказам, довольно справедливо, невзирая на чины и звания, не разбирая, крестьянин ли, купец или дворянин, а только – прав ли. Под утро Патрик мрачно подумал, что, случись этому Самозванцу продержаться до смены власти, он может стать большой проблемой.
Трудно сказать, почему Самозванец раздумал его вешать. Сначала он и не скрывал от «случайной добычи» своих планов относительно его судьбы: хоть убивать вроде и не за что, но отпускать нельзя – выдавать местонахождение хутора «истинный принц» не собирался. Патрик, у которого сразу же отобрали оружие, уже всерьез раздумывал, не придется ли драться голыми руками – пропадать так пропадать. Но в ту ночь им не спалось обоим, и в конце концов, Самозванец снова поднялся, запалил свечу, а когда зашевелился и поднял голову Патрик, налил вина и ему, и даже руки развязал. Они сначала молчали, глядя друг на друга… потом «истинный принц» спросил, усмехнувшись: «Что, умирать-то небось неохота?» Завязался разговор… говорили сначала вроде ни о чем, потом – о Боге и вере, потом – еще о чем-то, уже наперебой; этот человек оказался удивительно умен, хотя даже неграмотен. Когда хозяйка поднялась, чтобы подоить коров, вина в бутылке оставалось на донышке, рядом валялись еще три такие же пустые, а в голове у Патрика звенело от бессонницы, выпивки и напряжения.
Когда рассвело, выяснилось, что метель улеглась, оставив после себя сугробы выше колен. Самозванец хмуро поглядел на Патрика – и махнул рукой:
– Иди. Направление покажем, а дальше – как Бог выведет. Если доберешься до дороги живым – твое счастье. А мне тебя убивать вроде как и… совестно теперь.
Впрочем, лошадь, деньги и даже теплый плащ и сапоги у него отобрали; спасибо, хозяйка пожалела, сунула старую мужнину куртку и какие-то башмаки. Воистину, Бог любит дураков, младенцев и пьяниц: когда к полудню впереди зачернела дорога, Патрик был жив – и даже не сильно поморожен. Когда попутная телега довезла его до постоялого двора, когда он отогрелся и понял, что все-таки цел (ну, или почти цел), первой мыслью почему-то стало: хорошо, что в карманах у него не осталось ни бумаг, ни писем. Попади то, что он вез, Самозванцу, это стало бы… весьма неприятной проблемой.
Лестин, слава Богу, об этой встрече не узнал. Иначе, думал про себя Патрик, удар хватил бы старого лорда… Впрочем, придя в себя после всей этой истории, принц задним числом даже поблагодарил за нее судьбу: у этого человека можно было бы многому научиться. И когда столицы достигла весть о том, что Самозванец в Приморье пойман и скоро будет привезен в Леррен для следствия и суда, Патрик «коллеге» искренне и от души посочувствовал.
Имение ван Эйрека стало теперь чем-то вроде штаба заговорщиков. Дважды они встречались у Ретеля в Руже, но ехать так далеко не было возможности у де Лерона. Собираться в столице не рисковали: хоть и не искали уже Патрика, но оставалось опасение, что за домом Лестина все-таки приглядывали, и исключать это было нельзя. Один раз собрались у полковника. Но здесь, вдали от городского шума и скученности, можно было разговаривать без опаски и без оглядки на любопытных соседей. И даже тут, в поместье, соблюдая осторожность, они почти никогда не съезжались сразу больше чем вчетвером. И в разговорах между собой, даже наедине называли принца только Людвигом; иногда Патрик шутил, что скоро забудет данное при крещении имя.
…На широком столе в библиотеке господина ван Эйрека кучей навалены свитки, карты, письма… Поверх всего этого беспорядка – большая карта Лераны, на востоке полусвернутая, на Регвике и рядом с Ежем придавленная пресс-папье и пустым стаканом. Рядом – карта Леррена, яблоко, два пера, чернильница сдвинута в дальний угол. А в распахнутое окно такой вливается воздух – нарезай на ломти и ешь с ножа.