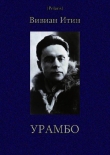Текст книги "Избранные"
Автор книги: Альфонсо Лопес Микельсен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
III
– Есть возможность оптом закупить тысячу тонн строительного железа по шестьсот песо за тонну. На рынке в розницу его цена – шестьсот двадцать! Принимайте участие. Еще есть время, – предложил мне Перес по телефону.
– Большое спасибо. Я уже объяснял – пока не могу.
События во всем мире, и в частности в этой стране, за последние несколько дней развивались с пугающей быстротой. Соединенные Штаты уже находились в состоянии войны с Германией, Италией и Японией. Сингапур, блокированный японцами, был накануне падения, после того как японская авиация затопила два лучших британских линкора. Филиппины, по сути, были почти потеряны для союзников. Но Переса и его друзей интересовало только одно: рост цен на железо!
Невероятные слухи ползли по городу о том, какая судьба ждет подданных держав «оси» в том случае, если эта страна выступит на стороне союзников. Некоторые из моих соотечественников утверждали, что нас должны будут заключить в концентрационный лагерь, находящийся где-то в горах, в самом центре страны. Сведения эти были получены якобы из достоверных источников. Кое-кто предполагал, что нас выдадут североамериканскому правительству по соглашению, которое вот-вот должно быть подписано. Наиболее оптимистически настроенные считали, что нас обменяют на граждан латиноамериканских стран, которых война застала на вражеской территории. Во всяком случае, в моей жизни вновь наступал период неуверенности, как это было накануне моего выезда из Германии. Среди перспектив, открывавшихся передо мной, была печальная возможность стать пленником нацистов, если вдруг встанет вопрос об обмене. Особенно обидно, что это происходило в те дни, когда гитлеровцы терпели поражения в России.
Как можно было в подобной ситуации задумываться над торговыми сделками?! Зачем влезать в финансовые авантюры, когда собственная свобода поставлена на карту?
Я вновь решил прибегнуть к помощи Фрица. Он занимал видное положение в финансовых кругах, имел широкие связи в обществе, так что в вопросах внутренней и внешней политики этой страны должен был разбираться лучше моих соотечественников.
В то утро в ожидании беседы с Фрицем я рассматривал огромную картину, писанную маслом, украшавшую его приемную. На полотне был изображен мой дядюшка Самуэль, отец Фрица, уже убеленный сединами. Я отметил, что сын очень похож на отца, и подумал также о том, что годы сделали Фрица очень важным. Юношеский пыл, свойственный Фрицу в годы пребывания во Франкфурте, заменила несколько напыщенная суровость, что я всегда считал характерной чертой немецкой ветви семьи К.
В кабинете Фрица хлопали двери: входили и выходили секретарши, чиновники, бухгалтеры, агенты по рекламе. Я чувствовал себя как в приемной зубного врача, где люди убивают время, рассматривая друг друга.
– Что скажет Король Эльфов? – Фриц обратился ко мне со всей сердечностью и даже вспомнил дружеское прозвище дней нашей юности.
– И ничего, и многое. Я завязал кой-какие знакомства в поместье Эль Пинар, где провел уикенд. Познакомился с дипломатом Бететой, у него необыкновенно элегантная жена. И с неким миллионером по фамилии Кастаньеда, и с очаровательной личностью по имени Мерседес де Перес, прекрасной собеседницей. Если бы не международные осложнения, то я сказал бы, что наконец почувствовал себя хорошо!
Фриц, слушая меня, проявлял такое нетерпение, как будто я пришел не вовремя. Пока я говорил, он хватался то за один предмет, то за другой – чаще всего за карандаш – и долго стучал им по столу. Потом он упирался в меня взглядом, быстро-быстро моргая.
Фрица заботило одно, только одно: его состояние. Вернее, приумножение состояния. Непонятно, как можно было думать об этом в то время, когда на все человечество опускалась зловещая ночь и когда страдания уравняли всех.
– Мануэль – человек из добропорядочных… – Фриц так и сказал, прибегнув к выражению, столь распространенному в Ла Кабрере. – Это люди известные и всеми уважаемые. Поместье принадлежит им почти целое столетие, что в мире нуворишей – явление редкостное. Асьенды постепенно переходят в руки приезжих провинциалов.
Какое значение имела для меня смена владельцев земель и поместий? Странно, что Фриц придавал этому обстоятельству особую важность.
– Когда провинциал, разбогатев, переезжает в столицу, то первое, что ему положено сделать, – это купить загородное поместье. Асьенда – безошибочный признак его социального и финансового превосходства над остальными. Дети, обычно менее ловкие и трудолюбивые, отдают землю под плантации. А третье поколение – это просто «порядочные» – вынуждено продавать свои поместья коммерсантам или только что разбогатевшим политиканам. Таков неписаный закон, а существует он с момента провозглашения республики.
Я уже начал уставать от этой светской болтовни, но Фриц продолжал поучать меня:
– Купить загородное поместье в тридцати минутах езды от города – все равно что приобрести у папы Римского титул аристократа. Вся жизнь и деятельность «новичков» проходит в старинных особняках, проданных пришедшими в упадок семьями. Как если бы в Европе вместе со старинным замком продавалось и общественное положение его бывших хозяев. Редки, очень редки случаи, когда поместье остается в руках поколения, как, скажем, Эль Пинар. Пожалуй, лишь мои кузены Каррисосы и твой друг Мануэль могут гордиться, что они владеют асьендами своих прадедов.
Смолоду Фрицу была присуща мещанская манера делить свои связи на «высшие» и «низшие». При этом на вершине, разумеется, находились те, кто был связан с ним родственными узами, как, например, Каррисосы, родственники по линии тети Эстер. Наше немецкое семейство, столь уважаемое во Франкфурте, для Фрица не составляло источника гордости. Здесь нас никто не знал: ведь мы не имели поместья за городом! А тот факт, что наше семейство было одним из первых акционеров и создателей фирмы «Ла Сентраль», в расчет не шел. Факт был слишком прозаичным, к тому же его нельзя было ни увидеть, ни пощупать.
Фриц мне ничего не говорил, но я все отчетливее ощущал, что его начинал раздражать родственник – эмигрант из Германии. Вот если бы у меня остался дом в окрестностях Лондона! Только он мог бы уравнять меня с хозяевами колониальных «замков» в Андских горах – асьенд, у которых так часто меняются владельцы!
Фриц продолжал разглагольствовать, одновременно управляя суетой секретарей и клерков. Теперь он разъяснял мне, кто из его соотечественников относился к «добропорядочным» и кто – нет. Я слушал эти несколько наивные рассуждения со смесью любопытства и скептицизма. Вот так исследователь останавливается на минуту, чтобы рассмотреть занятное растение в зарослях сельвы.
– А кто такие супруги Перес? – задал я вопрос, воспользовавшись минутной передышкой.
– Я мало знаком с Пересом. Мы с ним только здороваемся. Знаю только, что он из хорошей семьи, но тоже из тех, кто переехал в столицу из провинции. По-видимому, человек тщеславный. Увлекался политикой, был в полном смысле слова тенью одного из лидеров левых сил. Потом занимал кое-какие дипломатические посты, что позволило ему посмотреть мир. Когда-нибудь, возможно, он станет министром внутренних дел, сенатором, крупным финансистом.
– Насколько я могу судить о нем, мне кажется, он не стремится ни в политики, ни в дипломаты. Его интересуют только деньги.
– Закономерно. Я же говорил, что он очень тщеславен.
– Видимо, здесь, как в свое время на Балканах, никто не осмеливается стать так называемым «политиком», если он не богат, – сказал я. – Во Франции и в Англии быть политиком – достойнейшая профессия. А вот в давние времена в тех же Сербии и в Румынии, как я говорил, каждый стремился выдать себя за журналиста, адвоката, профессора.
– Здесь дела обстоят иначе. Я считаю, что для прогресса этой страны необходимо иметь правителей с опытом в области коммерции. Кастаньеда, получивший образование в Соединенных Штатах, со временем непременно станет министром или даже президентом. Очень толковый человек. С такими, как он, можно достигнуть уровня развития Канады или Аргентины.
– Скажи мне, Фриц, – прервал я его, – меня поражает одно обстоятельство, о котором я не решаюсь спросить у посторонних. Я так часто слышу от частных лиц, читаю в газетах одно и то же: о стремлении походить на любую другую страну. «Стать, как Аргентина, как Бельгия, как Швеция…» А почему бы не остаться тем, что вы есть на самом деле: самими собой? Я наблюдал подобное стремление «выбиться», «сравняться» и на Балканах. Когда в Румынии строилось новое здание, то его прежде всего сравнивали с каким-то зданием в Лондоне или Берлине.
– Как мы можем «остаться самими собой», если в этой стране нет ничего?! Где культура? Где традиции? Здесь нет основ для того, чтобы «оставаться собой», как ты выражаешься. В чем страна нуждается, так это в грандиозном вливании «белой крови». Нужны иммигранты – и многие. Из Европы.
– Меня удивляет и угнетает твое мнение о соотечественниках, – заметил я.
Весь вид Фрица выражал упрек в мой адрес. Я опять вспомнил о странностях его характера, о которых мне уже говорили, но я их не наблюдал до последнего времени. Правда, я слышал сотни рассказов о его жизни, но не считал их достаточно правдоподобными, и они не могли уменьшить моего уважения к нему. Передавали, что Фриц ежедневно поднимается на рассвете и сам чистит коллекцию своих ботинок, тогда как слуга читает ему утренние газеты. Страстью Фрица были часы с боем. В доме их насчитывалось одиннадцать, и Фриц заводил часы так, чтобы они били одновременно и он мог бы наслаждаться этими звуками в любой комнате, где находился в тот момент. Говорили, что в саду загородного дома он установил сложную систему электросигналов, чтобы не могли похитить его сына – как это случилось с сыном знаменитого Линдберга. Но ни одна из этих странностей не могла повлиять на нашу дружбу, разрушить ее.
Мне захотелось поглубже заглянуть в душу Фрица, прорвать его напыщенность и серьезность, пробиться сквозь толщу его «добропорядочности».
– А помнишь, Фриц, как в молодые годы ты прекрасно справлялся с тем, что теперь называешь «вливанием белой европейской крови»? Еще до приезда в Германию ты был опытным ветераном, специалистом и, наверно, здесь приумножил население… Ведь это ты научил меня заговаривать с женщинами в кафе, делать им комплименты, а потом назначать свидания на углах, пользующихся скандальной славой. И если бы не ты, так кто знает, сколько еще времени я не смог бы расстаться со своей невинностью! Нас ведь воспитывали в такой строгости…
Как бы вызвать его на откровенность?
– Недавно я рассматривал в сельской церкви картины и размышлял о том, какая разница существовала между нашими семьями. Вспомнил и ужас, который ты вызывал у всех кузенов Франкфурта своим воспитанием. Проблема совести, как мы ее понимали, никогда не стояла перед тобой. В семнадцать лет ты был свободен от условностей. Как я завидовал тебе! Ты убегал в театр или на концерт, а мы целое воскресенье читали с матерью Библию. Подумать только! Надо было запомнить каждое слово в послании святого Павла к евреям! Какие мрачные воскресенья! Твой же долг сводился к тому, чтобы заглянуть в часовню, а потом бежать дальше. О часовне написала тетушка Эстер в письме матери. И мать, человек сугубо исполнительный, заставляла тебя ходить к утренней службе. Проблема спасения души, о чем столько говорилось в нашем доме, для тебя сводилась лишь к божьему благословению перед смертью. То есть к смерти после исповеди. Загробная жизнь тебя тоже не беспокоила. Признайся, мы казались тебе откровенными глупцами?
– Нет, отнюдь.
– Тебе даже нравилось смущать меня рассказами о неприличных болезнях, которыми, скорее всего, ты и не думал болеть. Возможно, ты сейчас изменился, но я помню тебя таким, каким ты был в те годы.
Фриц снова в упор посмотрел на меня. Лицо его было серьезно и бесстрастно, что следовало воспринимать как упрек в мой адрес. Решив сменить тему разговора, я попросил:
– Скажи мне, что собой представляет Мерседес, жена Переса?
– Она из семьи, которую я очень мало знаю. Долго жила за границей. Родители ее ведут богемный образ жизни, мнение окружающих их не интересует, и общаются они только с артистами, журналистами, политиканами-экстремистами. Говорят, в этом доме мужья, которым осточертели собственные жены, идут развлекаться с женами, которым надоели в свою очередь их мужья. Дом Мерседес славится чрезмерно свободным образом мыслей. Гости отпускают рискованные шутки, бахвалятся своей антирелигиозностью и много пьют. Думаю, что они – единственная семья атеистов в стране. Насколько мне известно, ни один из детей не крещен, не приведен к первому причастию, не венчался в церкви, как здесь принято среди людей «добропорядочных».
– Значит, они не «добропорядочные»? – поймал я его.
– Нет, отчего же – «добропорядочные». Но семья Переса решительно выступала против его брака с Мерседес, несмотря на то что с финансовой стороны женитьба эта была для него выгодной. Ведь никогда не знаешь, как может поступить не верующий в бога человек. И тем не менее ничего плохого о Мерседес я не слышал: она богата, очень богата.
Слово «богатство» все время мелькало в разговоре Фрица. Я не удержался от соблазна спросить его о возможности продажи части моих акций фирмы «Ла Сентраль». И не столько ради выгоды, сколько ради того, чтобы хоть чем-то занять себя. Робко, как бы предчувствуя надвигающуюся грозу, я начал:
– Перес говорил мне, что здесь капиталы приносят до пятидесяти процентов дохода, но это если владеешь наличным капиталом, а не держишь его в акциях. Перес собирается пригласить меня в дело. Он много говорил мне о возможностях, открывающихся в связи с вступлением Соединенных Штатов в войну. Я доволен своей рентой, ее вполне достаточно. В другие времена мое состояние было гораздо большим, и тогда я также вел жизнь скромную, без излишеств. Но меня мучают угрызения совести: ведь я превратился в бездельника. Живу, ничего не делая. А ведь, продав часть акций «Ла Сентраль», я мог бы вступить в какое-нибудь предприятие.
…В сельве среди растительных чудовищ тропической флоры есть растение прингамоса; вполне безобидное на вид, оно обжигает кожу человека…
Если бы я оскорбил Фрица, он и то не реагировал бы так бурно, как сейчас, услышав мои слова. Продажа мной акций табачной фирмы грозила Фрицу серьезными осложнениями. Им овладел страх – он уже видел свою власть пошатнувшейся. В его акционерное общество вступят новые партнеры-конкуренты, претенденты на пост управляющего. А может быть, им руководило простое тщеславие – ведь тогда он не сможет считать это предприятие своей собственностью? Запинаясь, чуть не теряя рассудок, Фриц обрушился на меня:
– Ты! Ты! Продать акции, которые мы сумели сберечь даже в самые трудные для нас времена! Пустить на ветер созданное моим отцом?! И только потому, что какой-то болтун сумел внушить тебе мысль, что ты можешь больше разбогатеть на темной сделке, придуманной им, а не на том, что нам оставили наши родители? Я помог тебе выбраться из Германии! Преодолел тысячу трудностей! И первое, что тебе здесь приходит в голову, – это бросить меня, изменить мне! И все из-за нескольких лишних грошей! В таком случае нам не о чем больше говорить! Мне незачем давать тебе советы! А тебе их выслушивать. Хочешь получить свои акции – ты их получишь! Но больше на меня ни в чем не рассчитывай. Можешь поставить меня перед фактом, а я сумею защититься!
Для меня семейные отношения всегда представлялись сложной областью, где могли возникать всякого рода неожиданности. Мы выросли, твердо усвоив, что отец щедро помог дядюшке Самуэлю и тот сумел встать на ноги и завести в Америке свое дело. При этом отец и не думал о каких-то дополнительных доходах, им руководило лишь стремление помочь брату. К тому же подобное предприятие, как я упоминал, в те времена было сопряжено с громадным риском. Годы спустя я с удивлением обнаружил, что Фриц убежден в обратном, а именно: часть семейства К., выехавшая в Америку, по его представлению, пятьдесят лет жертвовала собой во имя нашего благополучия. Таким образом, не было ничего удивительного, что Фриц упрекал меня в неблагодарности: я посмел допустить мысль об отделении от предприятия, взлелеянного им.
– Дело не в том, что продажей акций я задумал увеличить свои доходы. Это – дело второстепенное. Естественно, я и не подумаю продать акции кому-то чужому, если именно это тебя беспокоит. Я продам их только тебе, если это тебя устраивает. Единственно, что я хочу, чтобы ты понял причину, заставляющую меня идти на это. Я давно излечился от желания просто «делать деньги». Теперь мне известно, с какой быстротой исчезает состояние, создаваемое годами. Правда, в Евангелии говорится, что легче верблюда провести через игольное ушко, чем богатому войти в царство божие!
Наступило долгое молчание. Я терялся в догадках, что еще может последовать за моими словами. Наконец Фриц произнес:
– Скажу тебе откровенно: ты смешон со своими библейскими притчами. Пожалуй, полвека назад во Франкфурте кто-то мог всерьез воспринимать твои проповеди. А ныне – годы новой мировой войны. И мы находимся в Южной Америке. И только старики, ханжи и безумные изъясняются так, как ты. Если тебе действительно нечем заняться, прими участие в учреждении университета «Атлантида». Предстоит много работы.
– Что же это за университет? – спросил я без всякого интереса, опасаясь очередного сюрприза, которыми меня то и дело одаривал здешний мир.
– Ты не знаешь? Университет создается членами клуба «Атлантик» для молодежи из «добропорядочных». Идея принадлежит Эрнану Куэрво, филологу, влюбленному в Германию, где в свое время он учился, а вернувшись на родину, решил создать университет типа Гейдельбергского, Оксфордского, Кембриджского, Гарвардского… В общем, чтобы университет не был похож ни на официальные учебные заведения, ни на колледжи иезуитов…
– В стране, наверно, существуют старинные колледжи еще колониальной эпохи – им пристало бы заниматься осуществлением такого плана. К тому же местные учебные заведения, должно быть, имеют интереснейшую историю – участие в борьбе за независимость…
– В их стенах учились кое-кто из героев борьбы за независимость. Но сейчас речь идет о совершенно ином типе университета. Его будут содержать крупнейшие промышленники страны и аристократические клубы. Это должно быть первоклассное учебное заведение, где будут заниматься одной политикой… Это будет нечто исключительное. Мы уже думали, что ректором должен быть Кастаньеда, хотя ему для этого явно недостает культуры, но руководить университетом – прежде всего это вопрос экономики, а Кастаньеда – крупнейший акционер преуспевающих фирм. Для начала в университете будут открыты факультеты торгового флота, аграрный и промышленный. А затем – архитектурный. Что ты думаешь обо всем этом?
– Мне кажется, что совместить такие факультеты слишком трудно. Почему бы не открыть инженерно-строительный, юридический и медицинский? По-моему, именно с этого начинают все университеты мира.
– Ты прав, но это слишком дорого. У нас есть друзья в деловых влиятельных фирмах, они смогут возглавить названные мною факультеты – и безвозмездно. К тому же будут сами субсидировать – в немалых размерах – наше учебное заведение.
– Мне дадут кафедру? – прервал я Фрица. Однако он, видимо, решил, что я шучу, и снова вышел из себя, заговорил о моем намерении продать акции «Да Сентраль» и моей сделке с Пересом. Продолжать этот разговор мне было неприятно – я поспешил сменить тему. Пытаясь быть любезным, я напомнил, что в ближайшие дни исполняется очередная годовщина со дня смерти тетушки Эстер. (Я не забыл об этом, поскольку телеграмма о ее смерти была получена еще во время моего отпуска в Церматте вместе с Линдингом и Монжеласом.)
– Да, пятнадцатого числа, – отозвался Фриц. – Какая у тебя память!
…Жизнь моя здесь по-прежнему лишена определенной цели, никаких срочных дел нет – и потому я решил соблюсти ритуал, совершаемый по средам: отправился в парикмахерский салон отеля «Прадо», находившийся в нескольких кварталах от конторы Фрица.
Здесь работала Ольга.
IV
Моим скромным познаниям испанского языка я обязан маникюрше Ольге из салона «Прадо» и секретарю адвоката Переса – Инес. Основы грамматики, которые мне ежедневно втолковывал профессор Аррубла со дня моего приезда сюда, я применял в беседах с этими двумя женщинами. Обе они принадлежали к так называемому среднему классу; обе веселые и непринужденно державшие себя, они, в отличие от дам из Ла Кабреры, не проявляли пренебрежения к родному языку.
Богатый и звучный испанский язык, как я считал, должен был бы служить предметом национальной гордости. Но, к несчастью, все оказалось далеко не так. Я уже упоминал, что те из местных жителей, кто выезжал за границу – преимущественно это были люди из привилегированных слоев – считали испанский язык чуть ли не наречием плебеев, на котором можно общаться лишь с существами низшими. В гостиных местной знати я как будто переживал сцены романа «Война и мир» Толстого – вот так же гордилось своим французским образованием великосветское общество Санкт-Петербурга и, несмотря на вторжение Наполеона, продолжало игнорировать русский язык.
С Ольгой я практиковался в испанском с первых же недель моего пребывания здесь. Она, видимо, считала, что ее профессия заключалась в том, чтобы развлекать клиентов, делать им приятное. А так как я не скупился на чаевые, она старалась занять меня разговорами, и как можно дольше.
Я не торопясь входил в холл отеля «Прадо», медленно шел к гардеробу, оставлял плащ, шляпу, трость. Меня любезно приветствовал мой парикмахер и тут же предлагал узнать, на месте ли сеньорита. Вскоре появлялась Ольга. На ней всегда был белый халатик, под ним блузка с короткими рукавами. Она встречала меня восклицанием, широко принятым в этой стране, но отсутствующим в словаре, которое поначалу мне казалось сугубо фамильярным:
– Так что, сеньор К.? Ну как?
Я отвечал с довольно глупым видом:
– Что – «что»? Что – «как»? Где?
– Что нового в вашей жизни?
В конце концов профессор Аррубла растолковал мне это условное восклицание, которое означало дружеское приветствие и вместе с тем не означало ничего.
«Так что»? Что могло быть в моей жизни интересного для Ольги? Акции табачной фабрики? Воспоминания о Германии? Все это столь далеко от нее.
Ольга была очень хороша. Чуть ли не северная красота, столь редко встречаемая в этих широтах: светлые глаза, русые волосы. Ей нельзя было дать и двадцати пяти лет. Кожа у нее была удивительной белизны, иногда мне казалось, что на ее запястьях проглядывали синяки, происхождение которых оставалось для меня загадкой. Они могли быть следами и мужских побоев, и мужских ласк.
Когда Ольга поднималась и шла по салону в поисках воды, щипчиков или других принадлежностей, мне казалось, что она сознает, какие бурные желания вызывает ее тело у присутствующих клиентов. Покачивание бедер было зовом, брошенным тем, кто пожирал ее взглядами. В чем-то она походила на Исольду, супругу дипломата Бететы. Но бурная светская жизнь лишила ту очарования и свежести, которые так привлекают в молодых женщинах и которые отличали Ольгу.
Около часа мы мирно беседовали с ней, в то время как она занималась моими руками. Мы говорили о ее работе, домашних заботах, других, не менее важных делах. Ольга никогда не училась в швейцарских коллежах, не бывала в Соединенных Штатах Америки. Не имела никакого представления о лыжах, а игру в гольф называла «игрой в мячик» (к тому же ей пришлось наблюдать за этой игрой из-за ограды с большого расстояния). Ольга с жаром говорила о том, как живут богатые люди, и за ее словами проглядывала ее собственная бедность. Она прекрасно сознавала свое положение, как и то, что клиенты, жаждавшие поближе познакомиться с ней, считали любую фамильярность по отношению к маленькой маникюрше своим правом. Когда Ольга рассказывала обо всем этом, она представлялась мне монахиней, поверяющей духовнику свои душевные испытания.
Иногда я встречал ее на улице. Обычно она была одета в красный облегающий костюм, белокурые волосы развевались по ветру. В такие моменты она становилась похожей на молодых, аппетитных, как молодое яблоко, англичанок, которые с невинным видом направляются в парк по соседству с Букингемским дворцом в поисках солдат из королевской гвардии. Отдаваясь ласкам и поцелуям, эти девицы тем не менее никогда не ставят под угрозу свое целомудрие.
У Ольги был приятный звонкий голос, она отличалась природным умом, помогавшим ей без всяких усилий скрывать свое невежество. Причем делала она это всегда с пылкостью необъезженной лошади.
Нередко я думал над тем, что страну, которую я стремился узнать и полюбил, которую уже считал своей второй родиной, скорее представляет такой вот тип женщин, как Ольга и Инес. Сердечные и открытые, как резко отличались они от посетительниц великосветских салонов и знакомых Фрица, которые были заняты бесконечными мелочными склоками, надуманными заботами, пустым соперничеством, но чаще они с тоской обменивались воспоминаниями о немногих прожитых за границей годах.
По мере того как я ближе узнавал и Ольгу и Инес, передо мной открывался еще один мир. То был мир материальных тягот и лишений, тяжелый и грозный. Но во время работы я не видел этих женщин удрученными, обе они были живым воплощением оптимизма, уверенности и независимости.
Первые подарки на пасху я всегда покупал для Ольги и Инес: они были так терпеливы со мною! Обе они даже заставили меня поверить в то, что им приятно мое общество. Это началось с той минуты, когда перед ними появился чопорный и несколько смешной немецкий буржуа, который никак не мог отделаться от своей церемонности. Привлеченный их сердечностью, немало часов я провел в кабинетике секретаря. Переса и в кресле салона «Прадо», заставляя моих собеседниц выслушивать немыслимую смесь испанских, румынских и французских слов.
Ольга и Инес, как мне казалось, были воспитаны точно протестантки, у которых легкомыслие считается великим грехом. Обе они идеально выполняли свои обязанности, и я полагаю, что благополучие хозяев, у которых работали эти женщины, в немалой степени зависело от старательности последних.
Позднее в моей жизни наступил момент, когда люди, которых я считал своими друзьями и которым доверял, стали избегать моего общества. И только Инес и Ольга не изменили своего отношения ко мне, оставаясь по-прежнему сердечными и душевными. Им были чужды и политические интриги, и зависть к материальному благополучию. Им не были известны ловушки, которые уже затягивали меня в свои шестерни.
Целительным бальзамом служили мне слова этих женщин в дни, когда, казалось, земля уходила у меня из-под ног. Произошло то, чего я никак не мог предвидеть. Удар пришел оттуда, откуда я мог меньше всего его ждать, – из Ла Кабреры.
Предательство неотделимо от слежки. Никто не мог быть уверен в том, что его личные разговоры не станут достоянием определенных политических кругов. Частные дома, клубы, рестораны кишели доносчиками, которые, пользуясь дружескими связями, «выявляли врагов». Случаи предательства были многочисленными. Но я не помню такого, чтобы какая-либо из машинисток выдала секрет фирмы, где она работала. Бедные и «устроенные», тщеславные и скромные, хорошенькие и некрасивые – ни одна из них не предала ни за какие блага доверие, оказанное ей людьми.
Я как сейчас вижу Ольгу. Она как-то по-особому подбиралась, когда в парикмахерскую входил сотрудник посольства Соединенных Штатов по фамилии Мьюир, сразу становилась высокомерной и надменной. А ведь перед американцем этим заискивал каждый. Еще бы! Всем известно, что Мьюир связан с разведывательным отделом посольства, который составлял так называемые «черные списки». Все – от швейцаров и до владельца модного салона – склоняли головы перед всемогуществом мистера Мьюира, как если бы речь шла о благодетеле-миссионере, принесшем слово божие в дебри Африки. «Мистер Мьюир, пожалуйте сюда!», «Мистер Мьюир, будьте добры!», «Мистер Мьюир, пожалуйста, присядьте!», «Мистер Мьюир, прошу вас, встаньте!»
Ольга – единственный человек, интересовавший лично Мьюира, – в наших разговорах называла его не иначе, как «гринго». Она не придавала никакого значения ни тому, сколь важная персона находится перед ней, ни тому, что эта персона может решать судьбы таких людей, как я. По ее словам, ей приходилось чуть ли не каждый день выслушивать предложения Мьюира прокатиться в автомобиле или выпить у него дома рюмку коньяку. И Ольга отказывалась. Просто так, без всяких объяснений. Думаю, что любая дама высшего света, тем более немка или итальянка, пошла бы на любые уловки, чтобы заполучить подобное предложение Мьюира, дабы не впасть у него в немилость.
«Черные списки» ничего не означали ни для Ольги, ни для других женщин ее положения. Тем более что Мьюир и все его правительство в данном случае были бессильны. Тот факт, что капиталисты бывших колоний сегодня в ожидании благ склонились перед новыми метрополиями, никоим образом не касался этих женщин. Они не желали стать игрушкой таких типов, как мистер Мьюир. Положение Ольги было слишком скромным, чтобы ей могли повредить решения вашингтонского правительства. Какое счастье, что у нее не было ни брата, ни мужа, ни сына, связанных с коммерцией! Тогда бы она не смогла называть мистера Мьюира «гринго», не кивала бы ему пренебрежительно вместо приветствия. Все было бы по-иному, если бы ее судьба, как и судьба многих, зависела от настроения этого чистюли, вчера еще почти мальчишки, который сегодня чувствовал себя хозяином мира. Вообще-то он должен был бы сражаться рядом со сверстниками в кампаниях на Тихом океане или в Европе. Но любвеобильная мамаша мистера Мьюира добилась того, что ее сынку был предоставлен прекрасный дипломатический пост: молодой человек вел активное расследование деятельности «пятой колонны» в Южной Америке. На деле же было не совсем так. Сколько зла совершил от имени Соединенных Штатов Америки этот «гринго», о котором все в городе – кроме, естественно, сотрудников американского посольства – были того же мнения, что и Ольга!
Ольга буквально уничтожала этого хлыща своим пренебрежением, когда он пытался заигрывать с ней, а я испытывал отеческое удовлетворение (а может, тайную радость влюбленного?). Ее взгляд будто испепелял Мьюира всякий раз, когда, кладя чаевые в кармашек Ольги, он пытался коснуться рукой ее груди.
Много месяцев спустя я видел, как пожилые, всеми уважаемые люди терпели наглые выходки Мьюира, словно от необходимости унижаться перед очередным тираном зависела их судьба на ближайшие годы. Граждане стран «оси» дрожали за свои жизни, опасаясь попасть в «черный список» посольства Соединенных Штатов. Дрожали, хотя никакой вины за ними не было. Поэтому все торопились угождать молодому человеку, игравшему главенствующую роль в составлении этих списков.