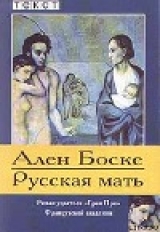
Текст книги "Русская мать"
Автор книги: Ален Боске
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
Сезан, Марна, сентябрь 1976
– Что ты всё руки мне целуешь? Подумаешь, руки! А в щеки боишься, да? Что я, не моюсь, что ли? Я, по-твоему, гнию? Вы думаете, я гнию? Ну да, гнию, но не сгнила же еще, правда, сыночка?
– Сегодня я без цветов, у тебя и так их полно.
– Да, как на кладбище.
– Но ведь ты любишь розы. Смотри, какие чайные розы, вон там, у окна.
– И на что они мне? Ты же знаешь, что я уже не чувствую запаха. Гладиолусы я терпеть не могу. А хризантемы впору приносить покойникам.
– По-моему, за тобой тут неплохо ухаживают.
– Конечно, чтобы с тебя содрать побольше.
– У тебя вроде все есть.
– Да все – лекарства, каша, уколы. Души только нет.
– Но тут всего шесть или семь больных. Твой врач сказал, что тебе здесь всё дадут.
– Дадут! Догонят и еще добавят.
– Ты разговариваешь тут с кем-нибудь?
– Разговариваю: хорошая погода, плохая погода, ветер. Они доходяги еще больше моего.
– Но у тебя есть телефон, радио. Телевизор в гостиной, в двух шагах. И даже не в двух, а в одном. Только скажи – сестра с радостью тебя проводит.
– Эта дура, что ли?
– Почему? Она очень милая.
– Тебе милая. Засунул мать черт-те куда, в богадельню, даже не спросил, согласна мать или нет!
– Врачи не спрашивают согласия больного. После двустороннего воспаления легких тебе необходимо пожить на покое. А тут и есть покой.
– Как в могиле.
– Ты во всем видишь только плохое. Считай, что ты на отдыхе. Вокруг поля, ивы. Золотая осень. Запах свежего сена. Смотри, в трех километрах отсюда...
– Ты знаешь, что я слепну, и говоришь – "смотри"!
– Ну, извини.
– Нет, это ты меня извини. Я старая перечница. Что ты там еще принес?
– Коробку конфет и киви.
– У меня больше никого нет, кроме тебя. Что бы я без тебя делала?
– Ладно, мама, не плачь.
– У меня внутри ничего не слушается, и глаза тоже. Сердце стучит, как молоток. А ночью я должна звать сестру, чтоб отвела меня в туалет. Ты представляешь, двух шагов и то не могу сделать без помощи. Какой стыд!
– Ничего, через две недели окрепнешь. Доктор предупреждал, что в один день не выздороветь.
– Знаешь, кот-де-франсовские конфетки стали хуже. Ликера в них теперь меньше кладут. А две попались даже пустые. Всюду жулье!
– Ты хотела пройтись по саду?
– Я оделась не для сада, а для тебя.
– Но прогулка полезна для здоровья.
– Господи, как же все пекутся о моем здоровье! Лицемеры. Дай палку.
– Может, возьмешь меня за руку?
– Нет, дай палку. Мне так лучше. Скажи, я сегодня трясусь не больше, чем всегда?
– Да нет.
– А это что за сверток?
– Это тебе теплая кофта.
– Покажи. Верблюжья шерсть. Почему ты такой транжира?
– Хотел, чтоб тебе понравилось.
– А мне не нравится. Наверняка выбирала твоя жена. Уродина.
– Ты же обещала сдерживать себя.
– А как сдержать больное сердце, старость и немощь? Мне не так уж много осталось жить. Хоть перед смертью скажу правду. Тебе первому.
– Осторожно, тут ступеньки.
– На днях я тут села, на самом ветру. И никого не было мне помочь. Я вижу, ты хочешь, чтобы я говорила о другом? Так вот, не нужны мне твои подарочки. Не люблю ни твою жену, ни тебя при ней.
– Будь ты проницательней, то поняла бы, что я упрямый в тебя и я никогда ни при ком, а всегда сам по себе. Ни от кого не завишу.
– У тебя на все есть оправдание. Сколько ты отдал за кофту?
– Не важно. Надень ее сегодня же.
– Конечно, надену. Все, что от тебя, – радость. Постой-ка. Тридцать шагов пройду – больше не могу.
– На прошлой неделе ты и десяти не могла. Вот видишь: ты уже поправляешься.
– Просто сегодня я хорошо спала, со мной такое редко бывает. Мне снился твой отец. Высокий, красивый. Читал стихи на берегу какой-то большой бурной реки. Боже ж мой, это я его убила!
– Перестань. Ты тут ни при чем. Сотый раз тебе говорю.
– У каждого свои раны.
– Но зачем растравлять их?
– Я же не чурка бесчувственная, как некоторые.
– Я не бесчувственный, просто я переживаю по-своему.
– А никогда не покажешь.
– Выставлять напоказ чувства – дикость.
– Скажи еще, что я дикая. Ты-то со своей женушкой не дикие.
– Давай посидим на скамейке. Уже и листья падают.
– Терпеть не могу хозяйку. У нее одни деньги на уме. А муж ее приятный человек. Португалец. Видишь, сарайчик за деревьями? Он хочет устроить там гончарную мастерскую. Показывал мне вазы: сам сделал. Настоящий художник, принес мне изюму, но просил не говорить жене. И дал прочесть книгу про глиняные изделия. Я ведь лепила из глины... Ах, как летит время...
– Уверяю тебя, ты еще сможешь работать, когда поправишься.
– Красивая страна Португалия. Он меня пригласил туда к своей родне на будущее лето. А мне так не хватает солнца и моря. Куплю билет. Всего-то два часа лету.
– Ты же никогда не летала.
– А ты вечно все усложняешь.
– В твоем возрасте летать не просто.
– Это мы с ним обсудим. А в Португалии хорошо.
– Хорошо там, где нас нет.
– Но здесь же сущая тюрьма!
– Поправишься, переедешь.
– Поправишься! Переедешь! Пустые обещания.
– Послушай, мама, не глупи, сейчас тебе нужен покой, доктор ясно сказал.
– Мало ли что доктор сказал. Вы втроем сговорились, он и ты с женушкой. Успокоили меня под замком, это да. А в Португалии, я слышала, огромные эвкалипты. Ты время не пропустишь?
– Сиди здесь, я принесу тебе чай с конфетами.
– Хочу в Португалию.
– Надо спросить доктора.
– Вы все считаете, что я выжила из ума. Я же не слепая, я все вижу. И этот ваш шахер-махер тоже.
– Какой шахер-махер?
– Сам знаешь какой.
– Если тебе что-то нужно, так и скажи.
– Я хочу к твоему отцу... Что молчишь?
– Твой хозяин прав. Португалия – прекрасная страна. В лиссабонском музее потрясающий Босх – монахи верхом на летающих рыбках. Один из лучших современных поэтов, Фернанду Песоа, тоже португалец.
– Послушай, а что, если я вернусь в Нью-Йорк? Твой папа меня очень ждет.
– Ты прекрасно знаешь, что папа умер.
– Ничего подобного.
– Скоро созреют твои любимые груши, дюшесы.
– Думаешь, я совсем спятила?
– Ну что ты, просто устала.
– Я хочу уехать.
– Ну вот, заладила. Тебе нигде не сидится. Поживешь два-три месяца – и рвешься уехать. И от меня уехала из блажи.
– Блажь? Эта твоя женушка, немая мегера, – по-твоему, блажь?
– Она тебе ничего плохого не делала.
– Не делала, зато думала.
– Она тебе слова поперек не сказала.
– А лучше бы сказала, чем волком смотреть.
– Ты знаешь, что тут я с тобой никогда не соглашусь.
– Потому что боишься ее. Хорохоришься, умничаешь, а сам жалкий трус.
– Тебе, как я вижу, стало получше. Так что давай не будем.
– Нет, будем. Хочу сказать и скажу и тыщу раз повторю, если захочу.
– Ну конечно. А зачем ты сбежала из Анетского замка, ни слова никому не сказав?
– Потому что там жандармы. Они заставляли есть в одно и то же время. Опоздаешь на пять минут – не получишь супа. Просто концлагерь какой-то! Все по звонку.
– А из отеля "Аржансон"? Ведь тоже сбежала...
– Я должна была побывать на могиле отца.
– И тут плохо, и там нехорошо...
– В этом мире мне теперь везде плохо.
– Неужели здесь тоже? Здесь так спокойно.
– Одиноко, по-твоему, – значит спокойно? А с совестью как быть?
– Врач же прописал тебе успокоительное.
– Душу не успокоишь. Вы хотите, чтоб я стала как лапша вареная, как картошка – наступишь, и нету. Не дождетесь. Твой отец теперь святой, он меня защитит.
– Ну почему мы должны непременно ссориться?
– Ты сам виноват.
– Наверное, я плохой психолог.
– Ужасный. Боже мой, у меня совсем не осталось друзей!
– Но я же знакомил тебя с разными людьми! А помнишь, двоюродные братья? А Наденька Красинская, одесская подруга молодости?
– Старая грымза, у ней только и разговору что о покойниках. И уровень развития у нее слишком низкий. И вообще, все, что она говорит, мне совершенно неинтересно. Хватит с меня страданий. Не хочу новых. Хочу к твоему отцу.
– Мама, надо жить – сегодня.
– А прошлое и есть сегодня, и даже завтра, и послезавтра, можешь ты это понять? Боже ж мой, наверно, вы правы. Как по-твоему, я совсем спятила?
– Нет.
– Ты говоришь одно, а думаешь другое. Потому что после этих лекарств... у меня с головой не все в порядке. Так и скажи.
– Ты просто устала.
– Ну да, и мне нужно отдохнуть. У вас только и разговору что об отдыхе.
– Потому что он тебе действительно необходим.
– Ты знаешь, сыночка, я же все понимаю. И врешь ты мне меньше, чем другие. Дорогой ты мой. А я тебя обижаю. Я, сыночка, страдаю от этого еще больше, чем ты. У меня иногда впечатление, что я, ах, Боже ж мой, разваливаюсь на куски и что я – уже не я.
– У тебя нарушено кровообращение. Кровь не всегда в достаточном количестве поступает в мозг. И оттого все твои "впечатления" и головокружения. Только в этом дело.
– И все ты врешь. Говоришь, чтоб меня успокоить.
– Нет, просто не поддаюсь панике.
– Ты бесчувственный. Ну откуда ты взялся такой бесчувственный?
– Будь я бесчувственный, плевал бы на твои оскорбления и на все остальное.
– Может, у меня с головой и не в порядке, а у тебя с душой. Уходи!
– Гонишь меня?
– Потому что, когда тебя нет, мне кажется, что ты хороший мальчик. Ты совсем изменился. Тебя подменили. И ты знаешь кто.
– Не хочешь прогуляться до дороги?
– Нет, хочу вернуться. Чаю выпьешь?
– Если хочешь. Через десять минут за мной заедет знакомый с машиной.
– Я так и знала, что ты не засидишься. Сорок минут с матерью тебе выше головы. Знаю я тебя, эти твои машины – одни отговорки! Напустишь на себя важный вид, как будто ты министр и очень спешишь, сунешь мне дрянную тряпку, кофтенку, чтобы задобрить, и пропадешь на неделю. А потом позвонишь и скажешь, что должен съездить за границу. А на самом деле вранье, чтоб реже бывать у матери.
– Ты могла бы быть полюбезней.
– Хватит с тебя жены. Уж она-то у тебя любезная, змея подколодная.
– Вот видишь, я же прав.
– Сыночка, ты всегда прав. Ты скажешь мне правду?
– Какую?
– Папа погиб?
– Ты же знаешь, что да, три года назад, первого мая семьдесят третьего года.
– Боже, как давно! Но вам все равно его у меня не отнять, он всегда со мной. Как тебе чай?
– Душистый.
– Что с тобой? Ты хочешь что-то сказать? Что такое?
– В прошлый понедельник ты собрала чемоданы. Мне сказала хозяйка.
– Мне давно пора домой.
– Твой дом сейчас здесь. А ты просила медсестру взять тебе билет в Париж.
– Потому что в "Аржансоне" мне хорошо. И хозяин – такой милый человек.
– Одна ты бы не доехала.
– Ну да, померла бы в пути, и слава Богу! Толстой тоже помер в пути. А он был моложе меня. А ты бы и рад был, в общем-то. Только совесть бы тебя замучила!
– По закону тебя нельзя здесь удерживать.
– По закону, не по закону! Еще жандармов позовите.
– Обещай мне, что не сбежишь.
– Раз уж тогда не сбежала...
– Приступ случился, потому и не сбежала. Ты спишь и видишь уехать. Никак не угомонишься.
– По-твоему, я должна притворяться и заверять тебя, что всем довольна! Счастливая старая карга! Так тебе спокойней.
– Послушать тебя, твоя главная радость – когда я беспокоюсь.
– Ну давай, давай, говори все до конца.
– И скажу.
– Хочешь еще конфету?
– Все-таки де Голль лучше, чем этот Гишар.
– Не Гишар, а Жискар. Гишар – министр.
– Жискар... как-то там дальше...
– Жискар д'Эстен.
– Слишком длинно для меня. А он со вкусом. Но Помпиду выглядел честней. Мне нравятся толстые политики. Такое лицо, как у Помпиду, очень трудно вылепить. У него черты нечеткие. Или уж тогда будет карикатура. Посмотри на Черчилля. Вот для скульптора находка. И Троцкий тоже. И немец, этот, как его?
– Аденауэр?
– Нет, молодой, с глазами бездельника.
– Брандт?
– Да, да! Вот это модель так модель! Что молчишь? Ну да, тебе плевать на мою скульптуру.
– Просто ты еще слабая. Доктор что сказал? Понапрасну – никаких усилий.
– И никаких удовольствий, кроме как сикать да какать?
– Мне нравится твоя бодрость.
– А, ты принес мне Тургенева! Ах, какой он джентльмен. Какой он элегантный!
– Элегантный, но не глубокий.
– Ох, уж эта ваша нынешняя глубина! Знаешь, что я тебе скажу? Ваша глубина – это все запутать так, чтобы потом не распутать.
– Хочешь перечесть Тургенева?
– Я теперь с такой головой читаю одну страницу три дня. Смотрю в книгу, вижу фигу. Но ты этого не слушай, а то еще решишь, что я выжила из ума. Выжить-то я, может, и выжила, но тебя это не касается. И не смей требовать у доктора справку, что я в маразме.
– Не потребую, не бойся.
– А я не тебя боюсь, а твоей женушки.
– Не вмешивай Марию в наши дела.
– Через месяц ты сдашь меня в богадельню, я уверена.
– Я подышу для тебя прекрасный пансион в Каннах, с мимозами и пальмами.
– Спасибо, сыночка. Уж и не знаю...
– Я тебя утомил.
– Ну ты совсем дипломат – намекаешь, что сам от меня устал и сейчас уйдешь. Боже, твой отец был такой внимательный! Приносил мне газеты и показывал, кто из знаменитостей хорош для лепки. Это он показал мне герцогиню Виндзорскую с ее кривым ртом... Я за нее раз десять бралась... А Юл Бриннер...
– Актер?
– У него был такой интересный череп. Очень интересный. На гладком шаре вена вьется, как змейка. Ты не представляешь, как это интересно. И у Никсона тоже нос сапогом. Что о нем, кстати, слышно?
– Он жулик.
– Но с русскими он знал, как себя вести. Габена тоже интересно лепить, только старого, когда он уже толстый и злой. Наверно, у него шикарная физиономия!
– Хочешь его фотографию?
– Хочу ли я фотографию! Он еще спрашивает! Да отец завтра же мне принес бы целую кучу фотографий, и таких, и сяких, и не знаю каких!
– Но тебе же пока нельзя работать.
– И мечтать тоже нельзя? Ты такой жестокий, что даже мечты у меня отнял. Дескать, старая развалина знай свой шесток. Подыхаешь и подыхай. Вот вы какие, интеллигенты!
– Мама, не надо.
– Увидел бы тебя отец, снова умер бы.
– Успокойся.
– А я и не волнуюсь. Он в последние годы опасался тебя.
– Неправда.
– Конечно, неправда. Он обожал тебя так свято, так трепетно! Но должна же я тебе что-то ответить!
– У тебя нет никакой логики.
– Зато у тебя ее чересчур много.
– Мы с тобой никогда не договоримся.
– Сережа меня тоже бросил.
– Твою любимый племянник приезжал к тебе две недели назад, забыла?
– Обещал приехать, а сам не приехал.
– Ты забыла. Я же сам его привозил.
– Все вы заодно. Будете теперь говорить, что он приезжал...
– Ну да, приезжал из Лондона...
– ...и посадите меня в дурдом.
– Хочешь, напишу ему, чтоб он подтвердил?
– Ладно, просто у меня опять провал в памяти. Мне здесь хорошо. Спокойно.
– Ну и прекрасно! Вот твой чек за этот месяц, подпишешь?
– Ни за что. Вы меня обкрадываете.
– Без твоей подписи денег не получить. А если не получить – чем платить твоей хозяйке?
– А сколько твоя женушка прикарманит моих денег?
– Мне надо отвечать?
– Ишь, какой хитрый.
– Хочешь, найми адвоката.
– Только адвоката мне не хватало! Да ни за что!
– Тогда доверяй мне.
– Хочу доверяю, хочу не доверяю. Я, наверно, влетаю тебе в копеечку.
– Твой чек покрывает треть расходов на тебя.
– Ох, умирать – дорогое удовольствие. И зачем ты мне это говоришь? Я не желаю знать, что ты из-за меня разоряешься.
– Ты же говоришь, что я вор. Должен же я...
– Ничего ты не должен. Твой отец тактично промолчал бы.
– Отец никогда не просил тебя подписывать чек.
– Отец заботился обо мне.
– Сколько можно повторять одно и то же?
– Хорошо, не буду. Подписываю в последний раз. Отец не мучил меня пустяками.
– И не-пустяками тоже.
– Не смей чернить его память!
– Его память мне дорога, как и тебе!
– Ты никогда о нас не думал.
– Просто была война.
– Ты забыл нас еще до всякой войны.
– Исказить прошлое – проще простого.
– Ты приносишь мне подарки, а я только и знаю, что тебя оскорблять. Видишь, до чего я докатилась. Сердце износилось, чувства все перепутались. То такие прекрасные, нежные, то вдруг скисли. Как молоко.
– Я тоже тут виноват.
– Надоела тебе мать, скажи честно?
– Чепуха.
– Да, сыночка, все – чепуха. И что мать умирает – тоже чепуха. Обычное дело! Я же говорю, увидел бы отец – второй раз умер бы. И третий, и пятый, и десятый. Потому что ты и есть его убийца.
– Не мучай сама себя.
– Отец – святой человек.
– Святой, потому что ты скучаешь.
– А скучаю, потому что ты не смог заменить его.
– Я стараюсь.
– Стараешься обидеть! Отец был добрый.
– Ты забыла, как он злился?
– Захотела – и забыла.
– Очень удобно: хочу – помню, не хочу – не помню.
– Так с матерью не говорят.
– А с сыном так говорят?
– Твой отец – святой.
– Ну, пожалуйста, тверди на здоровье. Твори себе кумира, если тебе от этого легче.
– Боже, какой ты равнодушный!
– Просто не вижу необходимости обожествлять человека. Скажи еще, что он гениальный поэт, не хуже Расина и Гете.
– Не богохульствуй.
– Логика у тебя железная. Поздравляю.
– С тобой невозможно ни о чем говорить.
– По-твоему, говорить – это нести чушь.
– Откуда ты знаешь, может, через двести лет его будут читать, а тебя забудут.
– Забудут и меня, и его, и даже тебя.
– Хочешь сказать, что мне незачем жить?
– Прости. Забыл, что с тобой нельзя на равных.
– Ты же первый кричишь, что равенство – чушь.
– Но не с матерью же.
– Ты уверен, что мои деньги целы?
– Твои деньги в банке. Можешь проверить в любой момент.
– Я не ты, я тебя не проверяю.
– Ты же говоришь, что я вор.
– Если вор, то только с моего разрешения.
– Да не трогаю я твои гроши.
– Твой отец всю жизнь работал, чтобы оставить мне эти гроши. Если бы я понадеялась на тебя, то теперь умерла бы с голоду.
– Думаешь, это очень приятно – все, что ты говоришь?
– Говорю, как думаю.
– Машина уже ждет.
– А ты так ничего и не решил. Может, снимешь у меня со счета деньги на отдых?
– Без твоей подписи нельзя.
– Хочешь, укради немножко. Так, чтоб не очень заметно. У матери своровать не грех.
Мать простит.
– Мне не нравятся твои выражения.
– Подумаешь, умник! Начитался, а знаешь все только по верхам.
– Тебе непременно надо довести меня. И непременно за что-то простить. У тебя прекрасная роль.
– Ты меня плохо знаешь. У меня сердце огромное, как океан.
– Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну вот, подбородок дрожит. Сейчас заревешь.
Напрасно, не поможет.
– Господь да простит тебя!
– Не кривляйся. Ты же не веришь в Бога.
– И потому иногда страдаю. Вообще-то иногда я молюсь... молитва помогает.
– Как снотворное.
– Ты такой же Фома неверующий, как и твой отец.
– По крайней мере, тут мы с ним похожи.
– Не клевещи на него. Он настоящий поэт.
– Почти как настоящий.
– Во всяком случае, его я стихи понимаю.
– А мои – нет. Да ты уже двадцать лет моих книг не открываешь.
– Они, как вообще все теперь, тяжелые, непонятные и неприятные.
– Я не могу жить вне времени и пространства.
– Ты нарочно пишешь так, чтобы я не поняла.
– Конечно, нарочно.
– А у меня, к сожалению, не получается.
– Что не получается?
– Сам знаешь что.
– Не знаю.
– Умереть. Умереть – уметь надо. Вот и приходится жить, дожидаться смерти.
– Что у тебя за мысли!
– А какие у меня еще могут быть мысли! Вчера вечером выпила две лишние таблетки. Но меня просто вырвало.
– Хозяйка сказала, что это несварение.
– Это самоубийство.
– Тогда это глупость.
– Твоя мать вообще дура. Ты даже не просишь меня больше так не делать!
– Прошу.
– Так не просят. Говоришь, а сам через пять минут полетишь на всех парах и пошлешь свою бедную мать к черту.
– Я вернусь самое позднее через неделю.
– Ты всегда так говоришь. А потом никогда не приезжаешь. Для тебя эти приезды – тяжкий крест. Ты устаешь еще больше меня.
– Ты будешь хорошо себя вести, ладно?
– Хорошо себя вести и радоваться своей убогой жизни. И ждать тебя. Да, совсем забыла. Тот желтый пакетик, на камине, дай-ка его сюда. Не ты один даришь подарки. Я тоже. Это портсигар из крокодиловой кожи. Тебе на день рождения.
– Потрясающий... У меня день рождения через полгода. Зачем ты потратилась?
– Через полгода, ну и что? Через полгода меня уже не будет на свете. Вот и хочу поздравить заранее.
– Ты еще повоюешь.
– И потанцую с кавалерами! Ну, нравится хоть немножко?
– Очень нравится. Очень!
– Ладно, там твой приятель сидит в машине. Езжай. Не целуй меня, а то получится, что из корысти.
– Мама, спасибо.
– Скажи своей женушке, что она ведьма. Скажешь?
– Скажу, мама.
Брюссель, осень 1925
Ты вбежала в родительскую гостиную. На тебе было длинное коричневое платье. Полтора года назад в Болгарии ты коричневый цвет терпеть не могла. Ты немного пополнела, и это тебе очень шло. Волосы твои, прежде короткие, отросли до плеч. Секунду ты, похоже, колебалась: кого поцеловать первым? Отца, мать или сына? Раскинула руки, рванулась грудью вперед, но осталась на месте, словно остолбенела от переполнявших чувств. Тогда мать подошла к тебе, и вы с плачем обнялись. Ты снова заколебалась: отец или сын? Я отстранился – как бы скромно давая понять, что уважение к старшим превыше всего. Ты поцеловала отца горячо, но сосредоточенно-сдержанно. Никаких, следовательно, сомнений: мать для тебя превыше всего, и пусть все это видят. Я отступил на шаг: счастлив, что ты рядом, но не верю, что и правда рядом, потому что за время долгой разлуки совсем отвык от тебя. Я растерялся и молчал. Ты подошла ко мне не сразу. Осмотрела меня, разразилась восклицаниями с рыданиями вперемежку, восхитилась моим ростом и видом: вырос на целую голову и щечки – кровь с молоком. Я хотел подбежать прижаться к тебе, но ты отвернулась, подошла к матери, и снова поцелуи. «Спасибо, спасибо, спасибо», – твердишь ты шепотом, быстро, прерывисто. Затем к отцу – распрямилась, крепко жмешь ему руку: первым делом благодарность. Прошло уже минуты три. Наконец ты расслабилась, мелким шажком подошла ко мне, опустилась на колени, чтобы головой к голове. Молчишь и медленно-медленно гладишь мне волосы, лоб, нос, плечи. Дед с бабкой засуетились у стола с огромным заварочным чайником и пучками цветочков, маков и васильков, у каждой тарелки. Отец, стоявший молча, роняет дежурные любезности.
Мы с тобой – островок посреди них. Они – странно мутнеют, расплываются, они отдаляются, отдаляются. И мы их не слышим уже и не видим. Ты продолжила осмотр. Молча и жадно вглядывалась в каждую черточку моего лица. Наконец поднялась, взяла меня за руку, огляделась, подвела к балкону, открыла балконную дверь. Перед нами три густых дерева. С ними да еще с небом ты поделилась нашей встречей. Сказала мне – вдохни глубже, и мы вдохнули пространство. Ты не хотела делиться радостью с ними, с теми, кто далеко-далеко в двух шагах занимались чаем, тортом, цветочками. Ты говорила коротко и сама понимала, что слова – не то. Я был доволен. Интересно, думал, что теперь, с твоим приездом, изменится? Бабушка вышла к нам на балкон – по морщинке у тебя на лбу я понял, что некстати. Третий оказался тут лишним. Нас позвали к столу. Обняла одной рукой меня, другой – мать. Глаза умоляют: дай еще минутку побыть с ним вдвоем. Но нет, никаких минуток, не положено.
Ваши разговоры я понимал только наполовину. Отец, показалось мне, стал чопорней, чем в прошлом году. И я тотчас возненавидел его трость с набалдашником. Дед с бабкой говорили с ним церемонно и вежливо, он так же вежливо отвечал им. Мне казалось все это фальшью. Было неприятно, вдобавок затошнило от торта с кремом. Те, кто любили меня, образовали невыносимо тягостную массу. Сидеть было неудобно, ноги затекли, я ерзал и дергался. Вы любезничали друг с дружкой, один немногословно-скованно, другой громогласно-страстно. Я гадал, кто из вас больше радуется семейному сбору. Долго смотрю на бабку: вся она – одна сплошная улыбка. Бабушка рада, но с чувствами вполне справляется, от радости с ума не сходит, говорит совершенно спокойно. Дед доволен, но, судя по бородке, приподнятой к люстре, скорее – самодоволен; царь и бог по старшинству вправе задавать вопросы и не торопиться отвечать на любезности; он полон сознания выполненного долга: ему поручили чадо, и с поручением он справился, сделав из чада воспитанного мальчика по всем правилам обывательского хорошего тона, когда всего в меру – знаний, хороших манер, здорового тела и здорового духа. А отцу явно не по себе; он, выходит дело, неудачник: бежал из России, искал счастья в Болгарии, не нашел, вернулся в Бельгию отыграться; за столом все, кроме меня, – его судьи, они тактичны и участливы, они дают ему время встать на ноги, они говорят ободряюще, но, когда умолкают, молчанием спокойно и неизменно высказывают осуждение.
Все, что я видел и знал, вещи, лица, чувства, делил я на три категории: прелесть, дрянь и не знаю что, но мне – неприятность. Отца в данный момент отнес я к категории "дряни". Он слаб и безволен, и лицо у него озабоченно, будто наша встреча ему – головная боль. Показалось мне, что он намеренно неловок, не потому что застенчив вообще, а потому что стесняется говорить о своих планах. В конце концов, он и сам толком не знает, что предпримет и как прокормит семью, но ведь имеет право осмотреться, присмотреться к забытой стране, а уж потом что-то решить. А вот дед с бабкой – в категории "прелести". Дед, по-моему, порой слишком со мной строг, но великолепен, а бабушка хороша, потому что сдержанна, да и незачем ей быть несдержанной, я и так все читаю в ее душе.
К какой категории отнести тебя, я пока не понял: "прелесть" ты или "дрянь"? С одной стороны, всей душой, безумно рвусь к тебе, с другой тихо, покорно отступаю, отгораживаюсь. Чувствую: я счастлив, но и немного несчастлив, потому что для сохранности счастье нужно загонять куда-то в себя. А может, не загонять? Но если я так трясусь над ним, значит, твоим приездом не только осчастливлен, но и малость разочарован? С каждой минутой ты все ближе к третьей моей категории "неприятность". Пришлось еще поломать голову и съесть еще кусок торта, чтобы осознать свое бессердечие. Тут меня заела совесть, и я бросился в другую крайность, перестал придираться и осуждать, попытался одобрять, оправдывать. Я следил за каждым твоим жестом и словом. Все в тебе было сплошное ликование. Ты говорила: жизнь хороша и будет еще лучше, потому что наконец мы вместе. Планов у тебя миллион: найти дом на опушке леса; отдать меня в школу для детей из любых семей, и простых тоже, правда, только не из самых простых; договориться с организаторами концертов и выступать; завязать знакомства в музыкальных кругах; помогать отцу в его марочном бизнесе, пока он не сможет нанять секретаршу... Тебе никто не возражал. Дед слушал и глядел скептически, словно говорил: жизнь покажет, что почем, отобьет охоту строить воздушные замки. А бабушка, наоборот, поддакивала. Бабушка – идеальная мать. Я даже огорчился, почуяв ваш возможный в будущем твой и ее заговор против меня. Реакция отца меня ужасно удивила. Он кивал, изо всех сил делал благожелательное лицо, но совершенно не вникал в разговор, отмалчиваясь и отделываясь этой своей благожелательностью...
Я попросил разрешения выйти из-за стола и притулился где-то в углу у двери: нет, решительно, дорогие-любимые против меня! Бедная моя постелька, между кроватями деда с бабкой. В ней так хорошо, правда, тесновато. Я слегка вспотел от волнения. Дадут мне проспать в любимом уголке хоть пару ночей или сразу конец? Волненье превратилось в панику. Перепил, должно быть, крепкого чаю. Я подбежал к тебе и, обняв, стал умолять не отнимать у меня белую мою кроватку с розовыми подушками. Ты усадила меня к себе на колени, восхитилась – какой я тяжелый, какая прелесть! Но нет, как ты сказала, так тому и быть: у меня будет новая кровать, к тому же и собственная комната. Я вернулся в свой угол у двери, и страхи удвоились. А вдруг не пустят гулять с Леонтиной, консьержкой, с которой ходили мы каждый день за покупками в ближние лавки? Я уже знаток: у Бриньоля самые вкусные груши, а Верстретен – пьяница, жулик и обвешивает, а в булочной хозяйка, Фрицке, даст поиграть с тестом, таким тянучим-тянучим, а в бакалее у Дельхеза можно побыть подольше, подышать лучшим на свете запахом цикория, ярко-красного перца, корицы и сухофруктов, особенно кураги, а иногда зайти к мадам Доз, портнихе, у нее выкройки прямо из Парижа и самые последние сплетни, и говорит она много-много, и неужели я больше не посижу у нее в кухне на табуретке, пока она чистит картошку и рассказывает мне, потому что знает абсолютно все про королевскую семью: бедняжка Шарлотта, вернулась из Мексики совершенно спятившей, о Господи, а король-то Альберт, он же всю войну просидел, как уперся, на своем клочке земли, и немцы шиш с ним справились, а герцог-то Немурский, который при Луи-Филиппе, он все строил козни в пользу племянника, Леопольда II, а тот чуть было не скупил на корню весь Китай...
Может, и с Баллоном запретят мне играть. Баллон – спаниель с пятого этажа. Его хозяин, сморщенный старичок, выгуливает его вечерами, когда дед обычно гонит меня спать. Но по субботам, если старичок позовет, мне позволено погулять с ними полчасика. Я горд, что у меня друг спаниель и что на курточке у меня – сохлая Баллонова слюна. Дергаю его за усы, тычусь головой в песью морду. Он не против, старичок тоже – Баллон в жизни никого не укусил и лает только на трамваи – тявкнет, и все, а на других собак вообще ноль внимания. Баллон переходит от дерева к дереву, принюхивается, писает, с трудом несет себя, грузного, боится слезть с тротуара, точно внизу пропасть. У витрины встанет на задние лапы, навалится на стекло и надышит мокрый кружок. Когда я в ударе, а Баллон в настроении, сажусь не чинясь на него верхом. Пронесет меня метров десять-двадцать, потом стряхивает: хватит, хорошего понемножку. Другие дети боятся его, но я смеюсь над их страхами, на меня-то Баллон не заворчит. А еще у меня есть приятель Адриан Бувер, мы встречаемся дважды в неделю на лестнице, беремся за руки и идем спорить: сколько машин проедет за минуту на углу улицы Мазюи. У Бувера потрясающие часы, подарок отца за то, что хорошо себя вел, пока мать была в больнице. Его рассказы меня занимали, часы завораживали. Бувер, как правило, проспоривал: тридцать три, тридцать четыре машины, без верха – шли за две. Если дождь, сидим на соломке в подъезде у каморки Леонтины, с карандашом и листком бумаги. Выберем букву и пишем в столбик города. Время – минута. Я спец по букве "В", потому что изучил энциклопедию. Строчу, как пулемет: Вена, Вервье, Виши, Виченца, Вольтерра, Виборг, Вито, Витри-ле-Франсуа. Для пущей сложности берем две буквы, согласную с гласной "ВА". И опять, как пулемет: Валенсия, Валансьен, Вальядолид, Вальпараисо. Мечтаю о сказочных городах, летучих, как ковры-самолеты над багдадскими минаретами. Буверовские часы – судьи: либо я ему пятнадцать шариков, либо он мне фиалковые ириски.
Ты окликнула: что я там забился в угол? Вид у тебя был победно-наполеоновский, и родные ничуть тебя не осуждали. А говорила ты не просто как победитель – как диктатор. Помнил я тебя сумасбродкой, слабачкой, трусихой, а теперь увидел воительницу, борца со всеми и с собственной трусостью. Ты бросила вызов Бельгии. Ты ждешь от нас поддержки, и с ней тебе все нипочем. И не желаешь ты гадать, что да как. Меньше слов, больше дела. А мы и не спорим. Мы, разумеется, – твои союзники, тут и думать нечего. Ты, видимо, заранее решила, что мать поможет во всем: она здорова, значит, вполне в силах. И наверно, за эти полтора года разлуки ты успела в Болгарии обратить отца в свою веру: главное – семейное благополучие, достойное тебя, меня, нас всех. Ты ничего не требовала. Только, дескать, смирись с изгнанием, работай по десять-двенадцать часов в сутки и забудь Россию и химеры прошлого... Вдруг ты глянула на меня с беспокойством. А может, дед с бабкой воспитали не так и я – не то, чего ты ждешь, не любящее дитя? Тем более в разлуке – раз ты с глаз моих долой, то и из сердца вон? Может, я больше люблю деда-патриарха, может, забил он мне голову прекрасными бреднями о жизни, вере и нравственности и от реальности я оторван? Или, может, я слепо боготворю бабку оттого, что она держится достойней тебя, и отдал ей любовь, которую должен был родной матери? Обо всем этом гадал и думал я сейчас общо, сумбурно: то ли так ты чувствуешь, то ли не так, а как в точности, не улавливал.








