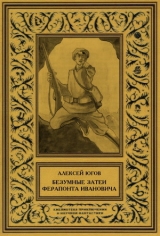
Текст книги "Безумные затеи Ферапонта Ивановича"
Автор книги: Алексей Югов
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
– Он там наелся какого-то вещества. От этого тело его сделалось бесцветным и прозрачным, как воздух, – припомнила Елена.
– Вот-вот! – с затаенным торжеством воскликнул Ферапонт Иванович. – Бесцветным и прозрачным! Все тело! А, стало быть? А, стало быть, и весь глаз. Тьфу, черт возьми, как вспомню, что сам когда-то читал эту невежественную стряпню, так и захочется, чтобы сейчас этого господина Уэльса сюда представили. Уж я бы ему показал!.. «Великий фантаст»! Да какой ты черт фантаст, если ты не понял, что ежели весь глаз, и склера, и роговица, и радужка, и хрусталик, и стекловидное тело, и все дно глаза, и все стенки его, – если все это будет прозрачно, как воздух, то никакое зрение здесь невозможно! Ведь это же любой профан поймет... Эх, ты, фантаст! – закончил презрительно Ферапонт Иванович, как будто господин Уэльс уже стоял перед ним и выслушивал нагоняй.
Елена долго молчала, видимо, обдумывая.
– Да, – наконец, сказала она, – а я вот ни разу об этом не подумала.
– Вот это-то и плохо, – назидательно сказал Ферапонт Иванович, – а еще предполагали, что я стал невидимкой по рецепту Уэльса.
Хорош бы я был: невидимый да еще слепой! Да меня бы любой извозчик раздавил. По Уэльсу выходит, что невидимка у него был зрячий, да и то сколько неприятностей натерпелся. А на самом деле его должны были на первых же шагах раздавить. Куда к черту – невидимый да еще слепой! А потом, если бы я по его рецепту действовал, то мне пришлось бы голым разгуливать.
– А я что-то не помню, чтобы невидимка голым бегал.
– А как же! Ведь только тело его приобретало невидимость, а брюки, пиджак, шуба с организмом ведь не связаны. Нет, это, по-моему, удивительное зверство со стороны господина Уэльса заставить бегать человека голым при тамошнем сыром климате. Да и с едой у него плохо обстояло: скушает Гриффит колбасу, скажем, и до тех нор, пока эта колбаса не пропитается соками тела, торчит, проклятая, в воздухе! Это уж, извините, тоже не по-людски. Нет, я не дурак, чтобы по Уэльсу работать! – самодовольно закончил он.
– А как же вы сделались невидимкой? – спросила Елена.
– Так, вот я уже говорил вам: на основе отрицательной галлюцинации.
– Этого я не знаю, – сказала Елена. – Объясните, пожалуйста.
– С удовольствием. Для вас, Елена, – сказал невидимка, расшаркавшись, и она почувствовала, что он придвинулся слишком близко. Она молча отодвинулась.
Ферапонт Иванович несколько минут смущенно молчал.
– Ну, так вот, – начал он, наконец, прокашлявшись, —отрицательная галлюцинация... Вам известно, конечно, что внушением в гипнозе можно вызвать у человека какие угодно ложные восприятия. Можно заставить загипнотизированного видеть и слышать что угодно и чего нет на самом деле. Это будет называться положительной галлюцинацией. Но можно и наоборот: заставить его сознание не воспринимать тех предметов или людей, которые стоят у него в поле зрения. Стойте хоть перед самым его носом – загипнотизированный вас не увидит. Вот это будет – отрицательная галлюцинация.
– А как же окружающие предметы? Ведь их-то он видит, – спросила Елена.
– Конечно, – ответил Ферапонт Иванович. – Гипнотик не видит только того, что ему запрещено видеть. То, относительно чего ему внушена отрицательная галлюцинация.
– Ну, а как же? – продолжала допытываться Елена. – У него, стало быть, на месте этого предмета должен быть пробел, пустое место?
– Нет. При отрицательной галлюцинации фантазия гипнотика дополняет выпавшее из его сознания.
– Ах вот как, значит, он может налететь не видя, удариться об этот предмет?
– Да нет, этого обычно не бывает. Я же сказал, что предмет этот выпадает из сознания, а бессознательно гипнотик продолжает его воспринимать.
– Это здорово! – воскликнула Елена.
– Еще бы! – самодовольно отозвался Капустин. – Пользуясь этим, я спокойно перехожу улицы. Извозчик меня не стопчет, он меня объезжает. Его подсознательное я воспринимает мой образ, а сознание не видит.
– Так, погодите, ведь вы говорили о загипнотизированном?
– Ну, да. Извозчик этот и есть загипнотизированный, т.-е. правильнее будет сказать, – спохватился Ферапонт Иванович, – что ему внушена отрицательная галлюцинация.
– Да кто же внушил ему?
– Я, конечно. Кто же больше?
– Фу! Ничего не понимаю! – сказала недовольно Едена.
– Чего вы не понимаете? – спросил Капустин.
– Да как же – извозчик едет?
– Едет.
– Не спит?
– Не спит.
– С козел не падает?
– Нет.
– Так, откуда же тут внушение?
– У вас наивное представление о нем.
– Может быть. Объясните, – обиделась Елена.
– Видите ли, в чем дело. Нельзя связывать гипнотический сон с внушением. Можно внушить субъекту идею, представление какой угодно силы, вовсе не усыпляя его. Можно внушить и отрицательные галлюцинации без всякого усыпления. Я мог бы вас забросать фактами и научными доказательствами, но думаю, что вы мне и так поверите, тем более, что я сам перед вами в качестве живого доказательства.
– Хорошо, оставим это, – сказала Елена. – Но во всем этом имеются другие обстоятельства, совершенно невероятные.
– Какие?
– Вы говорите, что вас никто не видит, потому что вы внушаете всем отрицательную галлюцинацию. Я допускаю, что вы сейчас внушили ее мне, потому что сидите рядом и давно здесь находитесь, но внушить каждому встречному, да еще на расстоянии, это уж, извините, похоже на вымысел.
– Эх, Елена, Елена, как вы отстали! – огорченно промолвил Ферапонт Иванович.
– Не знаю, может быть и отстала, – сказала она.
– Нет! – воскликнул Ферапонт Иванович. – Вы, Елена, настолько закоснели в вашем вульгарном, именно вульгарном, а не научном материализме, что я прошу вашего разрешения прочитать вам небольшую лекцию. Согласны?
– Ну, конечно. Почему вы еще спрашиваете?
– Вы считаете, что телепатия невозможна?
– Нет. Мне кажется это ненаучным: передача мысли на расстояние, – что-то мистикой пахнет! – ответила Елена.
– Ага, мистикой... Ну, ладно, – сказал Ферапонт Иванович. – Тогда послушайте. Начну крыть вас самыми учеными авторитетами, которые ничего не видели мистического и невозможного в передаче мысли из одного мозга в другой, а объясняли это вполне материалистически. Вот вам Америка: профессор химии Пенсильванского университета Роберт Гер, профессор Национальной академии – Менс, профессор Гарвардского университета – Джемс. Англия: гениальный физик и химик Крукс, ученик Дарвина – Уоллес, физик Варлей, анатом и физиолог Мейо, астроном Геггинс, профессор физики Дублинского университета – Баррет, профессор химии Эдинбургского университета – Грегори, профессор математики Лондонского университета Демморган, профессор Кембриджского университета —Седж-вик, профессор физики Ливерпульского университета – Оливер Лодж. Теперь – Германия, – продолжал Ферапоит Иванович, переводя дух. – Профессор физики и астрономии Лейпцигского университета – Цельнер, затем – Шейбнер и Фехнер, профессор физики Геттингентского университета Вебер, профессора: Фихте, Гофман, Ульрици,
Дю-Прель. Италия: знаменитый криминалист и психиатр Ломброзо, не менее знаменитый астроном Скиапарелли. Франция...
– Довольно, хватит! – взмолилась Елена.
– Ну, ладно, – рассмеялся Ферапонт Иванович. – А то бы я вам из русских кое-кого назвал. Ну, хотя бы – Бутлеров, Вагнер, Остроградский и, наконец, последнее время – Бехтерев. Как видите, все это далеко не мистики, а авторитетнейшие ученые. Правда, прием этот с авторитетами немножко нечестный, однако, на подобных вам скептиков это действует в роде тяжелой артиллерии.
– Ладно, подействовало. Но только как же они себе представляют эту передачу мысли?
– О! – вскричал Ферапонт Иванович. – Если бы я вздумал вам, Елена, рассказывать все гипотезы относительно этого, то и до утра бы вам спать не дал. Это совершенно немыслимо! Тут и «магнетический флюид Месмера», и «нервный эфир» Гмелена, Бюрдаха и Поссавана и открафт – «одическая сила» Рейхенбаха... Это только у древних и старых авторов, а если взять новое время, то Карпентер признает существование нервной энергии, на которую он смотрит, как на особый вид физической энергии. Этого же взгляда придерживается Гартман. Ноуэлье – тот обясняет передачу мыслей «мозговыми волнами», передаваемыми через эфир. Доктор Моделей признает существование специального «мысленосного эфира». Доктор Баретти уверяет, что из глаз и оконечностей пальцев излучается особая нервная сила, которая может даже отражаться зеркалами и преломляться в линзах. Доктор Охорович, изобретатель гипноскопа, полагает, что мысль передается посредством электрической энергии. Он считает, что нервная энергия может переходить в электрическую. Такие выдающиеся гипнологи, как, например, Альрутц и наш Кантерев, держались чисто физической точки зрения на воздействие при гипнозе и считали, что на гипнотизируемого действует излучение особой энергии из тела гипнотизера. В последнее время некоторые находят объяснение в процессе ионизации, происходящем в нашей нервной системе... Словом всего, Елена, что придумано, даже не перечислишь. Меня лично удовлетворяет гипотеза Крукса, дополненная взглядами Фехнера. Не знаю, может быть, объяснения Крукса понравились мне потому, что, следуя путем его рассуждений, я уже совершил одно открытие, которое... Впрочем ладно. Изложу вам, значит, точку зрения Крукса. Дело в том, что в телах твердых, в жидкостях и в газах, а также в эфире, который проникает собою все тела, происходят беспрестанные колебания и вибрации. Эти колебания сообщаются и живым существам. Если возьмем за исходную точку маятник, отбивающий секунды, то, удваивая последовательно число ударов в секунду, мы получим в первой степени два колебания в секунду, во второй – четыре, в третьей – восемь, потом шестнадцать и т. д. Когда мы получим 32 колебания в секунду, то здесь вступим в область, где колебания атмосферы являются нам в форме звука. Но дальше – при 32,768 колебаниях мы получим предел звука. Мы ничего не будем слышать. Наконец, в 35 степени мы получим электрические лучи. Здесь колебания совершаются уже не в грубой среде, а в тончайшем эфире. Далее мы доходим уже до многих миллиардов колебаний в секунду. Эти миллиарды колебаний дадут нам лучи тепловые, световые и химические. Затем между 52 и 61 степенью мы имеем, по-видимому, лучи Рентгена. Цифры эти трудно выговорить, они издеваются над человеческой фантазией. Не угодно ли вам записать в назидание хотя бы одну цифру, которая уцелела у меня в памяти?
Елена нашарила в пальто своем, постланном на скамейке, карандаш и блокнот.
– Только здесь не видно будет – темно, – сказала она.
– Ну, хорошо. Я на минуту открою дверь в залу, – сказал Ферапонт Иванович. И Елена увидела, как дверь сама собой приоткрылась.
– Ну, запишите, – сказал невидимый, снова присаживаясь на скамью рядом с Еленой. – Валяйте! Только вдоль листика, да помельче, а то места не хватит, – смеясь предупредил ее Ферапонт Иванович и тихим голосом стал диктовать. Елена записывала.
Когда она кончила и взглянула на листок, то чуть не ахнула, – там стояло: 2305763009213693952.
– Ну, вот, видите – цифры! Какая тут мистика?!.. – посмеивался невидимый Ферапонт Иванович.
– Однако, давайте дальше, – сказал он, переставая смеяться. – К каким же выводам приходит господин Крукс? А вот к каким. Выше этих рентгеновских лучей, которые, как мы видели, выражаются многими миллиардами, существуют колебания еще более быстрые, о которых мы уже ровно ничего не знаем. По этому поводу Крукс так и заявляет, что мы-де должны признаться, что являемся полными невеждами в «мировом хозяйстве». Лучи, соседние с 62 степенью, не преломляются, не отражаются и не поляризуются, – говорит Крукс. Они проходят через все тела. Поэтому Крукс и говорит дальше следующее: «Мне кажется, – это его слова, – что подобными лучами возможна передача мысли. С некоторыми допущениями мы найдем здесь ключ к многим тайнам психологии». Дальше он продолжает таким образом. Допустим, дескать, что эти лучи могут проникать в мозг и действовать на некоторый нервный центр. Вообразим, что мозг содержит центр, действующий этими лучами, как голосовые связки действуют звуковыми колебаниями (в обоих случаях повелевает рассудок!). Этот центр посылает лучи со скоростью света, и они производят впечатление на воспринимающий центр другого мозга. Таким образом, по Круксу, выходит, что некоторые таинственные явления человеческой психики: передача мыслей, внушение на расстоянии входят теперь в область научных законов, и мы можем ими пользоваться, и никакой тут мистики нет.
Сенситивом, т. е. чувствительным субъектом, будет тот, у которого сильнее будет воспринимающий телепатический узел в мозгу. Это может зависеть, по мнению Крукса, от практики, от психической тренировки... Вот как, товарищ Елена! – закончил Ферапонт Иванович.
Елена долго молчала.
– Слушайте, – у меня даже голова болит от всего этого, – сказала она тихо.
– Да...
Есть много, друг Горацио, на свете,
Чего не снилось нашим мудрецам! – продекламировал Ферапонт Иванович, и вслед за этим Елена почувствовала его ладонь на своем колене. Она отстранила его руку.
– Перестаньте! Как вам это не идет! Только что говорили о таких высоких материях и вдруг!?.. А еще – невидимка!
– Гм... А это, по-вашему, низкая материя? – несколько смущенно возразил Ферапонт Иванович. – Касательно же того, что я —невидимка...
– Довольно! – решительно сказала Елена. – Эти ваши разговоры для меня совершенно не интересны. Или отвечайте мне на вопросы, которые меня интересуют, или... убирайтесь.
– Что вы так?!.. – укоризненно и тихо произнес невидимый. – Давайте, спрашивайте.
– Вы вот сказали, что на любом расстоянии можно передать в чужой мозг свою идею и вызвать даже в нем положительную и отрицательную галлюцинацию. Я еще представлю, что на одного-другого вы можете подействовать своими «мозговыми волнами», но вас, ведь, решительно никто не замечает!.. Как это вы во все стороны внушаете одно и то же?
– Физику, физику забыли, товарищ Елена! – воскликнул Ферапонт Иванович. – Разве не помните, что звуковые и световые волны распространяются во все стороны? Волны неизвестной природы, которым Крукс приписывает передачу мысли, тоже распространяются от мозга во все стороны. Каждый волевой акт напоминает падение в воду камня, от которого во все стороны идут круги, достигая берегов. В безбрежной вселенной ничто не мешает этим «кругам» распространяться до бесконечности... В этом месте я не согласен с теми, кто считает, что «волны» эти электрической природы. Это ерундя. Колебания этих волн во много раз быстрее, чем даже колебания световых. Так. что, например, если я внушаю что-нибудь человеку, находящемуся в Нью-Йорке, то момент получения его мозгом моего внушения совпадает с моментом отправки.
– А можно регулировать дальность внушения? – спросила Елена.
– Можно. Дальность действия своей мысли человек устанавливает внутри себя. Это определяется степенью того напряжения, которое он вкладывает в это. «Хочу, чтобы меня не воспринимали все люди, которые находятся в окружности, ну, скажем радиусом в три версты. Хочу, чтобы все люди, вошедшие в эту зону, испытывали по отношению ко мне отрицательную галлюцинацию, т. е., чтобы я для них был не видим!» – эту идею, это хотенье я утверждаю в себе со всей силой, на которую я способен. И сам начинаю галлюцинировать. Я чувствую и веду себя, как невидимый... И, как видите, неудачи я не имел! – сказал Ферапонт Иванович.
– Как это все-таки не похоже на жизнь! – вздохнула Елена. – Неужели этого еще кто-нибудь достиг?!.
Ферапонт Иванович расхохотался.
– Вы слишком льстите мне, Елена, – сказал он, – если предполагаете, что за тысячи лет я первый додумался до этого. Одна из школ индусской философии, так называемые йоги, за тысячи лет до нас развили в себе эту способность и владеют ею посейчас.
– Да как же они достигли этого? – удивилась Елена. – Вы, вот, изучили физику, химию, а они этого ничего не знали.
– Скажите, а вы, когда разговариваете с кем-нибудь но телефону, знаете, как телефон устроен? А когда вы разговариваете, слушаете, смотрите, двигаетесь, перевариваете пищу, вы разве представляете всю умопомрачительную путаницу нервных, физических и химических процессов, которые происходят в вашем организме?!.. Ведь нет, конечно. А совершаете все это ничуть не задумываясь. Так точно и они дошли до этой способности, не зная ни химии, ни физики, ни биологии.
Вот я вам приведу один пример массовой галлюцинации, которую внушает «необразованный» человек. Я вычитал об этом у одного из путешественников. Если даже мы усомнимся в подлинности именно этого факта, это ничуть не меняет дела. Я беру его только, как образец. А вообще говоря, подобных и равных этому фактов засвидетельствованы тысячи. Так вот слушайте. Перед вами площадь индийского города, на которой волнуется разноплеменная толпа. Все они смотрят на фокусы странствующего факира. Показав целый ряд этих фокусов, факир вдруг спрашивает зрителей, что они хотят получить в виде даров неба. – «Персиков – кричит какой-то богатый англичанин в пробковом шлеме. Факир как будто смущен. – «В это время года это очень трудно», – говорит он, но, конечно, только ломается для виду. Через минуту все, кто находится на площади, видят, что мальчик – помощник факира – быстро начинает карабкаться по канату, брошенному в небо, и, наконец, исчезает из глаз. Факир ему кричит что-то, и вдруг оттуда начинают сыпаться персики, и все зрители начинают поднимать их и едят. Дальше путешественник сообщает, что, когда всю эту сцену сняли кинематографическим аппаратом, то обнаружилось, что факир спокойно сидит на месте, и никакого мальчика с ним нет.
– Эх, нам бы с вами такого факира! – вздохнула Елена.
– Да, – согласился Ферапонт Иванович. – Впрочем, для меня это не очень трудно. Я могу зайцем в любом вагоне первого класса проехать в Ташкент и поесть там персиков, и абрикосов, и ташкентских дынь и чего угодно, – сказал он.
– Да, вам-то что – вы невидимка! – позавидовала Елена . – Вам и без факира можно обойтись... Но, знаете, я до сих пор все-таки никогда не думала, что внушение может достигать такой силы. Мне даже один врач говорил, что никакой гипнотизер не может преодолеть в человеке его стойкие убеждения и предрассудки, что нравственному человеку почти невозможно внушить, чтобы он совершил что-нибудь безнравственное.
Ферапонт Иванович расхохотался.
– Да-да, я это знаю. Здесь мнения расходятся. Одни, как Буни или Льежуа, считают, что гипнотик в руках гипнотизера все равно, что палка в руке странника. Другие – Дельбеф, Жане, Деспля – уверяют именно в том, что вы сейчас сказали. Но я не понимаю этих господ. Они прут против фактов. Нельзя преодолеть силу нравственных устоев! Подумаешь! Да криминалистика достоверно знает такие случаи. Вот, например, один из них совсем недавний. Дело было в Германии. Некий инженер женился на очень богатой и красивой вдове – матери двух девочек-подростков. Они прожили полгода внешне вполне счастливо. Но вдруг совершенно неожиданно для всех жена инженера покончила самоубийством. Через несколько месяцев старшая из девочек лет четырнадцати застрелила младшую сестру и застрелилась сама. Вскрытие трупов обеих девочек установило факт их растления. По дневнику, который вела старшая, и по данным вскрытия трупов, создалась очень ясная картина преступления. В конце концов было установлено, что сама мать и ее дочери находились под гипнотическим влиянием инженера. Выход за него замуж и затем смерть этой женщины последовали, как результат внушения. В дальнейшем, пользуясь им, преступник растлил обеих девочек и затем, желая сделаться единственным наследником своей жены, внушил ее старшей дочери мысль – убить младшую сестру и застрелиться самой... Вот. А они еще говорят!.. Да, наконец, больше того: история сектантских движений знает случаи такого безусловного подчинения целого коллектива воле какого-нибудь пророка, и при этом без всякого погружения в гипнотический сон, что не только нравственность, а и инстинкт самосохранения – все это отлетало к черту! Возьмите хотя бы массовое самосожжение раскольников. Или вот вам факт, о котором рассказывает Столь: в Англии некий чувственный фанатик Генри-Джемс-Прайс до того отуманил своих последователей, что имел возможность в основанном ими «храме любви» – «агапемоне» – при полном собрании верующих лишить невинности некую красивую мисс, причем он заранее объявил, что во имя бога сделает женою прекрасную деву и совершит это не в страхе и стыде, не в скрытом месте, а среди дня, при полном собрании верующих обоих полов. Невероятная церемония была исполнена в точности. Или еще такой же случай...
– Вот что, – перебила его Елена, – почему это вам приходят в голову все такие примеры, где под влиянием внушения совершаются преступления против половой нравственности? Разве других не бывает?
– Видите ли, Елена... – произнес Ферапонт Иванович как бы в некотором смущении. – Дело в том, что если я и упоминаю только об этом, то это происходит потому, что...
Дверь с треском раскрылась. На пороге, в накинутой на плечи шинели, стоял Кусков. Вид у него был грозный. Он сделал несколько быстрых шагов к скамейке, на которой сидела Елена, и вдруг растянулся на полу, очевидно, споткнувшись обо что-то.
– Что это ты мне в ноги кланяешься? – сдерживая смех, спросила Елена.
– Да черт его возьми, – споткнулся о какую-то палку, —проворчал подымаясь Кусков.
Эффект его грозного и внезапного появления был испорчен. Однако, он, остановившись перед Еленой, строго спросил ее:
– Ты с кем сейчас разговаривала?!..
– Ни с кем. Что тебе, приснилось, что ли?
– Вот что, товарищ Елена, ты мне ухо-то не крути! Я, конечно, на это дело плюю, но, все-таки, наш культшефский отряд амурами срамить не позволю, – грубо сказал Кусков, оглядывая комнату.
– Ты лучше проспись-ка, Гриша, – вставая со скамьи и напуская на себя презрительный и холодный вид, ответила Елена. – Ты сам культшефство компрометируешь, если наклюкался где-то, а потом позволяешь себе так нахально врываться, да еще оскорбляешь. Сам, ведь, видишь, что никого здесь нет.
Кусков хорошо видел это. Он стоял ошарашенный.
– Черт с тобой в таком случае. Извини за беспокойство.
Он повернулся, вышел и зашагал к противоположному концу залы, где на полу, коллективно укрытые мешочным пологом, спали вповалку комсомольцы.
3 Исповедь. «Долой цензуру»
– Перестаньте смеяться! Это страшно неприятно, когда слышишь хохот и не можешь увидеть того, кто хохочет. Да и над чем вы смеетесь? – сказала Елена, обращаясь к Ферапонту Ивановичу.
– Ох, да как же не смеяться?!.. – воскликнул невидимый. – Ведь, как я здорово вашему приятелю ножку подставил, – так и растянулся плашмя! А вы еще тут – чего ты кланяешься? Ха-ха-ха!..
– Перестаньте!
– Ну, что ж, перестану, если вам неприятно. Вы, ведь, знаете, что я для вас...
– Хорошо, хорошо, – слыхала уже. Вы лучше расскажите мне кое-что другое.
– Что например?
– А вот меня интересует, что вас натолкнуло на мысль добиваться невидимости и каким путем вы пришли к ней.
– Словом – «как дошли вы до жизни такой?».
– Вот именно, – сказала Елена.
– Хорошо. Откровенно говоря, требования ваши чрезмерны. Я ни с кем решительно с тех пор, как сделался невидимкой, не откровенничал. Но... я совершенно серьезно говорю вам, что вы в моих глазах совсем особенная женщина, совсем не похожая на других. Я вверяю вам свои тайны и верю, что не окажусь Самсоном, а вы Далилою.
– Можете, быть спокойны.
– Ладно. Только, Елена, предупреждаю вас, что я должен начать издалека и рассказать вам кое-что из своей жизни. Иначе вы ничего не поймете. Вам не будет скучно?
– Ну, не знаю. Смотря но тому, как вы будете рассказывать.
– Увы! – вздохнул Ферапонт Иванович. – Тогда я заранее обречен. Я совсем не умею рассказывать.
– Ну, ладно, ладно, – рассмеялась Елена. – Давайте рассказывайте, довольно тянуть.
Ферапонт Иванович прокашлялся и приступил к повествованию.
– Родился я и вырос, – начал он, – в некультурной, хотя и зажиточной семье деревенского лавочника. По-теперешнему, сказали бы, что отец мой был кулак. Воспитание мое, надо полагать, мало чем отличалось от воспитания крестьянских ребятишек вообще. Та же зыбка, тот же рожок с ржаной жвачкой, то же застращивание букой и побои впоследствии. Вообще, как видите, детство мое было довольно темное и безотрадное. Но если бы спросили меня, когда я в первые ощутил всю горечь своего бытия и враждебность жизни, то я определенно сказал бы: это был момент, когда меня оторвали от материнской груди. Нет, не оторвали, а заставили возненавидеть и отвернуться. Это еще хуже.
Вы не можете себе представить, какая гнусность, грубость и жестокость выпадает на долю деревенского ребенка в этот и без того трагический для маленького существа момент. Чего только не проделывают в таких случаях невежественные матери, пользуясь опытом старых баб. Все пускается в ход, чтобы ребенок возненавидел то, что всю прежнюю жизнь его до этого момента было для него единственным блаженством в этом суровом внешнем мире, которое заменяло ему утраченное тепло и уют материнской утробы.
Для того, чтобы скорее отлучить сосуна, деревенские матери смазывают сосок сажей, перцем, горчицей и подставляют в тот момент, когда ребенок хочет приложиться к груди, жесткую и колючую щетку. И вот несчастье: беспомощное создание, вместо теплого и нежного шара и ласкающего губы соска, из которого льется в крохотное тело сама жизнь, теплая, сладкая и питающая, натыкается вдруг своим вздернутым носиком на щетину щетки или обжигает горчицей нежнейшую слизистую оболочку своего рта.
В мою память крепко врезалось одно событие, связанное с отнятием от груди. Скорее всего я вообразил его уже впоследствии, по рассказам других. Однако, я как будто ясно вижу его перед собой. Я вижу ясно капли молока и крови, медленно ползущие по материнской груди из укушенного мною соска. Не помня себя от боли, мать с силой шлепает меня и бросает в зыбку.
Может быть, все это смешно для вас, но я рассказал вам сейчас самое тяжелое событие моей жизни.
Другое тяжелое событие, когда в первый раз и навсегда легла на мою жизнь тяжелая тень отца, заключалось в том, что родители перестали класть меня с собой спать. Мне было тогда четыре года. Это изгнание в одинокую постель потрясло мою детскую душу. Я ревел, умолял, звал мать, протягивал свои руки в темноту... Я чувствовал, что она здесь, близко, мне было страшно одному, я хотел разжалобить ее.
Наконец, я словно помешался от крика. Я не мог остановить его, и мне уже было не больно кричать. Но я кричал без слез – они иссякли. Я слышал в темноте придушенные всхлипывания матери, слышал сердитый шепот отца. Ей было жалко меня, сердце не выдерживало, но отец не пускал ее ко мне: «Не надо его поважать».
На следующий день я лежал, как пласт, ни с кем не говорил, ничего не мог есть. Со мной сделалась «горячка». Призвали какую-то знахарку, она «спрыскивала с уголька» и говорила, что это все «от дурного глазу».
Второе, слишком памятное для меня, столкновение с моим могущественным врагом произошло, когда мне было десять лет. Отец застал меня за курением в бане и выпорол. Он зажал мою голову между ног, словно завинтил ее в тиски, мне было больно, но я не мог даже крикнуть, потому что щеки мои были сжаты, и губы выпячивались, словно у пескаря. Солдатское сукно его штанов раздирало мне кожу. С каждым ударом он увлекался все больше и больше этим занятием. Он осатанел. Через полчаса в баню прокралась моя мать и перенесла меня в дом. Укладывая меня в постель, мать заметила, что на подушку каплет кровь. Она осмотрела мою голову и увидела, что кровь эта из уха. Он надорвал мне мочку левого уха... У меня на всю жизнь остался рубец. Вот посмотрите.
– Вот чудак! – сказала Елена. – Да как же я посмотрю, когда вы невидимка?
– Тьфу ты! – спохватился Ферапонт Иванович. – Я, знаете ли, в разговоре забываю иногда. Ну, тогда пощупайте.
Невидимая рука взяла руку Елены и поднесла ее пальцы к невидимому уху. Елена ощутила рубец.
– После этого, – продолжал Ферапонт Иванович, – завидев отца, я вздрагивал. Этой поркой он бросил меня в когти онанизма. Время от 10 до 11 лет было для меня очень мучительным. Я переживал радость, что девчонки и женщины не считают еще меня за большого и ходят со мной купаться, но в то же время страх и стыд заставляли колотиться мое сердце и делать безразличные глаза, когда они начинали раздеваться.
Однажды мое появление из кустов к месту, где они купались, было встречено визгом. Это означало конец моего детства.
В 13 лет началось томление но женщине, то ослабевающее, то становившееся сильнее. У нас была стряпка Аграфена – рыхлая, добродушная, белобрысая баба лет сорока. Она меня очень любила и всегда жалела меня, когда отец меня бил. Поэтому я всегда после экзекуции укрывался у нее на кухне в углу, где на лавке лежала груда какого-то тряпья.
Однажды ночью я поднялся с постели, чтобы выйти на улицу. Родители мои спали. На кухне горела прикрученная лампа: стряпка должна была еще встать, чтобы подмесить квашню. Храпенье Аграфены доносилось с печи. Там стояли и сохли мои пимы. Я полез за ними.
Меня опахнуло печным теплом, запахом горячего кирпича и войлока. Страшно хорошо было стоять босыми ногами на стеженом толстом одеяле, сквозь которое, делаясь постепенно нестерпимым, доходил печной жар. На этом одеяле спала Аграфена. Она лежала на спине, раскинувшись от жары и слегка открыв рот. Грубая холстяная ее рубашка сбилась, оголив белые полные ноги.
Сердце мое заколотилось. Мне сделалось трудно дышать. Я начал дышать ртом. Губы мои пересохли. Я замер в испуге: мне казалось, что от стука моего сердца и от шероховатого дыханья пересохшим ртом Аграфена сейчас проснется. Но она лежала все так же спокойно и спокойно и ровно дышала. Я осторожно опустился на горячее одеяло возле нее. Мое лицо было совсем близко от ее могучего раздавшегося тела. От него тоже шли широкие, ясно ощутимые волны могучей материнской теплоты.
Я различал мелкие-мелкие росинки пота, выступившие в ложбинке между полными ее грудями возле шнурка крестика. Мне не верилось, не верилось, что Аграфена не чувствует, что я смотрю на нее.
Было мгновение, когда я каждой клеточкой своего тела знал, что если я лягу возле нее и прижмусь к ней, то она не прогонит меня, и все-таки я ушел. Ушел из-за гнусного ребячьего страха перед отцом. Может быть, это был не только страх перед отцом, а вообще тот темный бессознательный трепет перед запретным, тот страшный груз, который с детских лет отягощает душу каждого из нас.








