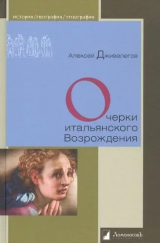
Текст книги "Очерки итальянского возрождения"
Автор книги: Алексей Дживелегов
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
Немного позднее, когда Челлини хотел наказать тоже порядком насолившего ему ювелира Бернардоне Бальдини, он решил отколотить его палкой, но, прождав долгое время, остыл и ограничился сочинением пасквиля, который и наклеил на стенах церкви Иоанна Крестителя в день престольного праздника[208]. – Furore постепенно стал успокаиваться.
Но в этих диких, подчас чисто бандитских деяниях у Бенвенуто было не только furore. Темперамент и страсть – только один источник этой необычайной чувствительности к малейшим обидам. Есть и другой. Это его необыкновенно высокое представление о своей персоне.
Бенвенуто серьезно верит, что какие-то особенные явления провиденциально указывали в разные моменты его жизни на то, что он человек избранный. Начать с того, что – он этого прямо не говорит, но представляет читателю догадаться самому – его предком был "храбрый первый полководец Юлия Цезаря по имени Фьорино де Челлино", основавший Флоренцию[209]. Потом, в раннем детстве, он безнаказанно схватил своими крошечными ручонками скорпиона, и скорпион не ужалил его. Немного позднее он видел в огне саламандру, которой «никто другой не видел никогда»[210]. Когда в Риме он однажды заболел, то болезнь его тоже разрешилась по-особенному: «Меня начало рвать. Из желудка моего вышел червь в четверть аршина длиною. Он был ужасен, покрыт длинной шерстью и усеян зелеными, черными и красными пятнами. Его сохранили, чтобы показать доктору, и тот объявил, что никогда не видел ничего подобного»[211]. В замке св. Ангела у Бенвенуто были чудесные видения: Христос распятый и Мадонна с двумя коленопреклоненными ангелами по бокам. Ему снились вещие сны о себе и других. Но самое замечательное случилось с ним после того, как он вышел из тюрьмы. Вокруг его головы появилось сияние. Совсем как у святых: не более и не менее. Когда он об этом рассказывает, в его тоне слышатся торжественные ноты. «Я не хочу умолчать о самой удивительной вещи, которая когда-либо случалась с человеком. Я рассказываю это в доказательство божественности господа и его неисповедимых путей. Вот чего сподобил меня бог: после видения, о котором я рассказывал, у меня вокруг головы осталось сияние (uno isplendore), явление чудесное. Его видели все очень разные люди, которым я его показывал; их было немного»[212]. Наблюдать сияние было лучше на севере, чем на юге, во Франции, чем в Италии. Сырые росистые утра были особенно благоприятны для таких наблюдений.
Бенвенуто рассказывает все эти чудеса без тени усмешки. Он сам верит в них первый. Если бы кто-нибудь при нем громко высказал сомнение в этих вещах или в одно из прохладных росистых утр во Франции "через два часа после восхода солнца" отказался бы увидеть сияние – тот рисковал получить удар кинжалом куда-нибудь "пониже уха". Бенвенуто, ничтоже сумняшеся, сам себя канонизировал к великому, нужно думать, ущербу св. Элегия, который до этого момента был единственным патроном всех художников прикладного искусства, имеющим небесный чин.
Если бы мы не знали источника наивной веры Бенвенуто в измышления собственной фантазии, обо всех видениях и сияниях не стоило бы говорить. Но у него в основе этой веры лежит нечто такое, в чем нет ни малейшей мистики, что, наоборот, чрезвычайно типично для его эпохи, в чем нужно искать важнейший ключ для исторического объяснения Челлини.
II
Бенвенуто – художник. Он художник, взысканный небом, одаренный сверхъестественным талантом, поднятый на щит великими мира сего и крупнейшими из собратьев по искусству. Таково его мнение о себе. В царстве искусства он если не первый – есть ведь и Микеланджело, – то один из первых. А искусство – это лучшая, самая светлая, самая прекрасная, самая возвышенная, самая чистая сфера деятельности человеческой. Кто первый в сфере искусства, тот должен быть отмечен свыше. Это прежде всего. Это объясняет все видения и сияния. А затем и другое. Человека, который блистает среди служителей искусства, нельзя равнять с другими людьми. Он особенный. Его положение в обществе исключительное. Он должен быть осыпан всеми привилегиями. Он должен быть огражден от всех неприятностей – больших и малых. Горе тому, кто его заденет или оскорбит. "Он сам себя помазал и короновал абсолютным монархом искусства, и каждый проступок по отношению к нему становится оскорблением величества"[213].
И разве факты, бывшие на глазах у всех, факты, о которых, захлебываясь, трещала вся богема, не подтверждали сотни раз такого самомнения? В первый свой приезд в Рим Челлини мог видеть Рафаэля, появлявшегося верхом на мосту св. Ангела, красивого, как молодой бог, нарядного, как принц крови, окруженного учениками, поклонниками и толпой, под ярким солнцем, от которого мрамор моста и его статуй казался еще более белоснежным.
Он знал, что Рафаэль купается в золоте и что нет такого каприза, которого не исполнил бы для него Ватикан. От Микеланджело он мог слышать так же, как и Кондиви, обессмертивший этот эпизод, историю его ссоры с Юлием II, который не любил шутить и никому не прощал не то что обид, а простой непочтительности: как художник приехал в Болонью и был встречен словами, в которых гремели последние раскаты утихающей бури, как он просил прощения, как вмешался кардинал Содерини и был за это вытолкнут папскими слугами, как папское прощение больше походило на извинение. Бенвенуто не мог не слышать и того рассказа, который ходил по всей Италии и наполнял гордостью всех художников: как во время позирования Тициану император Карл V нагнулся и поднял кисть, выскользнувшую из рук художника, и как отозвался на сконфуженные его извинения. Не мог он не знать и того, что художники, которых он, вероятно, считал не на много крупнее себя, а может быть, и ниже себя, строили себе дворцы и жили в них: Браманте и Антонио Сан Галло в Риме, Джулио Романе в Мантуе, Леоне Леони в Милане. Да разве жизнь его самого, который не был ни Рафаэлем, ни Микеланджело, ни Тицианом, не была полна таких фактов, mutatis mutandis? В "Vita" они записаны все, и некоторые мы напомним.
Сколько ласк получал Бенвенуто от одного Климента VII! Когда однажды он принес папе модель застежки для папской ризы, папа долго смотрел на нее с восхищением, потом сказал: "Если бы ты проник мне в душу, ты бы сделал вещь именно так: это как раз то, что я хотел"[214]. Еще характернее отношение Климента к Бенвенуто в дни, когда он оплакивал своего убитого брата и мстил за него. Когда он пришел к папе в первый раз после похорон брата, совершенно подавленный горем, папа ласково упрекнул его: «Неужели ты прожил столько и не знаешь, что от смерти нет лекарства?» А когда Бенвенуто пришел к Клименту, свершив свою вендетту, папа вместо всяких упреков сказал ему: «Теперь, Бенвенуто, после того как ты выздоровел, нужно жить...»[215]. А что может быть трогательнее, чем попытка умирающего папы рассмотреть медаль с изображением Моисея, принесенную ему Бенвенуто. Климент надел очки, велел подать свечей, но не мог увидеть ничего: зрение уже отказывалось служить. Тогда он стал проводить по ней пальцами, чтобы нащупать нежный рельеф рисунка, но столь же безуспешно[216].
Отношение к нему Франциска I тоже было такое, какого только мог желать самый взыскательный художник. В Париже Бенвенуто мог не завидовать Рафаэлю. Он получал 1000 экю в год жалованья да сверх того зарабатывал втрое больше. Это составляет больше 200 000 зол. франков в год. И этого ему было мало, потому что иначе его счета были бы в лучшем порядке: не пришлось бы ему уезжать из Парижа и потом не был бы закрыт обратный путь туда. Привыкший к таким масштабам, он запросил у Козимо Медичи за Персея 10 000 скуди, то есть больше полумиллиона золотых лир, и почитал себя смертельно оскорбленным, когда герцог дал ему всего 3 500, да и то в рассрочку.
Когда художники окружены таким почетом и вниманием, когда их труды вознаграждаются так щедро[217], им легко возомнить о себе. Особенно такому, как Бенвенуто. Он и возомнил.
Когда – это было во Флоренции, вскоре по прибытии его туда из Парижа в 1545 г., – у него шел разговор с герцогским мажордомом Пьерфранческо Риччи об окладе и мажордом ценил его недостаточно высоко, Бенвенуто по обыкновению очень скоро вышел из себя и стал кричать: "Люди, подобные мне (li pari mia), достойны служить папам, императорам и великим королям. Такой, как я, быть может, только один во всем мире, а таких, как ты, по десятку у каждой двери"[218]. Другой раз – это было уже по окончании Персея – у него был один из очередных крупных разговоров с герцогом Козимо, и тот намекнул, что Бандинелли, его враг и соперник, сумел бы сделать Персея не хуже. Бенвенуто не выдержал опять и стал отчитывать герцога почти так же как отчитывал его мажордома: "Если бы Бронзино занялся скульптурой так же, как живописью, он, быть может, сумел бы сделать статую не хуже. И еще учитель мой Микеланджело Буонарроти, когда он был моложе, сделал бы так же, да и то она стоила бы ему трудов не меньших, чем мне. Теперь, когда он очень стар[219], он, конечно, не сумеет этого. А потому я не думаю, чтобы сейчас оказался на свете человек, способный довести до конца такое дело"[220].
Эти заявления принадлежат ему самому, они могут не быть убедительными... для потомства. Поэтому Бенвенуто подкрепляет их другими, которые он вкладывает в уста людям очень авторитетным. Можно не перечислять похвальных отзывов по поводу Персея, приписанных крупнейшим представителям флорентийского художественного мира: Понтормо, Бронзино и другим. Они могли высказывать те мнения, которые вложил им в уста Бенвенуто. Не приходится, по-видимому, сомневаться и в подлинности письма Микеланджело к Челлини с похвальными словами по поводу бюста Биндо Альтовити[221]. Но вот несколько других отзывов, которые прекрасно совпадают с мнением Бенвенуто и подтверждают его, но объективная вероятность которых гораздо меньше. Один из них вложен в уста папе Павлу III, только что избранному (1534). Когда приближенные нового папы требовали наказания Бенвенуто за убийство Помпео, папа сказал[222]: «Я понимаю это лучше, чем вы. Знайте, что люди, как Бенвенуто, единственные в своей профессии, не подлежат действию законов» (non sono ubrigati alla legge). Десять лет спустя такое же славословие приписано Франциску I. Когда Бенвенуто закончил свою не дошедшую до нас серебряную статую Юпитера[223], она была выставлена одновременно с бронзовыми копиями античных статуй, привезенных из Рима Приматичо. Фаворитка короля, г-жа д’Этамп, не любившая Челлини, старалась показать королю, какая огромная разница между антиками и статуей Бенвенуто. Король будто бы ответил[224]: «Из сравнения этих удивительных фигур со статуей Бенвенуто видно, что его вещь несравненно прекраснее и поразительнее, чем те. Нужно почитать (fare un gran conto) Бенвенуто, ибо его вещи не только выдерживают сравнение с древними, но и превосходят их». И, уходя, Франциск прибавил: «Я отнял у Италии величайшего человека, когда-либо рожденного и одаренного таким бьющим через край талантом» (pieno di tanta professione).
Итак, по совокупности всех отзывов – своих и чужих – выходит, что Бенвенуто артист, единственный в мире, величайший человек в Италии, законам не подчиненный, имеющий право делать все, что ему захочется. Более грандиозную гасконаду трудно сыскать даже в то время. Она тем более замечательна, что другим артистам, тоже очень крупным и ему не враждебным, он не прощает заявлений несравненно менее решительных. В 1535 г. ему пришлось встретиться в Венеции с Якопо Сансовино, художником – на наш теперешний масштаб – неизмеримо более крупным, чем он сам. Сансовино поступил очень некрасиво по отношению к одному маленькому флорентийскому скульптору и, когда тот обиделся, возразил: "Люди, подобные мне, благородные и одаренные талантом, могут делать и такие вещи, и еще большие", – и тут же отозвался очень дурно о Микеланджело и других художниках и хвалил себя. Бенвенуто сказал ему на это: "Мессер Якопо, благородные люди ведут себя так, как подобает благородным людям. А люди, одаренные талантом, создающие хорошие и красивые вещи, получают лучшую оценку, когда их хвалят другие, чем когда они хвалят себя с таким самоуверенным видом"[225]. Нужно думать, что Сансовино в глазах Челлини не дорос до того ранга, когда художник не только может позволить себе некрасивый поступок по отношению к товарищу, но и стать вообще выше законов. Даже крупный художник не мог хвалить себя, а должен был терпеливо дожидаться, чтобы его, похвалили другие. Хвалить себя дозволено только одному: Бенвенуто Челлини, ибо Бенвенуто Челлини единственный в мире.
И все-таки все эти гасконады не заставляют читателя "Vita" относиться к автору дурно. Ибо две вещи смягчают похвальбу Бенвенуто. Во-первых, наивность саморекламы. Он пишет, как всегда, не думая и выдает себя, как всегда. Ему и в голову не приходит, что он что-нибудь сочиняет или кого-нибудь вводит в заблуждение. Во все то, что он говорит о себе, он верит как в самый непререкаемый догмат. А читатель улыбается. И эта улыбка примеряет со всей хлестаковщиной у Бенвенуто. Но еще более примиряет с ним то, что лежит в основе его гасконад: огромная любовь к искусству, главная и, пожалуй, единственная настоящая религия Бенвенуто.
III
Неистовство проявляется у Бенвенуто на каждом шагу. Нелепыми выходками, капризами, озорством, безумными вспышками полна его жизнь. Но подлинный пафос живет только в одном уголке его души – в том, где любовь к искусству. "Искусство – его бог, его мораль, его закон, его право"[226].
В искусстве для него нет ничего, что он считал бы недостойным себя. Все моменты создания художественного произведения для него одинаково дороги и интересны. Он никогда не мог решиться поручить своим ученикам выполнение таких работ, при несовершенстве которых могло пострадать целое. Его нельзя было упрекнуть в том, что становилось чуть не общим правилом всех художников Чинквеченто: что он дает лишь наброски, предоставляя ученикам исполнять самую вещь. У некоторых, напр. у живописца Перино дель Вага, это стало правилом: он делает только картоны. Правда, и искусство Бенвенуто было другое, чем живопись. Однажды Франциск I посетил его парижскую мастерскую и, видя, как он работает наравне с учениками, просил его не утруждать себя, а заставить работать подмастерьев и уговаривал нанять их столько, сколько нужно. На это Бенвенуто отвечал, что если он не будет работать, то заболеет, а произведения его выйдут не такими, какими он хочет, чтобы они вышли[227]. Этого правила он держался всегда. Он никогда не соглашался сдать вещь, пока она не получала той законченности, которую он хотел ей придать. А если заказчик настаивал, он отправлял назад материал и отказывался от работы. При этом ему все равно было, кто заказчик. С одним Климентом VII у него было бесконечное количество скандалов по этому поводу. Интересы искусства прежде всего. Когда его патроны об этом забывают, он напоминает об этом очень сердито. По пути во Францию в 1540 г. он остановился в Ферраре по уговору с кардиналом д’Эсте. Тот уехал вперед и обещал предупредить Бенвенуто заблаговременно. Но предупреждение пришло, когда времени оставалось очень мало. Доверенное лицо кардинала, Альберто Бендедио, согласно полученному приказанию, послал за Бенвенуто и сказал ему, чтобы он немедленно отправлялся во Францию на почтовых. "Я ему ответил, что мое искусство не делается на почтовых, что когда я путешествую, то езжу неутомительными переходами (a piacevoli giornate) вместе с моими подмастерьями Асканио и Паголо, которых я везу из Рима, что меня должен сопровождать сверх того конный слуга для личных услуг, что я должен быть снабжен деньгами, достаточными для дороги. Этот старый калека[228] высокомерно ответил мне, что так, как я говорю, и не иначе путешествуют герцогские сыновья. А я ему немедленно в ответ, что сыновья моего искусства ездят так, как я сказал; того, как ездят герцогские сыновья, я не знаю, потому что сыном герцога никогда не был, а если он будет оскорблять мои уши подобными словами, я не поеду совсем"[229]. То же Бенвенуто ответил самому кардиналу, когда приехал во Францию и имел первый деловой разговор с ним.
Бенвенуто всегда готов был стоять на страже достоинства искусства, которому он служил, и в его гордых словах на этот раз нет ни малейшей рисовки и ни тени риторики. Они вполне искренни. Вся жизнь его доказывает, как высоко ценит он положение "сына своего искусства".
Если к кому-либо Бенвенуто чувствует настоящее уважение, то только к большим художникам. О королях, герцогах, папах ему случается говорить очень пренебрежительно. О Гиберти, Донателло, Брунеллеско он всегда вспоминает с трепетом. О Рафаэле он говорит с величайшей почтительностью. Микеланджело для него какой-то полубог. Divinissimo – его постоянный эпитет. Хвалою ему полны оба его трактата: "О ювелирном деле" и "О скульптуре". Он его считает своим учителем и любит как отца. Когда Пьетро Торриджани рассказал Бенвенуто о том, как ударом кулака изуродовал лицо Микеланджело, он проникся такой ненавистью к нему, что не мог больше его видеть[230].
Считая себя одним из самых выдающихся представителей искусства своего времени, Бенвенуто и требует, чтобы к нему относились с почитанием. Таким образом, все гасконады получают несколько смягченный вид. Он требует коленопреклонения не перед собой, а перед искусством. Его положения и его права определяются тем, что он жрец искусства. И не просто жрец, а pontifex maximus.
Каковы же его взгляды на искусство? Что он в нем ценит? Что ему дорого? Ответы на эти вопросы мы найдем не столько в "Vita", сколько в трактатах, больших и малых. Челлини был ювелиром, резчиком, чеканщиком и сделался скульптором. Из сферы малого искусства вошел в сферу большого. Тут он создал несколько крупных вещей: меццотондо с нимфой Фонтенбло, бюсты Козимо и Биндо Альтовити, мраморное Распятие, наконец, Персея. Ему улыбнулась слава как скульптору. Естественно, что это свое искусство он считал самым значительным и самым универсальным. Сколько копий переломал он, чтобы доказать преимущество скульптуры перед живописью, когда Бенедетто Варки обратился к Микеланджело и другим художникам, в том числе и к Бенвенуто, с просьбой ответить на вопрос, какое из двух искусств благороднее[231]. Он яростно доказывал всюду преимущество скульптуры. Вот несколько характерных выдержек из письма к Варки: «Скульптура – мать всех искусств, в которых приходится иметь дело с рисунком. Хорошему, хорошей школы скульптору очень легко сделаться... лучшим живописцем, чем незнакомому основательно со скульптурой. Живопись не что иное, как отражение в ручье дерева, человека или еще чего-нибудь. Различие между скульптурою и живописью – различие между вещью и тенью»[232]. Бенвенуто чрезвычайно ценит рисунок и совсем равнодушен к краскам. Его наставления о том, как нужно учиться рисованию, чрезвычайно для него характерны. Захлебываясь от восторга, говорит он о том, как начинающему важно научиться рисовать прежде всего кости человеческого скелета. «После того как ты нарисовал и запомнил эти кости, ты начнешь рисовать чудеснейшую кость, которая идет посредине, между двумя бедренными костями. Эта кость удивительно красива»[233]. Такими лирико-анатомическими наставлениями наполнено много страниц. И сейчас еще чувствуется, каким трепетным, неподдельным интересом к телу [человека] полон Бенвенуто. А в какое он приходит негодование, когда неумелые и бездарные руки коверкают это совершеннейшее и прекраснейшее произведение природы. Послушайте его взволнованные инвективы, брошенные в лицо Баччо Бандинелли, когда герцогу Козимо вздумалось однажды стравить обоих художников. Речь идет все о той же выше всякой меры безобразной группе Бандинелли «Геркулес и Как». «Если, – кричит Челлини, – и вы видите соответствующую жестикуляцию перед седой бородой соперника, – если обрить голову твоему Геркулесу, у него не останется достаточно черепа, чтобы вместить мозг... Его невозможные плечи похожи на две вьючные корзины, перекинутые через осла. Его грудь (le sue poppe) и другие мускулы скопированы не с человека, а с поганого мешка с дынями, выпрямленного и прислоненного к стене. Неизвестно, каким способом его две ноги соединены с этим скверным торсом. Поэтому и не поймешь, на какую ногу он опирается или на какую падает тяжесть его тела. И не видно, чтобы он опирался на обе ноги вместе... он очень заметно падает вперед на целую треть аршина (braccio), что одно является величайшей и непростительнейшей ошибкой»[234].
Это говорит не противник, несправедливо обиженный, а художник, в котором оскорблено чувство красоты и пафос рисунка. Тело человека нельзя коверкать недостойными руками: для художника нет большего бесчестья. В этом почитании человека у Бенвенуто нет ничего идейного, никакого культа личности, возведенного в теорию. Человек для Бенвенуто – категория не этическая, как для огромного большинства кватрочентистов и для многих его современников, а исключительно эстетическая. Совершенно так же, как в жизни, крайний индивидуализм Бенвенуто не нуждается ни в какой теории, а осуществляется безыдейно и беспринципно, так в искусстве культ человека складывается исключительно из правил, как рисовать "чудеснейшую кость", идущую между двумя бедрами, и как моделировать голову, чтобы, обритая, она могла вмещать мозг. Быть может, ни в чем другом не сказывается так ярко тот факт, что с Бенвенуто мы присутствуем при закате Возрождения. Бенвенуто – несомненный продукт культуры Возрождения, но ее лучшие догматы должны были представляться ему непростительной сентиментальностью. Только формальные моменты культуры были ему еще дороги, и прежде всего тот, который велел учиться на античных образцах. Когда он попадает первый раз в какой-нибудь город, где есть античные памятники, напр. в Пизу, где много антиков нашел он в Campo santo, и особенно в Рим, – он со всей страстью отдается их изучению. И влияние антиков запечатлелось на всю жизнь Бенвенуто во всех страстях искусства.
Итак, человек, линии его тела и античное искусство, помогающее эти линии схватывать и изображать. Художнический интерес Бенвенуто к окружающему этим исчерпывается. В мире едва ли существует что-либо еще, достойное внимания. "Vita" об этом свидетельствует чрезвычайно красноречиво. Челлини четыре раза побывал на альпийских перевалах. Он их не заметил. Его не тронула красота горных пейзажей. Как будто он ехал по пыльной дороге в Ареццо. Когда Бернард Клервосский шел целый день по берегу Женевского озера и не видел его, мы это понимаем: Бернард был аскет, он был погружен в размышления. И средние века вообще не умели любоваться природой. Но ведь позади Бенвенуто было все Возрождение. У людей основательно раскрылись глаза. Природу понимать научились хорошо. А Бенвенуто путешествует без конца по Италии, дважды посещает Францию – и ничто из виденного не остается у него в памяти: ни ущелья Аппенин, ни чудеса Венеции, ни волны Неаполитанского залива, ни свинцовая гладь Мантуанского озера, ни великолепие Парижа – ничто.
У Челлини-художника был на редкость ограниченный кругозор. Легко было называть себя учеником Микеланджело. Нетрудно было высказывать соображения о том, в чем величие его, как живописца[235], но, очевидно, было очень трудно заимствовать у него частичку его необъятного художественного кругозора.
Мы увидим потом, как все это отразилось на произведениях Бенвенуто.
IV
Среди артистической богемы своего времени Бенвенуто не был в числе наиболее развращенных придворной атмосферой. Но он не был лучше большинства. И не нужно забывать, что богема XVI века была совсем не то, что богема Кватроченто. Тогда в центре этого странного мира, представители которого скромно считали себя ремесленниками, но который буквально был полон гениальными художниками, стояли такие гиганты, как Брунеллеско, Донателло, Леон Баттиста Альберти. Их окружали Лука и Андреа делла Роббиа, Росселино, Дезидерио да Сеттиньяно, Микелоццо, Кронака, Полайоло, целая плеяда живописцев. Тут что ни имя, то мастер, единственный в своем роде. И нравы их были на уровне их талантов. Мы знаем, как развлекались эти люди – вспомните веселую шутку с Грассо-плотником, – как состязались между собой – история с распятиями Донателло и Брунеллеско, каков был их образ жизни. Различие между богемой XV и XVI веков то же, что между св. Георгием Донателло и Меркурием Джанболонья. Там вся сила внутри. Никаких внешних эффектов, и вы верите в эту силу. А тут статуя раскинулась во все четыре стороны: одна рука вперед, другая вверх, одна нога назад, другая прямо, – и все-таки это не убеждает, что в Меркурии достаточно силы для полета.
В XV веке богема жила просто и скромно. В XVI веке она хочет богатства, роскоши, дворцов, почестей. В XV веке она была культурнее и образованнее. Друзья-гуманисты как-то незаметно тянули художников за собой. В XVI веке, за немногими исключениями, художники малообразованны. У Бенвенуто – какие-то обрывки знаний: он успел их нахватать отовсюду понемногу между занятиями флейтой, ударами шпаги и чеканкой благородных металлов. Совсем без образования ювелиру нельзя. Нужны античные темы, античные мотивы. Особенно важно все это Челлини, ибо он в ювелирном деле работает all’antica. И в "Vita" мы находим следы такого случайного знания. Одну из девушек, ему приглянувшихся, зовут Фаустиной. По этому поводу он замечает, что она была, как ему кажется, несравненно красивее, чем та Фаустина, "о которой так много болтают (cicalan tanto) античные книги"[236]. Вот такого характера и все его сведения. Поверхностность вообще была отличительной способностью богемы Чинквеченто по сравнению с богемой XV века. Кроме единичных людей, сверстники Челлини так же, как он, не любили думать. Кватрочентисты были глубже и в мировоззрении, и в творчестве, и в жизни. Одно было общее у тех и у других: любовь к искусству и борьба за достоинства художника. Но и тут была разница; Брунелеско дважды бросал Флоренцию и уезжал в Рим, зная, что его позовут опять, и окончательно: когда обсуждалась постройка купола св. Репараты. Он не хотел поступиться своими взглядами в комиссии, где, однако, сидели люди понимающие. В XVI веке только у одного Микеланджело хватало смелости гнать папу Юлия II из Сикстинской капеллы, пока он не кончил своего плафона. В XV веке Донателло собственноручно разбил один портретный бюст, когда заказчик стал с ним торговаться. А Бенвенуто, хотя он не признавал в этих делах уступок, из нужды согласился на перемену условий, навязанную ему хитрым и жадным банкиром Биндо Альтовити, которому он сделал бюст, несмотря на то что новые условия ему были очень невыгодны[237]. Так в малом и в большом, во внешнем и внутреннем различие между двух столетий вскрывается чрезвычайно явственно.
Те люди были цельнее. Если они любили, то любили, если верили – верили. Сопоставьте с простой и крепкой верой артистической богемы Кватроченто веру Бенвенуто.
Среди сонетов Бенвенуто – множество на духовные темы. Но какие они все холодные! Одна сплошная риторика, переложенная на плохие стихи. То же самое и его пресловутый Capitolo, написанный в тюрьме. Бенвенуто очень любит говорить, что он любит бога, и, когда ему приходится плохо, очень охотно вспоминает о боге. Но когда жизнь течет гладко, в суматохе житейской сутолоки, среди постоянно сменяющихся работ и заказов бог не вспоминается совсем. Особенно часто бог приходит на память в тюрьме. В замке св. Ангела, где у него в руках только Библия да хроника Джованни Виллани, Бенвенуто поневоле много думает о боге. И мы знаем, что он додумался до видений. Когда он попал в тюрьму во Флоренции уже в последний период жизни, видений больше не было. Но был некий поэтический зуд. Он беспрестанно находил выход в плохих сонетах, в которых Бенвенуто то просит о повторении прежнего видения[238], то перелагает на сонеты молитвы[239].
Все это делалось равнодушно-равнодушно, без подъема, без подлинного вдохновения, просто потому, что скучно в тюрьме и нужно как-нибудь убить время.
Когда Бенвенуто совершал паломничество в монастыри и носил по церквам всякие ex-voto, это делалось не по непреодолимой внутренней потребности, а просто потому, что так принято. Когда под шестьдесят лет Бенвенуто вздумалось идти в монастырь, это было очередным чудачеством, и только. Во Флоренции еще не умерла в то время память о временах Савонаролы, когда постригались лучшие представители интеллигенции, как Джованни Пико делла Мирандола, и когда весь остаток жизни художник уже не писал ничего, кроме сюжетов из Священного Писания: Баччо делла Порта, в монашестве фра Бартоломео, Сандро Боттичелли[240]. Бенвенуто монашеский чин надоел довольно скоро. Он вступил в монастырь в 1558 г., а уже в 1560 году исходатайствовал себе освобождение от обетов. А еще через два года женился, притом тайно.
Мы охотно верим Бенвенуто, когда он рассказывает, как горячо он молился богу, когда при отливке Персея форма наполнялась плохо и когда горячо благодарил он бога, в конце концов форма наполнилась. В такие минуты он мог искренне верить в бога. В такие минуты молитвы могли идти у него из самых глубин души. Но настоящего религиозного чувства, горячего и крепкого, в нем не было. Его отношения к богу носили чисто договорный характер: do ut des. Как вообще у людей его типа: сегодня он верит в бога, а завтра в черта. И каждый раз вполне искренне.
У Бенвенуто тоже бывали моменты, когда он верил в черта по-настоящему. Прочтите рассказ о том, как в Риме некий священник, опытный в чернокнижном искусстве, уговорил его пойти с ним ночью в Колизей вызывать духов. Бенвенуто пошел, заклинание вышло очень удачно. В "Vita" он все рассказал. Он верит, что в критический момент Колизей действительно наполнился демонами. Их было так много, что это уже начало становиться опасным: нужно было прибегнуть к вонючей ассафетиде, чтобы их разогнать. К счастью, запах ассафетиды совершенно неожиданно распространился из другого источника: у одного из участников колдовства от страха подействовал желудок, притом с таким громом, что демоны предпочли немедленно отправиться домой, в преисподнюю[241]. И все-таки Бенвенуто верит, что демоны предсказали ему, что он найдет свою Анджелику.
А когда он ее нашел действительно, уверовал еще больше.
Его кумир Микеланджело верил в бога по-другому и не ходил колдовать в Колизей. И любовь к людям у Микеланджело была другая. Когда войска папы и императора осадили в 1530 году Флоренцию, родину обоих, Микеланджело, забыв обо всем, отдался делу укрепления города и его защите. А с Бенвенуто случилось вот что.








