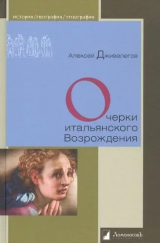
Текст книги "Очерки итальянского возрождения"
Автор книги: Алексей Дживелегов
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
Двор по необходимости группировался вокруг герцогини и ее дам. Картинка, набросанная в приведенном выше сонете Д’Аннунцио, не совсем отвечает действительности. Tener corte приходилось не Гвидубальдо, а его супруге. Герцога так изнуряла его болезнь, что почти сейчас же после обеда он удалялся к себе отдохнуть, и придворные кавалеры понемногу собирались там, где была герцогиня, а с нею неразлучная Эмилия. Там начинались разговоры, изобретались комнатные забавы, выдумывались пикники, поездки, экскурсии. Каждый старался показать себя во всем блеске, а синьора Эмилия, как говорит Кастильоне, pareva la maestra di tutti (казалось, поучала всех. – Ред.).
Жизнь была полна веселья. Хотя недаром в самый разгар придворного веселья не разглаживались складки заботы на прекрасном челе герцогини. И она, и Гвидубальдо, и всякий вообще чуткий человек понимали, какое то было горькое веселье. Ибо веселиться можно было, только закрыв глаза. Люди должны были искусственно отгораживаться от всего, что вселяло тревогу. Как будто этим могли быть устранены причины тревоги.
Над Италией сгущались тучи. То утихая, то усиливаясь, но уже не прекращаясь, ревела буря. Почти непрерывно где-нибудь на севере, на юге звенело оружие и лилась итальянская кровь.
Неотвратимо и неуклонно развертывался свиток великой социальной и политической трагедии итальянской земли. Народ в деревне и городе погибал от меча, от голода, от болезней. Бытие любого из итальянских государств было поставлено на карту. Макиавелли во Флоренции исчерпывал все ресурсы своего гения, чтобы найти средство против национальной беды своей родины. Микеланджело оплакивал судьбу Италии в потрясающих образах Сикстинского плафона.
В Урбино, при дворе, предпочитали об этих вещах забывать. Будущее надвигалось мрачное, но текущий миг был прекрасен. Окружающие Урбино холмы мягко рисовались своими линиями на чистом вечернем небе. Дворец Лаураны стоял незыблемо и гостеприимно открывал свои просторные покои гостям Елизаветы. Казна герцогская была богата, а папа Юлий был герцогу другом. Пока все это было так, нужно было наслаждаться и не думать о завтрашнем дне. Воскресало, словом, настроение карнавальных песен Лоренцо Медичи, в которых буйный задор так жутко и красиво был пропитан злыми предчувствиями.
Di doman non c’é certezza...[12]
Только теперь задору было меньше, а злых предчувствий больше. И само настроение сейчас оправдывалось еще больше, чем в дни Великолепного. Но чем безрадостнее было кругом, тем мучительнее хотелось жить и веселиться в Урбино.
Старая придворная аристократия справляла по себе тризну. И справляла, нужно признать, на славу, при деятельном участии представителей интеллигенции.
Празднества устраивались по всякому поводу. Герцогиня не жалела на них расходов, а поэты щеголяли друг перед другом остроумной выдумкой и талантом. То Кастильоне и Чезаре Гонзага сочиняли в честь Елизаветы звучные стихи, которые декламировали всенародно, то Бембо и Оттавиано Фрегозо наряжались в фантастические костюмы посланцев Венеры и приходили от имени богини жаловаться – тоже в стихах – насчет того, что у владетельниц здешних мест сердца из стали и адаманта, непроницаемые для стрел Купидона, умоляли герцогиню и ее подругу, crudel e pia, смягчиться и не отвергать более утех любви. То затевали "сиенскую игру", giuoco senese, которая заключалась в том, что сосед соседке должен был шепотом сказать фразу, а та немедленно ответить громко. Бембо, который в своих ухаживаниях проявлял настойчивость, достойную будущего кардинала, пробовал хоть этим способом проложить дорогу к сердцу Елизаветы. Он шепнул ей однажды, будучи ее соседом: "Io ardo" – "я горю", но немедленно получил ответ: "Kon io". И очень огорчился – ненадолго. То общими силами сооружали балет, где отличались дамы и Роберто да Бари, самый изящный и ловкий танцор компании, который отдавался танцам с таким увлечением, что часто не замечал, что потерял туфлю и короткий плащ. Веселее всего справляли, конечно, карнавал. Устраивали какое-нибудь представление, потом в масках разбредались по городу. А юный Prefettino[13], наследник престола, Франческо Мария делла Ровере, упрашивал Кастильоне и Гонзага, неразлучных и в своих ночных странствованиях, взять его с собой.
Придворные нравы в Урбино были безупречны по масштабу того времени. Личные свойства герцогини, окружавшее ее благоговейное поклонение, болезнь герцога, ручавшаяся за его целомудрие, делали урбинский двор непохожим на большинство итальянских дворов того времени. В нравах была пристойность, и Урбино славилось, как некие поля блаженных.
Конечно, не следует преувеличивать. Не у всех дам герцогини были сердца адамантовые. Маргарита Гонзага, которая отвергла много блестящих женихов, в том числе римского банкира Агостино Киджи, Ротшильда своего времени, не могла устоять перед юной грацией Бероальдо. Мадонна Рафаэла была очень нежна к Кастильоне, а мадонна Ипполита старалась заставить Бембо забыть прекрасную герцогиню Феррарскую и утешить его в неудаче с Елизаветой, причем Бембо еще ревновал ее к Тривульцио. Что касается до Великолепного Джулиано, то его роман с мадонной Пачификой Брандано кончился тем, что в Урбино родился новый отпрыск Медичи, хорошенький черноглазый мальчик – будущий кардинал Ипполито, который позднее был отравлен своим племянником, герцогом Алессандро. Герцогиня, вероятно, знала о шалостях дам и кавалеров, но так как все боялись оскорбить целомудренную чувствительность Елизаветы, то секреты любви соблюдались строго и все оставалось прилично. Только одна история вышла наружу, потому что кончилась кровавой драмой.
Вместе с Prefettino при урбинском дворе жила его сестра, кокетливая молодая вдова Мария Варано, по мужу родственница Камеринского владетельного дома. Она влюбилась в приближенного герцога, Джованни Андреа, кавалера, превосходившего всех красотой, храбростью и изяществом, но незнатного происхождения. Связь длилась год, когда о ней стало известно Франческо Мария. Ему было тогда восемнадцать лет, но он был уже мастером в делах вероломства. Он не показал никому, что он что-то знает, а как-то просто предложил Джованни Андреа прийти к нему пофехтовать. И когда они стояли друг против друга со шпагами в руках, слуги Prefettino схватили несчастного за руки, а тот погрузил ему в грудь свое оружие. Франческо сейчас же ускакал в свою вотчину Синигалию, велев своим клевретам прикончить свою жертву и умертвить слугу сестры, носившего от нее письма к возлюбленному. Герцогиня долго не могла прийти в себя от ужаса. Герцог был в ярости. Но Франческо Мария был племянник папы Юлия и наследник престола. Его вскоре простили.
Такие случаи, к счастью, были исключением. В общем, жизнь шла без трагедий. Люди, составлявшие двор герцога и герцогини, старались больше о том, чтобы доставлять себе и другим удовольствие.
Почти всех членов этой блестящей компании Кастильоне сделал действующими лицами своих диалогов о придворной жизни, одного из самых важных памятников культуры итальянского Возрождения. Книга, озаглавленная "Ii libro del Cortegiano", столько же, сколько мировоззрение и жизнь ее автора, объясняет некоторые существенные особенности Чинквеченто, которые иначе остались бы необъяснимыми.
Займемся сначала книгой.
II
Кастильоне приурочивает свои диалоги к 1507 году. Это дает ему удобный повод не включать себя в число действующих лиц: он в это время находился в Англии, куда был послан, чтобы отвезти подарок, Рафаэлева "Св. Георгия"[14] и принять знаки ордена Подвязки, пожалованного королем герцогу Гвидубальдо. Остальные все налицо; есть кое-кто и еще, не принадлежащий к обычному придворному кругу герцога и герцогини. Дело в том, что незадолго перед тем, как происходила беседа, давшая книге содержание, в Урбино останавливался проездом из Болоньи в Рим папа Юлий и некоторые из его придворных были так очарованы приемом, что остались еще на несколько дней после того, как папа поехал дальше. Кастильоне и им дал роли в своем диалоге.
Как литературное произведение Cortegiano – один из шедевров итальянской прозы XVI века. Кастильоне – несомненно крупный писатель. В этом отношении установившийся взгляд на него вполне правильный. Выпуклые характеристики действующих лиц, огромное искусство пересыпать живыми жанровыми сценками, острой пикировкой, непринужденной светской болтовней развитие основной темы – все это дает книге легкость и грацию настоящего художественного диалога. Порой даже забывается, что в ней есть дидактическое задание и что автор ни на минуту не упускает из виду главной нити разговоров. К самой теме он подходит естественно, без всякой книжной принужденности. Так не умели строить свои латинские диалоги гуманисты Кватроченто.
"На другой день после отъезда папы, когда общество в обычный час собралось в своем постоянном месте, после обмена приятными разговорами (piacevoli raggionamenti) герцогиня пожелала, чтобы синьора Эмилия начала игры".
Эмилия стала приказывать каждому по очереди предложить свой проект. Когда очередь дошла до Федериго Фрегозо, он предложил "игру": "создать словами законченного придворного (formar con parole un perfetto Cortegiano), объяснив все условия и особые качества, которые требуются от того, кто достоин этого имени". Синьора Эмилия сейчас же ухватилась за эту идею.
Граф начал излагать свой взгляд на то, чем, по его мнению, должен быть хороший придворный. Его много раз прерывали, больше всех Гаспаро Паллавичино. Иногда Биббиена вставлял какую-нибудь шутку, а Чезаре Гонзага пытался состязаться с ним в остроумии.
Но такие перерывы не заставляли графа Лодовико терять нить своего рассуждения. Он мало-помалу почти довел его до конца. Было уже очень поздно, когда он заканчивал набросок образа идеального придворного, в это время снаружи "послышался топот ног и громкий говор. Все обернулись, в дверях горели факелы, и в комнату вошел с многочисленной и блестящей свитой синьор префект".
Франческо Мария в это время не был тем мрачным бородатым воином, каким мы его знаем по великолепному тициановскому портрету. То был шестнадцатилетний юноша, красивый и нежный, с длинными каштановыми кудрями, как он стоит в одной из групп "Афинской школы" Рафаэля. Никто еще не предчувствовал в нем вероломства, свирепости и рассчитанной жестокости, которая должна была сказаться через год в убийстве Дж. Андреа. Никто бы не сказал, что из него выработается буйный, не знающий удержу своей ярости солдат. Но и солдат он был особенный. В нем не было лучшего украшения воина – личной храбрости, и потому, хотя его и будут считать хорошим полководцем, он никогда не сумеет снискать себе на боевом поприще славы Сиджисмондо Малатеста, Федериго Монтефельтро или Франческо Гонзага. Живя при урбинском дворе с детства, он обожал Елизавету, как мать. Он стал просить продолжать беседу, но граф Лодовико заявил, что он очень устал, а Джулиано Медичи предложил разойтись, с тем чтобы на следующий день собраться снова и побеседовать о том, как должен придворный пользоваться теми своими качествами, которых требовал от него граф Лодовико.
На следующий день сначала Федериго Фрегозо говорил о том, что было предложено накануне, а потом Бернардо Биббиена долго и пространно излагал свой взгляд на шутки, остроты и смешные проделки всякого рода, дозволенные и недозволенные с точки зрения придворного хорошего тона.
К вечеру Джулиано Медичи, il Magnifiee, предложил, чтобы кто-нибудь так же охарактеризовал идеальную придворную даму, как граф Лодовико и мессер Федериго охарактеризовали идеального придворного. Третий день на это и уходит. Джулиано поет гимн женщине и перечисляет те качества, которые требуются от идеальной придворной дамы. Когда же он, усталый, умолкает, роль защитника женщин принимает Чезаре Гонзага. И еще остается некоторое время для Бернардо Аккольти. Он делится с собранием взглядами на то, что должен делать придворный, чтобы заставить женщину полюбить себя. Синьор Гаспаро и во время речи Чезаре Гонзага, и во время рассуждений Unico Aretino не унимается и не перестает сопровождать шутками и язвительными замечаниями всякую похвалу по адресу женщин. А Оттавиано Фрегозо, заикнувшийся о том, что, говоря о женщинах, восхваляя и порицая их, общество зря теряет время, которое можно было бы отвести на пополнение характеристики идеального придворного и идеальной придворной дамы, немедленно изловлен на слове синьорой Эмилией и получает приказ заняться этим на следующий день. Тема была трудная, и Оттавиано готовился к ней основательно. По крайней мере, днем его почти не было видно. Когда вечером четвертого дня все собрались по обыкновению у герцогини, синьора Оттавиано не было. Решили, что он и не придет, и стали налаживаться провести вечер без рассуждений о придворном. Дамы затеяли танцы и вообще занимались кто чем хотел. В это время вошел неожиданно синьор Оттавиано. Он увидел, что Чезаре Гонзага и Гаспаро Паллавичино танцуют, поклонился герцогине и сказал смеясь:
– Я думал, что и в этот вечер мне придется слышать, как синьор Гаспаро будет говорить что-нибудь дурное о женщинах. Но, видя, что он танцует с одной из них, я думаю, что он заключил мир со всеми. И мне приятно, что спор или, лучше сказать, разговор о придворном кончился таким образом.
Но герцогиня скоро приводит синьора Оттавиано к повиновению, и он начинает длинное рассуждение об отношениях между придворным и государем. С этой темы он переходит на другую, более широкую: о наилучшей форме правления. Здесь, защищая монархию, он сталкивается со взглядами венецианца Бембо, сторонника республики. Тот же Бембо заканчивает четвертый день и с ним вместе книгу Кастильоне восторженным гимном чистой любви в духе платоновской философии.
"Каков же будет, о, Амур святейший, тот смертный язык, который в состоянии достойным образом воздать тебе хвалу! Ты – прекраснейший, добрейший, мудрейший! Ты происходишь от красоты, от добра, от мудрости божественной: в ней пребываешь, к ней, через нее, как в некий круг, возвращаешься. Ты, сладчайшая цепь мира, связь между небесным и земным, мягко склоняешь высшие добродетели к управлению низшими и, обращая дух смертных к его Началу, соединяешь его с ним. Ты собираешь воедино элементы согласия. Ты побуждаешь природу творить, а то, что рождается, – развиваться в жизни. Вещи разъединенные связуешь, несовершенным даешь совершенство, несходным – сходство, враждебным – дружбу, земле – плоды, морю – покой, небу – свет жизненный. Ты – отец истинных наслаждений, изящества, мира, кротости, доброжелательства, враг грубой дикости, невежества, в целом начало и конец всякого блага. И так как ты любишь обитать в цветке прекрасного тела и в душе прекрасной и оттуда иногда показываться немного глазам и умам тех, которые достойны тебя видеть, то я думаю, что сейчас, здесь, среди нас – твоя светлица. Поэтому соблаговоли, Господин, услышать наши молитвы, влейся в наши сердца, блеском твоего священного огня освети наши потемки и, как надежный проводник, в этом слепом лабиринте укажи нам истинный путь. Исправь обманчивость наших чувств и после долгого бреда дай нам истинное и твердое благо. Дай нам почувствовать те духовные благоухания, которые оживляют добродетели ума. Дай нам услышать небесную гармонию, столь созвучную, чтобы в нас не осталось больше места ни для какого раздора страстей. Опьяни нас в том неиссякаемом источнике довольства, который дает радость постоянную и не пресыщает никогда, который тому, кто пьет его живительную и чистую влагу, вливает ощущение истинного блаженства. Очисти лучами света твоего глаза наши от мрака невежества, чтобы впредь не преклонялись мы перед красотой преходящей, чтобы мы познали, что вещи, которые они как будто бы видят, не существуют, а те, которых не видят, существуют. Прими души наши, которые сами отдаются тебе в жертву. Испепели их в том живительном пламени, которое сжигает всякую материальную грубость, чтобы, во всем отделенные от тела, вечной и сладчайшей связью соединились они с красотой божественной. И чтобы мы, отделенные от самих себя, как истинные влюбленные, в предмет любви нашей могли превратиться и вознестись над землею и чтобы мы могли быть допущены к пиру ангелов. Так дай нам напиться амброзией и нектаром бессмертным и в заключение умереть смертью счастливейшей и живой, как уже умерли те древние отцы, души которых ты пламенной силой созерцания похитил из тел и соединил с богом".
"Бембо говорил с таким увлечением, что казался совершенно невменяемым (astratto) и вне себя. Он сидел, безмолвный и неподвижный, с глазами, устремленными на небо, как полоумный. Синьора Эмилия, которая вместе с другими слушала с величайшим вниманием его рассуждения, взяла его за складки одежды и, слегка его расталкивая, тихо сказала:
– Смотрите, мессер Пьетро, как бы от этих мыслей у вас у самого душа не рассталась с телом.
– Синьора, – ответил мессер Пьетро, – это было бы не первым чудом, которое сотворит во мне любовь".
Беседа готова была завязаться вновь, но герцогиня сказала:
– Так как спор между вами может затянуться надолго, лучше будет отложить его до завтра.
– И даже до сегодняшнего вечера, – заметил Чезаре Гонзага.
– Как до сегодняшнего! – воскликнула герцогиня.
– Очень просто: потому что день уже настал.
И он показал на свет, начинавший проникать в комнату через оконные щели. Все встали с мест в великом удивлении, ибо никто не думал, что беседа длилась дольше обычного. Но так как ее начали позднее, чем всегда, и так как она была очень интересна, то общество забылось и не заметило, как летели часы. "И никто не чувствовал в веках своих тяжести сна, которая появляется всегда, когда привычные для сна часы проходят в бодрствовании. Открыли окна с той стороны дворца, которая выходит на высокую вершину горы Катри. На востоке родилась уже чудесная заря цвета роз и погасли все звезды, кроме нежной правительницы небес, Венеры, которая стоит на грани и ночи и дня. Казалось, что от нее веет сладостный ветерок, наполняющий воздух острой свежестью и начинающий будить, в шумных лесах по соседним холмам, звонкое пение порхающих птичек...
Тогда все почтительно простились с синьорой герцогиней и направились в свои комнаты, уже не нуждаясь в свете факелов: довольно было дневного света".
III
Таково обрамление книги, характеризующее литературные приемы и отчасти литературные вкусы Чинквеченто. Содержание ее гораздо значительнее.
Основная задача книги, как ее понимал сам Кастильоне, одна, хотя в ней много отступлений, – нарисовать идеальный тип придворного.
Кастильоне не один пытался ее разрешить. Его книга написана между 1514 и 1518 годами. В 1551 году появился "Galateo" Джованни Делла Казы, настоящий кодекс хорошего тона, уже без обязательного применения к придворной жизни. Да и "Asolani" Пьетро Бембо, экзальтированного проповедника платонической любви в "Cortegiano", вышедшие в свет до книги Кастильоне, являются руководством поведения для влюбленных разных общественных категорий: знатных дам и куртизанок, прелатов и ученых. "Il libro del Cortegiano" полнее и шире ставит свою задачу.
Когда граф Лодовико Каносса еще далеко не кончил перечислять качества хорошего придворного, Лодовико Пио замечает ему[15]: «Не думаю, чтобы во всем мире возможно было найти сосуд такой обширный, чтобы он оказался способен вместить все вещи, какие вы хотите видеть в своем придворном». И чем дальше подвигается накопление этих вещей, тем больше увеличивается скептицизм. После того как граф и мессер Федериго Фрегозо перечисляют все качества, которыми должен обладать придворный, Джулиано Медичи говорит[16]: «Придворный, которого создали своим красноречием граф и мессер Федериго, не существовал никогда и, вероятно, не может существовать». Но Кастильоне этому не верит. Он не боится перегрузить своего придворного такими качествами, которые трудно соединить в одном лице, ибо убежден, что такое соединение все-таки возможно. Какие же это качества?
Придворный должен быть благородного происхождения. Это первое и необходимое условие. И не только просто родовитым человеком, его "порода" (come si dice, un sangue) должна сказываться в его внешности: в осанке, в выражении лица, в изяществе[17]. Главной профессией придворного должна быть профессия воина, но воин-придворный не должен быть грубым солдатом: он должен быть храбр с неприятелем, но сдержан, скромен, лишен хвастливости в обычное время. И противоположной крайностью не должен страдать придворный: в нем не должно быть изнеженности и женственных манер, которыми щеголяют некоторые. Одеваться он должен не с чрезмерной изысканностью – как большинство воспитанных людей, не более. Но нравиться и производить впечатление ему нужно; в нем должна быть красота; рост его не должен быть ни чрезмерно высок, ни чрезмерно мал: то и другое возбуждает смех. Он должен быть хорошо сложен и ловок во всех телесных упражнениях: должен отлично знать верховую езду, хорошо биться на копьях, на шпагах, на кинжалах и даже выступать на бое быков. В делах чести, раз вопрос не может разрешиться мирно, должен твердо идти до конца и не поступать так, как делают иные: выбирают оружие, которое не колет и не рубит. Должен быть искушен во всех видах спорта: хорошо бегать, прыгать, плавать, метать камни, играть в мяч.
Затем идут все более мирные требования. Придворному нужно любить все игры и удовольствия, которые подобают человеку хорошего общества: танцы, верховую езду и особенно охоту, настоящую забаву вельможи. Ему нужно уметь поддерживать разговор, шутить, быть остроумным. Во всем этом он должен стараться отличиться перед другими. Но двух вещей он не должен забывать никогда. Во-первых, быть изящным во всем – это непременное требование для того, кто хочет успеха. Кто изящен, тот имеет успех, chi ha la grazia, quello è grato. Кому природа не дала изящества, тот должен выработать его в себе воспитанием, подражанием. "Подобно тому как пчелка, летая по зеленым лугам, ищет цветы среди трав, так и наш придворный должен красть изящество у всякого, у кого оно есть". И если оно у него не врожденное, а выработанное, это не должно быть заметно. "Настоящее искусство то, которое не кажется искусством: quella esser vera arte ché non appare esser arte". Второе требование, чтобы была непринужденность, spezzatura, но непринужденность естественная и не переходящая в рисовку. Когда человек всячески старается показать, что он не думает о том, что делает, это значит, что он думает об этом чересчур много. Когда непринужденность переходит известные, средние границы, она становится аффектированной. Простота и естественность нужны во всем: в музыке, в живописи, в повседневном обиходе. "Иной не побыл и года вне дома, а, вернувшись, начинает говорить на романьольском диалекте, по-испански, по-французски и еще бог знает как, а это все происходит от желания показать, что он много знает".
Но этого мало. Придворный должен быть широко и многосторонне образованным человеком. "В литературе он должен быть образован более чем посредственно, по меньшей мере в тех науках, которые мы зовем гуманитарными (d’umanità); знать он должен не только латинский язык, но и греческий, ибо по-гречески божественно изложено много различных вещей. Должен он быть начитан в поэтах и не меньше в ораторах и историках, а сверх того искусен в писании прозой и стихами, больше всего на нашем родном итальянском volgare, что кроме удовольствия, которое принесет ему самому, доставит ему возможность занимать приятными беседами дам, которые обыкновенно любят эти вещи". Разумеется, придворному нужно знать еще и современные иностранные языки.
Когда возникает вопрос, соединима ли профессия воина, которая должна быть у придворного главной, с большим литературным образованием, оратор горячо отвечает: "Я должен упрекнуть французов, которые думают, что литературное образование вредит профессии воина. Я считаю, что никому так не идет быть литературно образованным, как воину. Я хочу, чтобы эти две сцепленные между собой (concatenate) и одна другую дополняющие профессии были и в нашем придворном".
Однако и это еще не все. Придворный должен уметь играть на нескольких инструментах и петь. "Потому что, если подумать хорошенько, никакой отдых от трудов, никакое лекарство для слабой души не может быть более благородным и приятным, чем музыка. Особенно при дворах, где музыка не только всякого заставляет забывать неприятности. Там ведь многое делается, чтобы доставить удовольствие дамам, а в их души, мягкие и нежные, легко проникает музыкальная гармония и наполняет их сладостью". Напрасно Гаспаро Паллавичино протестует против этого требования, говоря, что "музыка вместе со многими другими глупостями (con moite altre vanità) – дело женское", "придворному вовсе не нужно быть музыкантом". Он опять остается одинок в своем протесте. Несколько больше аргументов требуется, чтобы доказать, что придворному нужно уметь рисовать и писать красками. "Не удивляйтесь, – говорит оратор, – что я хочу и этого искусства, которое кажется, быть может, в настоящее время чересчур ремесленным (meccanica) и недостойным дворянина". И после неизбежных примеров древности идет длинное доказательство практической пользы умения рисовать, "особенно на войне", где нужно зарисовывать местность, реки, мосты, снимать планы. Потом выясняется ценность искусства для души.
IV
Портрет "совершенного придворного", нарисованный Кастильоне, знаменует собой целый самостоятельный этап в эволюции индивидуализма. Все, что представлялось отдаленным, лишь теоретически мыслимым идеалом людям Кватроченто, теперь предъявляется как практическое требование.
Педагоги XV века робко мечтали о том, чтобы при воспитании физическая сторона не забывалась из-за умственной. И когда об этом писал Леонардо Бруни, когда этого требовал Гуарино, когда это начинал осуществлять в своей мантуанской школе Витторино да Фельтре – это было революцией. Теперь Кастильоне требует от своего cortegiano сразу так много, что предполагается колоссальнейшее напряжение средств педагогии, как нечто безусловно необходимое предварительно. В его книге почти не говорится, как и где должен получить все свои знания, навыки, искусства "придворный", но несомненно, что самоучкой он быть не может. В XV веке Леон Баттиста Альберти, гениальнейший самородок, писатель, художник, архитектор, музыкант, искусный во всех упражнениях, был объявлен uomo universale, всесторонним человеком; на него смотрели как на единственного. Теперь Кастильоне хочет, чтобы любой из его "придворных" мог равняться с таким uomo universale. Исключение он хочет сделать правилом. В XV веке гимн человеку в речи "De dignitate humana" Пико делла Мирандола был идеалистической, даже больше – полумистической мечтой. Кастильоне сводит на землю эту страстную осанну во славу личности. Другими словами, Кастильоне настолько верит в мощь человеческого духа, что человеку на ответственном посту ставит категорический императив: будь таким, чтобы ты все умел, все знал, все мог. И требование это формулирует, как нечто практически достижимое.
В этом и заключается огромная разница между "Cortegiano" и хотя бы книгой Делла Казы. "Galateo" – руководство хорошего тона и ничего больше. Так, смотреть и на диалог Кастильоне – значит не понять его совсем[18]. Хороший тон – у Кастильоне совсем не главное, если судить о нем с историко-культурной точки зрения. Как на руководство хорошего тона смотрело на книгу в Италии и вне Италии большинство современников, хотя и не все[19]. История ищет в ней другого[20].
Кастильоне делает своего uomo universale придворным. Почему? Были у него для этого объективные основания? Представлял итальянский двор начала XVI века среду, в которой мог произрасти uomo universale, среду, сколько-нибудь благоприятную для культивирования "совершенного придворного", им нарисованного?
Послушаем прежде всего, что рассказывает нам про придворную жизнь трезвый реалист Пьетро Аретино. Вот какие требования к придворному предъявляются, по словам одного из действующих лиц его комедии "La Cortigiana"[21]: «Главное дело, чтобы придворный умел богохульствовать, умел быть игроком, завистником, блудником, еретиком, льстецом, злословцем, неблагодарным, невежественным, ослом; чтобы он умел молоть языком, изображать собою нимфу, быть лицом активным и пассивным»[22].
Вот уже в пяти строках целый букет таких качеств, о которых не вспомнил ни один из собеседников книги Кастильоне. Добрая герцогиня Елизавета упала бы в обморок, если бы малая часть того, что говорят у Аретино, пришла в голову неугомонному Гаспаро Паллавичино. Но действующие лица комедии Аретино этим не ограничиваются. В другом месте бывалый старый придворный отговаривает от его намерения некоего старика, желающего отдать сына ко двору[23]. Он изображает ему нищенские условия, в которых живут придворные: прежде чем быть допущенным к общему столу, нужно «рай поставить вверх дном»; спать не на чем – приходится покупать свои постели, самому платить прачке и цирюльнику; лошадь околеет, если не кормить ее на свой счет; чтобы одеваться прилично, нужно продать собственный дом; если кому случится заболеть, его везут в госпиталь. «Свободные бенефиции достаются тому, кто никогда не был при дворе, либо делятся на столько частей, что каждому приходится по дукату, и мы считали себя счастливее папы, если не приходилось добиваться этого дуката по десяти лет. У нас не только никто не платит учителям, у которых нужно научиться тому, что придает блеск человеку, но и того, кто учится на свой счет, преследуют как врага, потому что государи не любят около себя людей более ученых, чем они сами. Мы поедом ели друг друга и ненавидели один другого так, обедая за одним столом, как никогда изгнанники не ненавидят того, кто не дает им вернуться на родину». Другой персонаж Аретино восклицает: "Corte morte! (Двор мертв! – Ред.)[24] "В письмах Аретино рассказывает про одного проповедника, который, чтобы не распространяться долго о том, что такое двор, развернул перед своими слушателями картину преисподней[25]. Аретино был не единственным из современных писателей, кто изображал придворную жизнь в таких черных красках[26]. Его мнения разделяли очень многие. Правда, было в Италии несколько дворов, которые считались как бы исключением из общего правила. Но оговорки по поводу этих исключений были таковы, что очень приближали их к правилу. Когда у Аретино старый придворный останавливается в своей филиппике, чтобы перевести дух, его собеседник, задумавшись, замечает как бы про себя: «А ведь рассказывают чудеса про Медичи». И Аретино великодушно позволяет ненавистнику придворной жизни ответить: «Una fronda non fa primavera», – «один лист не делает весны». И несмотря на то что похвальный отзыв по адресу Медичи остался тут без возражений, мы отлично знаем, какие «чудеса» происходят при флорентийском дворе между 1512 и 1527 годами, когда оба представителя семьи Медичи, сначала кардинал Джованни, потом кардинал Джулио, смотрели больше в Рим, где их одного за другим ждала тиара: Флоренция была оставлена распутному Лоренцо, сыну Пьеро, изгнанного Савонаролой, а когда он умер – двум незаконнорожденным отпрыскам семьи, от имени которых правили прокураторы. Деспотизм был тем более злой и неприкрытый, что Медичи не были уверены в прочности своей власти и всегда жили в страхе революции, которая заставит их бежать.








