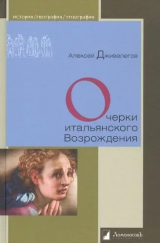
Текст книги "Очерки итальянского возрождения"
Автор книги: Алексей Дживелегов
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
"Дверь открыта настежь. Великий человек принимает столько народа, что слуги освобождены от обязанности докладывать. Мраморные ступени большой лестницы, расписанной фресками, ведут вас в обширную залу, которая служит передней. Всюду статуи, эскизы в рамках, обрывки картонов, наброски Тициана и Джорджоне. Шесть женщин с волосами, заплетенными по-венециански, работают в этой зале; одна из них играет на арпикорде – гитаре несколько больших размеров, чем теперешние. Обратите на них внимание. Все они молоды и хороши, резвы, легки, шаловливы. Это Аретинки. Под этим именем их знают все в Венеции. Аретино окрестил их. Солнце, лучи которого падают из трех больших окон на плафоне, освещает эту обольстительную группу. Тут же открывается большой балкон, задрапированный красной шелковой материей с синими полосами, подарком маркиза Дель Васто, украшенный двумя апельсиновыми деревьями в цветах и фестонами вьющихся растений, которые устремляются вверх и свисают в виде элегантной аркады. Отсюда открывается вид на Риальто. Здесь Аретино часто проводит вечера со своим другом Тицианом. Они созерцают длинные гондолы, купола дворцов, гондольеров с мускулистыми руками и убегающие линии воздушной перспективы.
На лестнице толпа[102]. Вы никогда не доберетесь до Аретино. Восточные люди в длинных халатах, почтительные армяне, посланные Франциска I, знаменитые художники, молодые скульпторы, жаждущие славы, женщины, увлеченные его громким именем, священники, лакеи, монахи, пажи, музыканты, солдаты. В руках у большинства подарки... Вот спускается высокий, небрежно одетый молодой человек весь в черном, с видом наглым и беспечным. Он просит собравшихся подождать. Это секретарь и ученик Лоренцо Веньер. У Аретино их несколько...
Великий человек появляется наконец. На нем цепь Карла V. Он едва удостаивает вас взглядом. Он подвигается вперед... Следуйте за ним по этому пышному дому, который он меблировал своими литературными грабежами. Его гардероб, полный дорогой одежды, доставлен ему Азией и Европой. Его кабинет редкостей, его картинная галерея добыты из того же источника. Меньше всего у него книг... Вы ищете библиотеку. Ее нет. Но вот буфетная, которая свидетельствует о неимоверном потреблении мясного и мучного. Вот большая, великолепно освещенная комната Тициана, который часто приходит работать к своему другу. Вот эта огромная конторка черного дерева наполнена письмами, полученными от всех современных знаменитостей. В ней имеются отделения государей, кардиналов, буржуазии, солдат, полководцев, дам высшего общества, аристократической молодежи, музыкантов, художников, дворян. Кабинет Аретино – комната, меблированная хуже, чем все другие. Там стоит письменный стол. На нем перья и бумага. Герой наш очень горд тем, что не нуждается в других орудиях для того, чтобы вести эту жизнь, пышную и счастливую".
Шаль не понял Аретино. Он смотрит на него неправильно. Но если исключить из этой картины кое-какие преувеличения и явное стремление представить Аретино типичным выскочкой, своего рода мещанином во дворянстве, – она верна.
Жизнь Аретино была действительно "пышная и счастливая". Ее материальную основу составляли пенсии и единовременные дары от разных владетельных особ. Аретино больше всего любил ценные подарки. В Talanta одно из действующих лиц говорит, показывая на дорогую цепь: "Посмотрите, как искусная работа соперничает в ней с материалом! И потом, цепь не стареет, как молодая девушка, не лжет, как пенсия, не убегает, как невольник-мавр"[103]. Такие цепи Аретино получал неоднократно. В 1533 году Франциск подарил ему роскошную золотую цепь, унизанную красными, из дорогой эмали, языками с надписью: «Lingua eius loquetur mendacium»[104], то есть: «Язык его будет говорить неправду». Эта ядовитая высочайшая ирония отнюдь не обидела Аретино. Он сделал из нее предмет рекламы. Такие же подарки получал Аретино от Карла V, от султана Солеймана, от мавританского пирата Хайреддина Барбаруссы, от Фуггеров из Германии и от многих других лиц. Но и пенсии не всегда «лгали» этому баловню судьбы. Карл V платил аккуратно, Генрих VIII не вполне. Отлично платили маркиз дель Васто, полководец Карла, граф Лейва, губернатор Ломбардии, Федериго Гонзага, маркиз Мантуанский, Франческо Мария делла Ровере, герцог Урбинский, и его преемник Гвидубальдо, многие более мелкие князья, кардиналы и частные лица[105].
Но пенсии и пособия были не единственными доходами Аретино. Изобретательность его никогда не утомлялась и никогда не отдыхала, когда нужно было делать деньги. Аретино обладал недюжинным вкусом в вопросах искусства. А созданное им себе положение делало его великолепным посредником между художниками и меценатами. Прежде всего он рекламировал художников. Конечно, не бескорыстно. Миниатюрист Якопо дель Джало прислал ему в подарок свою вещицу. Аретино пишет ему[106]: «Как я отблагодарю вас за ваши милые усилия, раз вы не хотите принимать деньги? Я воздам вам чернилами за краски и потом за труды. Имя ваше столько же возвеличится репутацией, которую я ему сделаю, сколько удовольствия получу я от работы, вами исполненной». В подарках художников Аретино ценил, конечно, не одно «удовольствие». Они служили ему валютой. В удобный момент он подносил их своим высокопоставленным покровителям и друзьям и взамен получал золотой кубок, блюдо, цепь, просто деньги. Иногда он брался устроить картину или скульптуру, которая долго не находила покупателя. За это ему дарили рисунок, слепок или еще что-нибудь. Художники от этого ничего не теряли, потому что Аретино находился на короткой ноге с такими людьми, к которым большинство не имело доступа, и, конечно, обладал неизмеримо большей практической ловкостью, чем простодушная артистическая богема. А полученные подарки при случае тоже пускались в оборот. Словом, выгода была обоюдная. Даже Тициан, которому не приходилось искать заказчиков и который хорошо умел считать свои дукаты, охотно сваливал на Аретино переговоры о своих картинах. Все это Аретино считал чем-то вроде бескорыстного меценатства, и, если бы кто-нибудь намекнул, что он торгует произведениями искусства, он разразился бы длинными, хитро накрученными тирадами, полными ругательств.
Еще любопытнее – и для эпохи, и для человека, – что Аретино нашел способ зарабатывать деньги, вращаясь около промышленного предприятия и оказывая ему услуги. В XVI веке одна из крупнейших фабрик художественного стекла в Мурано около Венеции принадлежала Доменико Балларини, тонкому артисту и ловкому дельцу. Аретино был в самых тесных сношениях с ним с самого 1531 года. В "Письмах" постоянно мелькают хвалебные отзывы о муранских вазах, и это была самая настоящая реклама, которая, надо думать, была и приятна и полезна Балларини. Но этого мало. Муранской фабрике нужны были художественные рисунки для ваз, и далеко не всякий художник был способен их дать. Лучшим мастером в этой области считался Джованни да Удине, которого посвятил в тайны этого искусства его великий учитель Рафаэль в дни работ над фресками Фарнезины и станц Ватикана. Именно этого волшебника орнамента и арабесок Аретино сумел заставить дать рисунки для баллариниевых ваз. И не один раз и не по одному рисунку, а по "полному листу" и неоднократно. Естественно, что делалось это не из-за прекрасных глаз Балларини[107].
Ежегодные доходы Аретино достигали огромных по тому времени цифр и позволяли без труда выдерживать истинно королевскую расточительность.
Любя деньги, Аретино любил и почет. После того как умер горячо привязанный к нему Джованни Медичи и разладились отношения с маркизом Мантуанским и Франциском I, ему особенно дорого было отношение к нему Карла V. Когда в 1543 г. император проезжал через венецианскую территорию, друг Аретино, Гвидубальдо Урбинский, представил ему знаменитого памфлетиста, которому давно платилась пенсия из сумм испанского казначейства. Пока ехали по венецианской земле, Аретино был рядом с императором, занимал его, заставлял смеяться так, что Карл пригласил его ехать с собой в Вену. Немного не доезжая границы, Аретино скрылся в толпе, и его не могли найти... Звал его к себе через своего итальянского советника Луиджи Гритти и турецкий султан. Звал и Козимо Медичи, предлагая ему отдать для житья чудеснейший Палаццо Строцци. Уже при папе Павле III Аретино намекали на возможность получения кардинальской шапки, подобно Биббиене и Бембо. А когда после смерти Павла занял престол св. Петра давний его друг и земляк, аретинец Юлий III, кардинал Монте[108], надежды окрепли. Вызванный папой, Аретино в 1549 г. поехал в Рим, сподобился святейшего лобзания, получил орден св. Петра, но вернулся без пурпура, гордо рассказывая, что отверг его. Зато в 1552 г. он был избран на должность гонфалоньера своим родным городом Ареццо, спасенным им с помощью Федериго Гонзага от разрушения. Нечего говорить о том, как прославляли его менее высокопоставленные современники. К 1532 году относится стих, вставленный Ариосто в свою поэму:
Ессо il flagelle
Dei principi, il divin Pietro Aretino[109].
Позднее такого рода прославления сделались обычными. Ими пестрят страницы «Писем к Аретино», собранных им самим еще при жизни.
"Живу я свободно, – писал Аретино[110], – в удовольствиях и могу поэтому считать себя счастливым. Из всех металлов, всяких рисунков выбиваются в честь мою медали. Мой портрет выставляется на фронтонах дворцов. Голова моя, как голова Александра, Цезаря и Сципиона, изображается на тарелках и на рамках зеркал[111]. Одна порода лошадей получила мое имя, потому что папа Климент подарил мне такую лошадь. Канал, омывающий часть моего дома, называется Аретинским, женщины в моем доме носят имя Аретинок; говорят о стиле Аретино. Педанты скорее лопнут от бешенства, чем дождутся такой чести".
Но были и тернии в этой счастливой жизни. Язык и темперамент часто заставляли Аретино переходить меру; тогда ему грозили и он смирялся. В 1529 г. он отозвался не очень почтительно о Федериго Гонзага в присутствии мантуанского посла. Посол велел ему сказать, что если так будет продолжаться, то Аретино не спасется от него и в раю. Аретино извинился[112]. Извинился он и в другом случае, когда по поводу его нападок на придворных Федериго в «предсказании» 1529 г. тот просил передать ему, что он велит дать ему несколько ударов кинжалом в самом центре Риальто[113]. Английский посланник не стал дожидаться извинений. Когда Аретино стал распространять какие-то темные намеки насчет задержки ожидавшейся им от английского короля пенсии, посол велел подстеречь его и избить палками. Эрколе д’Эсте тоже подсылал к нему убийц. Те дожидались его, но не дождались и ушли, ранив одного из его «ганимедов»[114].
Но гораздо больше, чем эти люди, подсылавшие убийц, грозившие кинжалом и пистолетом, повредили Аретино его литературные враги. Главных было трое: знаменитый поэт Берни, поэт совсем незнаменитый Николо Франко и третий писатель, автор новелл и диалогов Антонфранческо Дони. В последнее время, особенно итальянцами, положено много труда, чтобы очистить биографию Аретино от тех злостных измышлений, которыми она была наполнена на основании показаний его врагов.
Не осталось ни одного сколько-нибудь крупного факта в жизни Аретино, которого не исказила бы, не извратила, не запачкала клевета. Начали с родителей и сестер[115], продолжали, следя за каждым его шагом. В Риме сделали его лакеем Киджи; покушение на него, произведенное по наущению Джиберти, объявили результатом ссоры из-за какой-то смазливой кухарки. И так до самого конца[116]. Этого мало: Дони, а по его следам некий Муцио после смерти Аретино сделали донос инквизиции на его сочинения, обвиняя его в еретических мнениях. Это было в период наибольшего свирепства контрреформации, и им было нетрудно добиться, чтобы сочинения Аретино целиком попали в Индекс. Этим самым Аретино стал запрещенной личностью. Здесь находит объяснение как крайняя редкость его сочинений, так и тот странный факт, что не успел умереть человек, наполнявший своим именем весь культурный мир, как его сразу забыли.
Католическая реакция вообще была фатальна для Аретино, что очень правильно отметил Артуро Граф[117]. Она ненавидела Чинквеченто, этот век, соблазнивший папство соблазнами мирской культуры, увлекший его прельщениями литературы и искусства до такой степени, что оно проглядело зарождение Лютеровой схизмы. И властители дум, вожди общественного мнения Чинквеченто подверглись сугубому проклятию. В этом отношении судьба Аретино была одинакова с судьбой Макиавелли. Но сочинения Макиавелли успели получить распространение до начала свирепств папской цензуры. Аретино принял все ее удары: она уничтожила его сочинения и покрыла позором его имя.
В общем, вражда, клевета, угрозы и опасности были не очень заметны в наполненной славой и наслаждениями изобильной и счастливой жизни Аретино. Сын сапожника из Ареццо жил, как жили не все итальянские князья. И вся его фигура необыкновенно гармонировала с той обстановкой, какую он создал себе в Венеции.
V
Аретино было принято еще не так давно изображать каким-то моральным Квазимодо, наглецом и вымогателем, циничным льстецом, развратником, грязным и низким человеком с безнадежно гнилой душой. Такой даровитый и чуткий критик, как Де Санктис, обмолвился даже таким словом, что в обществе дам нельзя произнести имени Аретино[118]. Происходило это потому, что старое изображение почти целиком и почти без оговорок принимало все измышления недругов Аретино, не умело отнестись к ним критически, не обладало документально обоснованными данными и, как это ни странно, не опиралось на внимательное изучение сочинений Аретино.
Теперь это странное представление разрушено, собраны факты, изучены сочинения. Материала набралось достаточно для попыток рисовать портреты настоящего Аретино.
Аретино любил жизнь, любил наслаждения, и ни в ком еще жажда жизни и наслаждений, так свойственная всем людям Возрождения, не была столь ненасытна. Природа наделила его крепким, здоровым телом и кипучим темпераментом. Но наслаждения, в которых для него была главная красота жизни, был ее главный смысл, вовсе не заключались в одних чувственных удовольствиях. Конечно, Аретино любил веселые пиры, любил хорошее вино, изысканные фрукты, необыкновенные салаты, любил пышные, уставленные цветами трапезы, любил роскошь в своем доме. Конечно, женщины занимали в его душе колоссальное место. Его биографы называют десятками имена женщин, которые были ему в разное время близки, и никогда не могут поручиться, что не пропущена ни одна из его любовниц. Конечно, Аретино, вполне во вкусе своего времени, любил не только женщин[119]: все, что распутный Чинквеченто изобрел по части этого рода удовольствий, Аретино, очевидно, досконально изучал как знаток, как ценитель, как художник. Его Raggionamenti, книга, непристойнее которой едва ли найдется другая в мировой литературе, отнюдь не принадлежит к числу тех, которые предназначены будить чувственность и не ставят себе никаких других целей. Raggionamenti – художественное произведение, и первый день первой части, где описывается жизнь в женском монастыре, может выдержать сравнение с La Religieuse Дидро. Вообще все три части Raggionamenti – это великолепная серия бытовых картин, обличающая крупного художника. Недаром ни один историк XVI века, останавливающийся на бытовых деталях, не проходит мимо Raggionamenti и комедий Аретино.
Да и в свои отношения к женщинам Аретино умел вкладывать не только почти всегда искреннее чувство, но очень часто большую долю поэзии. В нем, как справедливо замечает Гаспари, не было холодного эгоизма распутника[120]. Он привязывался сам. И не только привязывался: от женщины, которую он любил, он был способен вынести и вероломство, и измену, и самую черную неблагодарность. Его роман с Пьериной Риччья – трогательная новелла, точно вышедшая из-под пера Фиренцуолы или Банделло. В 1537 году один из его учеников женился на очаровательной четырнадцатилетней девушке, хрупкой и тоненькой, как былинка, с большими грустными черными глазами, с неизлечимой болезнью в груди. В своем доме, куда привез ее муж, Аретино принял ее как дочь, и отношения его к ней сначала были чисто отеческие. Но муж скоро бросил Пьерину. Она стала изливать свое горе Аретино, и его привязанность к ней стала иною. Потом они сблизились. Это было в 1540 году. Болезнь разыгралась, и тринадцать месяцев этот человек, которого принято считать вульгарным развратником, изображал из себя самую нежную, самую заботливую сиделку. Выздоровев, Пьерина сбежала с каким-то юным ловеласом. Письма Аретино[121] сохранили следы удара, который нанесла его душе эта измена. Жалобы бурные, как рыкания раненого тигра, сменяются злорадным, но неискренним самоутешением: что будет вырвана с корнем из сердца эта несчастная, эта проклятая любовь. На голову похитителя сыплются громы и молнии... Но когда четыре года спустя Пьерина, жалкая, покинутая, умирающая, пришла к нему опять, он забыл все, стал ухаживать за ней с прежним самоотвержением. И когда она умерла у него на руках, ему казалось, что сам он умер вместе с нею.
Так же мало похожи на холодного развратника отношения Аретино к детям. У него были две девочки: старшую он назвал Адрией в честь Венеции, а младшую Австрией в честь Карла V. Матерью первой, а может быть и второй, была Катарина Сан-делла. Он любил девочек так, как только может любить отец, у которого нет ничего, кроме детей. "Австрия, как жизнь, мне дорогая! Австрия, душка моя сладкая!"[122] – пишет он в одном письме, и как будто не могли эти слова выйти из-под пера страшного «Бича монархов». Между тем такой порыв мягких чувств так же свойствен Аретино, как и грозные беспощадные инвективы. Быть может, даже больше. Потому что быть грозным ему было необходимо из-за денег. Суровая беспощадность была его маской, перуны – его профессиональным орудием. По существу, Аретино скорее, быть может, был человеком добродушным. Добр он был несомненно. Сотни людей кормились в его доме, десятки ежедневно получали помощь и поддержку. Он готов был делиться последним с людьми даже далекими, даже совсем незнакомыми. «Расточительность свойственна мне так же, как другим скупость», – говорил он[123], и, может быть, доброта у него была результатом расточительности. Но она была во всяком случае. Он не был злопамятным, легко прощал обиды, легко забывал сделанное ему зло[124], если, конечно, дело не касалось денег. Потому что деньги любил Аретино больше всего: больше женщин, больше картин, больше роскошного обеда, больше цветов и фруктов. Он знал, что, если будут деньги, будет и все это; не будет денег – наступит бедность настоящая, не та риторическая, жалобами на которую пестрят его письма. «Бедность он ненавидел не только из-за лишений, которые она приносит с собою, но еще из-за стеснений, которые она налагает на душу, из-за необходимости размерять каждый свой поступок, каждую мысль, делать из мелочной арифметики закон и руководство жизни...»[125]. Широкая и свободолюбивая натура Аретино могла до конца показать меру своих талантов только среди довольства и изобилия. Деньги были нужны ему, чтобы он мог быть щедрым и расточительным, добрым и отзывчивым, как велела ему его природа. Аретино любил жизнь, любил жить и хотел, чтобы в его жизни было как можно больше красок, как можно больше цветов. А такой человек не может быть ни злым, ни жестоким, ни скупым. Он по необходимости добродушен, непамятен на зло, щедр и кошельком и сердцем.
VI
Но, разумеется, Аретино предъявлял к жизни и требования более высокие, чем те, о которых говорилось до сих пор. Чувственные наслаждения не способны были целиком наполнить его взыскательную душу, душу артиста в полном смысле этого слова: Аретино любил искусство и литературу. Им он отдал много сил как художественный критик и как писатель. Да и вне творческой работы не понимал жизни без тонких эмоций, источник которых – искусство и литература или явления природы и жизни, преломившиеся сквозь художественную призму. Недаром он так дружил с художниками: Джулио Романе, Сансовино, Вазари, Себастьяне дель Пьомбо, Тицианом, недаром он любил общаться с писателями: Джовио, Бембо, Бернардо Тасса, даже Франко и Дони, пока с ними не поссорился. Но всякое духовное наслаждение должно было носить эмоциональный характер. Чистого умственного наслаждения, опьянения идеей Аретино не понимал. Для него то была нудная схоластика. Он не любил затруднять своей головы рассуждениями о природе вещей. Своего философа Платаристотиле он сделал комической фигурой и заставил в ответ на его рассуждения о природе вещей выслушивать от жены замечания о том, что представляет и где помещается настоящая природа[126]. Платона, как замечает Граф, он ненавидел так же, как и Лютера, и когда Дони послал ему однажды философскую книгу, он вернул ее не читая, при ответе, прославляющем «решительную» жизнь: vivere risolutamente[127].
Все это у него выходило одинаково искренне. Аретино вообще никогда не притворялся. Эта привычка, столь свойственная людям Возрождения, была чужда его душе. Его настроение было очень непостоянно. Его вкусы менялись без конца. Он был способен подниматься на высоты, доступные только крупному артисту, и падать до таких удовольствий, которые были под стать грубым далматским стратиотам. Но он никогда не делал секрета ни из чего, потому что, повторяем, всегда был искренен. Он очень ценил себя, поэтому всегда хотел быть самим собою, хотя бы некоторые из тех образов, которые он принимал, и казались обществу не очень красивыми.
Вопросы морали его не интересовали. Он был в буквальном смысле слова по ту сторону добра и зла, как всякий последовательный эпикуреец-практик. То, что ему было приятно, было в его глазах нравственно, то, что ему вредило, – безнравственно. Вот почему так трудно уловить отдельные моменты мировоззрения Аретино. У него не было твердых взглядов ни на что. У него в разное время было разное отношение к тем вопросам, из-за которых болела душа у людей, более глубоких и не столь равнодушных к тому, что есть добро и что зло. Каковы были политические взгляды Аретино? Был ли он религиозный человек? Кто знает! В разное время он говорил разное. Он заступался за республиканские учреждения Флоренции и прославлял космополитическую монархию Карла V, под сенью которой могла якобы объединиться Италия. Но то и другое у него сочеталось с главным делом его жизни, с борьбой против итальянских тиранов. Тут он был более последователен[128].
То же было и с его религией. Аретино никогда не упускал случая похвалиться тем, что он верующий человек. Он усердно писал жития святых, рассказывал ветхозаветные и евангельские эпизоды, перелагал псалмы[129]. Общественное мнение, однако, считало его нигилистом, а жизнь его меньше всего была похожа на жизнь праведного человека. Он много грешил и любил прелести греха. Но, кажется, как-то он все-таки верил. Его натура, грубая и поздно приобщившаяся к образованию, должна была быть наклонной к вере, хотя наклонность к утехам была сильнее. Это и сам Аретино сознавал хорошо[130]. И может быть, именно для того, чтобы бороться с упорно державшейся репутацией грешника, Аретино любил выставлять напоказ свою веру. Иногда это делалось у него не без торжественности. В 1542 г. он писал другу своему типографу Марколини, который как раз в это время печатал его «жития» и очень тревожился из-за нападок на них духовенства[131]: «Что мне в трескотне монахов, уверяющих, что я не умею говорить о вере! Уже, конечно, я умею лучше верить во Христа (so meglio credere), чем они умеют говорить о нем. Отсюда следует, что из моих рассуждений не родятся сомнения и я силюсь иметь бога больше в сердце безмолвном, чем на устах глаголящих (nel core tacito, che nella bocca vocifera)».
Писать Аретино был мастер. Было ли искренне то, что он писал? Сам он, быть может, не сомневался, что его слова точно соответствуют его чувствам. Но совершенно бесспорно, что они не передают настоящих его религиозных настроений. Правильно в письме к Марколини только одно: "Я [умею] верить". Не просто "верю", а "умею верить". У него никогда не было "бога в безмолвном сердце". Он был у него всегда именно "на устах глаголящих". Вера Аретино была холодная и официальная. В ней не было ни глубины, ни лирики, ни пафоса. Ибо если что-нибудь было чуждо душе Аретино, то это прежде всего мистика. В житиях и переложениях Библии он то и дело говорит о чуде, а подъема не чувствуется в его густой риторике. Единственное чудо, которое его трогает и по поводу которого он готов возглашать свое credo quia absurdum – "чудо" с Фомой Аквинским и куртизанкой. Братья прислали к аскету веселую женщину, чтобы соблазнить его и отвлечь от мыслей о монашестве. Но Фома устоял. Вот и все чудо. Аретино на нескольких страницах с упоением, нагромождая подробности, рассказывает, как изощрялась эта женщина, какие пускала в ход прельщения, чтобы добиться цели. Словно Аретино забыл в этот момент, что он пишет благочестивую книгу и что в руках у него не перо, живописавшее похождения Наины, Пиппы и других персонажей Raggionamenti[132]. В вере Аретино не было ничего, кроме внутреннего равнодушия и практических соображений. Не верить было опасно и невыгодно. «Уметь» верить было нетрудно. В этом отношении Аретино нисколько не выделяется из современной ему интеллигентской массы. В годы, когда могли складываться его религиозные убеждения, большинство было к религии индифферентно, но порывали с религией лишь немногие, очень убежденные и мужественные люди. В годы зрелости Аретино картина изменилась. Отход от католицизма, который церковь толковала как разрыв с религией, принял большие размеры: в связи с проникавшей в Италию лютеранской и кальвинистической пропагандой. И те, которые, были им захвачены, сразу расстались с равнодушием и обрели мистический подъем. Такие фигуры, как Бернардино Окино, Пьетро Карнесекки, Аонио Палеарио, гонимые и мученики, заставляли много говорить о себе. Появились целые гнезда религиозной оппозиции: в Неаполе вокруг владетельной княгини Джулии Гонзага и испанского гуманиста Хуана Вальдеса[133], в Венеции вокруг кардинала Контарини. Аретино не мог не знать об этом, потому что наиболее высокий подъем борьбы против казенного католицизма пришелся на 40-е и 50-е годы. Он был свидетелем казней и преследований еретиков, злился на них потому, что в их убежденности, в пафосе их чуял упрек собственной равнодушной вере, и в то же время очень боялся, как бы на него самого не обрушилось обвинение в безбожии. И он делал вид, что поднимавшаяся волна католической реакции захватила его. Его религиозные заявления стали воинствующими, хотя внутреннего огня в них не прибавилось. Данью Аретино навязчивым настроениям католической реакции были не только обличения Лютера, но и отрицание свободы совести и такие дикие выходки, как требование к Микеланджело – во имя благочестия – одеть фигуры Страшного Суда Сикстинской капеллы[134].
Образ Аретино гораздо сложнее, чем это было еще не так давно принято себе представлять. Он не такая яркая в своих отрицательных свойствах фигура, как думали. Он virtuoso, человек той virtù, волевой и умственной, которую только и ценило Возрождение, плоть от плоти и кровь от крови своего века, его сгущенное, если можно так выразиться, изображение. Оправдывать его от обвинений бесполезно. Стараться представить его человеком высоких нравственных качеств просто смешно. Его нужно только объяснить. Чтобы объяснить его, его нужно привести в связь с культурой Возрождения. Разумеется, ни один биограф, ни один критик не упустил из виду эту связь. О ней много говорят. Но никто не договаривает. Ни один из биографов не сделал того, что нужно было сделать, не попробовал понять Аретино с точки зрения эволюции основных принципов Возрождения.
VII
Едва ли нужно напоминать, что основным принципом Возрождения был индивидуализм. Путем борьбы со старым церковным мировоззрением был открыт человек и освобожден от уз, которыми сковывали его в средние века идеалы аскетизма и установления теократии. Усилия лучших людей итальянского Возрождения: Петрарки и Боккаччо, Салутати и Поджо, Лоренцо Валлы и Леона Баттиста Альберти, Марсилио Фичино и Пико делла Мирандола – были направлены к тому, чтобы открыть личности человеческой законную возможность развивать свои внутренние силы, не опасаясь церковной опеки. И теоретически эта задача была решена превосходно: новая этика освободила человеческую личность. Иное дело – на практике. Правда, и на практике сделано было много. Церковь не мешала больше ничему; папство пошло в Каноссу Ренессанса, не только санкционировало все движение, но даже было не прочь слить его с путями пути церковной политики. Но, освободившись от опеки церкви, Возрождение попало под другую опеку, не менее стеснительную, – опеку многочисленных итальянских дворов. Случилось это в силу естественной политической эволюции. В XV веке Возрождение, как известно, почти слилось с гуманизмом, с тягой к античному, и те народные начала, которые расцветали в XIV и в начале XV века, традиции Данте, Петрарки и Боккаччо, которые старались культивировать одинокие гении вроде Леона Баттиста Альберти, заглохли надолго. Девизом интеллигенции сделался возврат к античной культуре, и вполне естественно, что вследствие этого между ней и народом разверзлась бездна. Отвергнутые народом, куда должны были метнуться гуманисты? Ко дворам, потому что больше было некуда. Приют при дворах давался, конечно, не даром. Гуманистов ценили, но их эксплуатировали. Люди, патетически рассуждавшие об освобождении личности от всяческих пут, не заметили, что сами себе сковали цепи очень требовательной опеки. Ко вкусам, ко взглядам, интересам дворов они должны были теперь приспособляться. От них этого требовали.
Дальнейшая эволюция индивидуализма ставила, таким образом, вполне определенную задачу: разбить опеку дворов над человеческой личностью, как в XV веке была разбита опека над ней церкви. Вопрос технически сводился к тому, чтобы уничтожить материальную зависимость интеллигенции от дворов и дать ей возможность крепко стоять на собственных ногах. К этому шло все с самого начала XVI века. Пьетро Аретино первый сделал попытку добиться этого путем планомерных усилий, и в этом заключается его великое значение в истории не только итальянской, но и мировой культуры. Вся его жизнь, вся его деятельность бьет в эту именно точку. Итальянские биографы Аретино рассматривают как нечто обособленное от его жизни его литературную деятельность. Это большая ошибка. То и другое тесно связано. Если раскрепощение от дворов должно было вернуть интеллигенции утраченную ею свободу, то борьба против классицизма и пропаганда всех литературных видов на итальянском языке должна была восстановить связь между интеллигенцией и народом, способную обеспечить ее материально без нарушения ее свободы.








