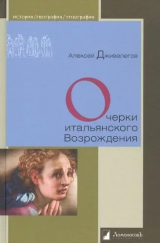
Текст книги "Очерки итальянского возрождения"
Автор книги: Алексей Дживелегов
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц)
AnnotationКнига Алексея Дживелегова посвящена Чинквеченто, итальянскому XVI веку, когда на Апеннинах творили Рафаэль, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициан, Тинторетто и десятки других великих мастеров. Но книга Дживелегова не о художниках, хотя и о них в ней сказано немало, а о зародившейся в горниле Возрождения особой категории людей умственного труда – интеллигенции, ее, по выражению автора, «темных дебютах». В центре повествования три типичные фигуры: Бальдессаре Кастильоне – автор «Придворного», самого знаменитого сочинения Чинквеченто, Пьетро Аретино, прозванный за свои памфлеты «бичом государей», и гениальный скульптор Бенвенуто Челлини. Остроумные, тщеславные, смелые, сотканные из противоречий – истинные сыновья времени, в котором каждый был сам за себя, – они жили с ощущением несвободы, по мере сил стремились сохранить собственное лицо и ревностно служили своим покровителям. Алексей Дживелегов (1875—1952) – историк, доктор искусствоведения, специалист по истории западноевропейской культуры.
Алексей Карпович Дживелегов
Предисловие
Интеллигенция в Италии XVI века
Бальдессар Кастильоне
Пьетро Аретино
Бенвенуто Челлини
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
Алексей Карпович Дживелегов
Очерки итальянского возрождения
Кастильоне – Аретино – Челлини[1]
Предисловие
У этой книги двойная цель: во-первых, осветить темную историю дебютов современной интеллигенции, во-вторых, осветить ее при помощи социального анализа. Думаю, что в литературе первое сделано недостаточно, второе – не сделано совсем. Думаю также, что только при таком методе изучения Чинквеченто факты и идеи того времени могут быть связаны с нашей современностью.
Статьи о Кастильоне и об Аретино раньше были напечатаны в журналах, теперь совершенно переработаны.
Москва,
марта 1929
Интеллигенция в Италии XVI века
Чинквеченто – шестнадцатый век в Италии – представляет в развитии культуры особый этап. Чинквеченто – закат Возрождения. Это уже давно подмечено, описано, но еще не нашло исчерпывающего объяснения. Что XVI век отличается от предыдущего, всем ясно, но почему получилась разница, далеко не ясно. И пока не будут обнажены социальные корни этого различия, до тех пор и самое различие не будет понятно до конца.
I
Культура Кватроченто – культура городов с высоким развитием торговли и промышленности, культура растущего капитализма. Культура Чинквеченто – культура падающего капитализма. Начиная с середины XV века итальянская хозяйственная мощь пережила целый ряд ударов, которые если не разрушили ее окончательно, то в значительной степени ее подорвали. Завоевание Константинополя турками внесло много неожиданных трудностей в левантскую торговлю Италии: Открытие Америки и морского пути в Индию отдало дело снабжения европейских рынков пряностями в руки португальцев, испанцев, а потом и немцев: большие немецкие фирмы, вроде Фуггеров и Вельзеров, основали конторы в Испании, стремясь монополизировать эту отрасль торговли. Войны, начавшиеся итальянским походом Карла VIII и кончившиеся отторжением Королевства обеих Сицилии и Ломбардии, внесли разорение в страну. Две наиболее мощные капиталистические державы Италии, Флоренция и Венеция, лишившиеся значительной части рынков для своего промышленного экспорта, потеряли принадлежавшее им до той поры руководящее значение в системе европейского капитализма.
В Италии началась феодальная реакция. Она шла, все усиливаясь, двумя путями. Во-первых, стала сокращаться область приложения капитала. Промышленность и банковское дело должны были свертываться. Сжимался капитал и в торговле, где место частных торговых фирм, особенно в мелких государствах, стремилась занять казна. Сначала – в Неаполе, где Ферранте Арагонский превратил в государственную монополию торговлю всем, что можно было вывозить из территории Королевства обеих Сицилии, позднее в Ферраре, в Мантуе, в Савойе. В каждом из этих государств казенная монополия захватила торговлю теми продуктами, которые добывались в нем: мясом, рыбой, солью, маслом и пр. Капитал не мог сопротивляться создавшейся конъюнктуре. Вытесненный с внешних рынков, он постепенно терял внутренние и начал все в больших размерах эмигрировать за границу, чтобы там оплодотворить хозяйство более молодых стран.
Органы торгового капитала, могущественные корпорации, которые под названием старших цехов создали в Италии кредитное дело и промышленность, либо умирали естественной смертью, либо погибали в борьбе с полицейскими мерами государства. Еще хуже обстояло дело в областях, захваченных Испанией: в Ломбардии и на юге. Там наместники испанского короля фискальными (порча монеты), податными, таможенными мерами искусственно сокращали роль торговли и промышленности, следуя в этом отношении принципам экономической политики самой Испании. Таков был один путь.
Другой заключался в том, что начало подниматься экономическое значение землевладения, которое в XV веке играло такую ничтожную роль в общем балансе итальянской экономики. Руководящую роль при этом играли опять-таки завоеванные области, Ломбардия и Королевство обеих Сицилии. Юг Италии с его феодальными традициями, тянувшимися еще от анжуйцев и далеко не заглушенными при арагонской династии, представлял вообще благоприятную почву для феодальной реакции, и испанским наместникам не стоило большого труда найти среди потомков прежних анжуйских баронов элементы, готовые всячески поддерживать диктуемые из Испании меры. Но и в Ломбардии, области, имевшей прочные промышленные традиции, испанцы захотели восстановить значение землевладения и земледельческого капитализма. Культура земли всячески поощрялась. Налоги, одолевавшие буржуазию, щадили помещиков. Ломбардская знать радостно приветствовала новые принципы экономической политики и часть освобождавшихся капиталов вкладывала в землю, округляя родовые имения. Медичи в Тоскане, папы в Риме, вынужденные считаться с Испанией и подчиняться давлению факторов экономической эволюции, понемногу втягивались на те же пути хозяйствования, и, например, герцог Козимо прямо заставлял старые промышленные семьи Флоренции бросать привычные дела и обращать капиталы на покупку земли.
Словом, по всей Италии, за исключением ее северо-восточного угла, параллельно захирению промышленности и упадку города, поднималось, как во времена Барбароссы, село, а в селе, как всегда при таких условиях, помещичьи доходы получались путем жестокой эксплуатации крестьянства. Крестьяне были целиком отданы во власть помещикам. В XIII веке крестьян освобождала от крепостного состояния буржуазия, царившая в городах, потому что, во-первых, она нуждалась в рабочих для своих мастерских, а во-вторых, стремилась сокрушить социальную силу дворянства в деревне. В XIV и XV веках эта тенденция продолжала городами поддерживаться. Теперь город, в котором промышленность была разрушена, в рабочих не нуждался, и крестьяне могли находить работу только в немногих больших портах – в Венеции, в Генуе, в Неаполе – в качестве грузчиков (fachini). Но и там рабочий рынок неудержимо сокращался вследствие конкуренции местного пролетариата, угнетаемого растущей безработицей[2].
Деваться крестьянам было некуда. Они были прикованы к поместьям если не социальными, как при крепостном праве, то экономическими узами и должны были принимать такие условия работы, какие помещикам угодно было им диктовать.
Лишь одна Венеция, сохранившая свою самостоятельность и остатки старой капиталистической мощи, энергично боролась против феодальной реакции, но она была одна, и общая хозяйственная конъюнктура парализовала усилия венецианской буржуазии. Венеция сохраняла еще экономические связи с Европой и с Востоком благодаря тому, что в ее руках были восточные альпийские проходы и большой флот, остатки могущественной когда-то армады, царившей на Средиземном море. Гораздо более важные центральные альпийские проходы находились вместе с Миланом во власти Испании, которая перегородила их запретительным барьером, жестоко затруднявшим экономические связи между Италией и заальпийской Европой. Это был поворот огромного значения. Вся внешняя политика Флоренции и Венеции в эпоху наибольшего расцвета их экономической мощи направлялась одним соображением: водворить в Милане такую власть, которая была бы настроена к ним дружественно и которая не мешала бы провозу через центральные проходы продуктов флорентийской и венецианской промышленности. Теперь испанские рогатки надолго закрыли эти проходы. Тоскана уже не протестовала, а Венеция хотя и протестовала, но была слишком слаба, чтобы чем-нибудь поддержать свой протест.
Новая экономика создала новую политику. Абсолютизм в Италии вступил в ту полосу, в какую он вошел кое-где и за Альпами и какую должен был пройти всюду: полосу союза с землевладельческим дворянством, которое отказалось от политических притязаний, чтобы беспрепятственно развивать и укреплять свои социальные привилегии. Казалось, что пропала даром титаническая работа итальянских городов в XII-XV веках, искоренявшая феодальные порядки и создававшая своеобразную политическую форму – тиранию с буржуазным социальным базисом[3].
Совершенно ясно, что перелом в экономике и политике не мог остаться без влияния на культуру. Испания, завладевшая севером и югом, командовала кроме того в Тоскане и в Папской области, и нити культурной политики плелись в Мадриде по соглашению с Римом. И опять, как и в экономике, одна Венеция делала, что могла, для того, чтобы разорвать ткани тяжелого черного покрова, который папство и Испания общими силами набросили на культуру Италии, еще так недавно сверкавшую яркими солнечными красками.
II
Феодальной реакции отвечала католическая реакция. Надзор испанской инквизиции и папской цензуры, полицейское ярмо всех видов и систем без устали работали во всех мелких государствах, переживших политический катаклизм 20-х и 30-х гг., и держали в тисках культурную жизнь. Наука, литература, искусство, философия, религия – все подчинялось железной указке. Противодействие этой указке подавлялось с беспощадной суровостью. Люди свободной религии, как Аонио Палеарио и Пьетро Карнесекки, люди свободной мысли, как Джордано Бруно, отправлялись на костры. Людей свободной науки, как Галилей, заставляли отрекаться от того, к чему они пришли путем эксперимента и анализа. Папский "Индекс запрещенных книг" осуждал на истребление труды лучших умов Италии. Искусство и его представители стояли особняком, за малыми исключениями. Архитектура и скульптура барокко и живопись мастеров Болонской школы отдали себя целиком служению церкви. Художникам, среди которых редки были идейные люди, вроде Микеланджело, и спрос на которых все же был больше, чем спрос на интеллигентов, ибо они содействовали внешней пышности, вообще было легче приспособиться, чем людям умственного труда. А артистическая богема мало думала о принципах и шла всюду, где ей платили. Зато итальянской интеллигенции приходилось переживать мучительно-трудную полосу.
Когда новая культура вышла из стадии бессознательного процесса и стала отливаться в четкие формулы, появление людей, целиком отдавших себя пропаганде новых идей, стало необходимостью. Интеллигенция была явлением совершенно новым. Этого вида общественного служения не знали средние века. Средние века знали рыцаря, который был призван защищать общество, знали духовное лицо, облеченное заботами о душе, а иногда и о теле человечества. Но светского ученого, светского проповедника, светского учителя не знали. Он явился вместе с новой культурой, чтобы служить ей и ее пропагандировать. Это был гуманист, и несладко было на первых порах его существование, ибо ему приходилось на своем хребте выносить тяжесть первой борьбы за право на интеллигентский труд. Только сверхъестественная способность приспособляться, только гибкость, доходившая порой до морального безразличия, помогли гуманистам выполнить свою историческую миссию, и они ее выполнили. Унижаясь перед королями, князьями, вельможами, попрошайничая у пап и прелатов, пресмыкаясь везде, где звенело золото, гуманисты вбивали в сознание имущих и командующих, а через них и всего общества идею важности и великого значения интеллигентского труда. Их усилия увенчались успехом. Власть имущие не раз имели случай испытать и моральную силу, и практическую мощь главного ремесла гуманистов, литературы, одинаково искусно умевшей заклеймить и превознести, разразиться инвективою и пропеть панегирик. Они поняли, что золото, не очень щедро расходуемое на гуманистов, отнюдь не пропадает даром, что эти издержки приносят не только славу мецената, но и прямую выгоду.
Так, постепенно интеллигенция начала становиться на ноги. Ее представителей, которых вначале склонны были третировать, стали серьезно побаиваться, особенно с тех пор, как подоспело на подмогу интеллигенции и стало быстро получать распространение книгопечатание. Но в Италии вследствие условий, о которых только что говорилось, первые десятилетия Чинквеченто стали началом глубокого кризиса для интеллигенции. Окруженная со всех сторон рогатками и указками, потерявшая способность свободно разбираться в требованиях времени, она утратила творческий порыв. Гуманисты, которые в XV веке чувствовали себя общественно-необходимой группой на службе у свободных республик или у культурных тираний, никому больше не были нужны. Чем дальше, тем этот кризис становился острее, потому что в первые десятилетия XVI века свободных республик не стало совсем, а количество дворов сделалось значительно меньше. Сначала железная метла Цезаря Борджа, очистившая Романью от бесконечного множества тираний, потом наступление Испании и папства, сокрушившее последние республики – Сиена пала в 1555 г., – и тоже на малое количество мелких монархий, сильно ослабили спрос на интеллигентский труд. Интеллигенция привыкла быть там, где власть и богатство, привыкла работать по определенному заказу, за наличный расчет. Всего этого теперь почти не осталось. Стояла еще на своей лагуне Венеция, и там интеллигенция могла еще жить и работать, но Венеция была одна. Папство после Sacco 1527 г. и особенно после смерти Климента VII, увлеченное контрреформационной борьбой, прокляло меценатство, из-за которого Лев X проглядел Лютера. Медичи в Тоскане укрепляли свою новую власть, вице-король Неаполитанский и наместник Ломбардии, как истые испанцы, ничего не понимали в деле покровительства науке и литературе.
Правда, еще сохраняли самостоятельность три мелкие тирании, блиставшие в первые три десятилетия XVI века как притягательные центры для интеллигенции: Феррара, Мантуя, Урбино. Но, по мере укрепления католической реакции, меценатство падало и в них. Урбино после Елизаветы (Элизабетты. – Ред.) Гонзага, Мантуя после Изабеллы д’Эсте не привлекают уже никого. Феррара дольше сохраняла старые традиции. В Ферраре герцогиня Рената пробовала давать приют не только Клеману Маро, но и Кальвину. На феррарский двор упали еще поздние отблески изящного таланта Гуарини и бурного, нездорового гения Торквато Тассо. Но культура, там царившая, была уже иная, чем раньше. Двор Лоренцо Великолепного, двор папы Льва X, двор Лодовико Моро жили буржуазной культурой. При Елизавете Гонзага и при Франческо Мария и Урбино Кастильоне, как чуткий писатель и классовым образом заинтересованный человек, предчувствовал иные влияния, а двор Эрколе II в Ферраре жил уже самой настоящей феодальной культурой. И поскольку культура не умерла при других дворах, всюду было то же. Иначе не могло быть. И, кроме Венеции, нигде не было достаточно мощных и достаточно культурных общественных классов, для которых интеллигентский труд явился бы необходимостью и которые могли бы сколько-нибудь длительно поддерживать спрос на культурную работу и на работников культуры.
Было совершенно естественно, что деятельность гуманистов пришла в упадок. Университеты попали под подозрение и заглохли, и если их не закрывали окончательно, то только потому, что они не имели уже никакого влияния. Исконная область блестящих успехов итальянской гуманистической науки, филология, в которой Италия была учительницей Европы, почти перестала разрабатываться. Центры занятий классическими науками переместились за Альпы, и не стало в Италии никого, кто бы мог равняться с такими учеными, как Рейхлин и Эразм в Германии, как Гагэн и Бюде во Франции, как Гросин и Колет в Англии. В философии итальянцы вплоть до Джордано Бруно не создали ничего оригинального и пережевывали только мотивы старой полемики между платонизмом и аристотелизмом. И даже такой мыслитель, как Пьетро Помпонаццо, больше прославился тем, что за ним охотилась инквизиция, чем живым творчеством в области мысли. Процветали только такие дисциплины, которые имели практическое значение, напр. история, ибо она вдвойне имела в то время практический смысл: как способ путем панегириков и нужного власть, имущим освещения сделать карьеру – "золотое перо Джовио" – и как наука, заключающая в себе много ценных указаний для политики. Поэтому так много представителей интеллигенции посвящают себя историческим трудам: Джовио, Веттори, Брут, Питти, Нарди, Варки, чтобы назвать только крупных, и самый крупный в этой плеяде после Макиавелли – Франческо Гвиччардини, трезвый реалист, безыдейный, часто до цинизма практик[4]. Общий уровень знаний, который стоял так высоко у старой итальянской буржуазии и у итальянской интеллигенции, теперь часто не выдерживал сравнения с тем, что было на севере. Если, например, взять географию, область, где итальянцы сделали от Марко Поло до Колумба столько великих открытий, то она пробавлялась жалким лепетом и детскими фантазиями в то время, как на севере уже привыкали к большой научной точности. Сравните хотя бы уровень географических знаний в двух современных поэмах: в «Неистовом Роланде» и в «Пантагрюэле». Рабле, ученый-естественник, заставляет путешествовать своего героя, строго следя по точной карте за каждым его этапом. А герои Ариосто переносятся с одного конца света на другой, безжалостно коверкая географию, путаясь между востоком и западом, между землей и луной, подчиняясь только необузданной фантазии поэта.
Понижение уровня знаний, понижение идейного уровня, понижение научной продуктивности – вот что характеризует ярче всего состояние итальянской интеллигенции в первой половине XVI века. Нет ничего удивительного, что гуманист, еще не так давно пользовавшийся значительным социальным весом и огромным почетом, стал подвергаться осмеянию в комедиях, где он зачастую чрезвычайно непочтительно зовется педантом. Гуманистов клеймили за утопическую – навыворот – мысль: сохранить господство в литературе за латинским и греческим словом, за высокомерное гонение на volgare в момент победного расцвета именно итальянской литературы. Еще более жалкая судьба постигла доктора прав, болонского юриста, который два века назад был так нужен, чтобы снабжать четкими юридическими формулами порожденную экономикой область хозяйственного права. Им завладела Комедия масок, которая начала его трепать по подмосткам всех европейских сцен.
III
Все это сделалось, конечно, не сразу. Интеллигенция еще долго боролась за свое былое положение, но так как средоточий науки и литературы осталось мало, то сопротивление, оказываемое интеллигенцией надвигающемуся варварству, стало разбиваться и распыляться. А то, что от нее осталось, вместе с художниками уныло потянулось за победной колесницей феодальной и католической реакции.
И несмотря на все это, именно XVI век и именно в Италии положил начало некоторым наиболее типичным полосам в истории развития европейской интеллигенции. Для выяснения этих полос недостаточно общего анализа. Приходится брать типичные образы и на них изучать отдельные моменты в настроениях и взглядах интеллигенции Чинквеченто.
Три фигуры, с которыми познакомится читатель на этих страницах, по-разному иллюстрируют этот переходный момент. Кастильоне, рыцарь и помещик и в то же время яркий представитель гуманистического образования, пытался сочетать старые интеллигентские идеалы с классовой природой грядущего героя феодальной реакции, землевладельца. Аретино, писатель, как бы усыновленный свободной Венецией, поставленный ею глашатаем интересов буржуазии, наоборот, объявил войну силам надвигавшейся реакции и призывал всю интеллигенцию идти в этой борьбе с ним, не стесняясь, как он, никакими средствами, во имя прав "свободного человека божьей милостью". А Челлини – пример гениального художника, который упрямо хочет сохранить свое лицо и которого поэтому, несмотря на все разнообразные таланты, судьба бросает из города в город, перекидывает через Альпы и под конец превращает в обыкновенного ремесленника-пролетария, едва успевающего на свои заработки прокормить семью.
Все трое представляют собой не только типичные фигуры, но и характеризуют необыкновенно выпукло как культуру Чинквеченто во многих наиболее ярких ее проявлениях, так и ее экономический и социальный фундамент, столь слабо освещенный в литературе.
Бальдессар Кастильоне
I
...Guidubaldo torna dalla fossa
A tener corte, e tornano a tenzone
Il Bembo e Baldassare Castiglione,
Giuliano de’Medici e il Canossa.
Ascolta Elisabetta da Gonzaga
A fianco dell’esangue Montefeltro
Poetar Serafino, il nuovo Orfeo...
G. D’Annunzio[5]
К концу XV века Урбино сделалось одной из наиболее крупных тираний средней Италии. Федериго Монтефельтро, который правил маленьким государством почти сорок лет (1444-1482), благодаря своим военным дарованиям укрепил положение Урбино среди соседей, расширил его пределы, добился у папы Сикста IV герцогского сана, выстроил знаменитый урбинский дворец, собрал замечательную библиотеку, в которую принципиально не хотел принять ни одной печатной книги, и оставил своему сыну Гвидубальдо крепкий престол в такое время, когда крепких престолов[6] в Италии было так мало.
Гвидубальдо унаследовал от отца и военные дарования, и любовь к литературе. Он уже являл более культурный тип тирана, чем Федериго, который все-таки был кондотьером прежде всего. В нем спокойный облик государя рисовался яснее и бурные страсти воина не вырывались наружу, как у его отца или у старого врага Урбино Сиджисмондо Малатеста, тирана Римини. Но Гвидубальдо смолоду был болен подагрой в очень тяжелой форме, и болезнь мешала ему показать всю меру его дарований. Она не дала ему сделаться выдающимся полководцем; она парализовала его дипломатическую дальновидность, которая была так необходима в то тревожное время; она отравила ему семейные радости.
Гвидубальдо был женат на Елизавете, сестре маркиза Мантуанского Франческо Гонзага, одной из самых замечательных итальянских женщин своего времени. Были на мелких и крупных престолах Италии женщины более блестящие, чем Елизавета: Беатриче д’Эсте, жена Лодовико Моро, Ипполита Сфорца, супруга Альфонсо, герцога Калабрийского, Лукреция Борджа, герцогиня Феррарская, особенно Изабелла д’Эсте, маркиза Мантуанская, жена брата Елизаветы и ее верный друг. Но не было ни одной, вокруг кого было бы разлито чувство такого почтительного, такого благоговейного поклонения. Елизавета была хороша, хотя не принадлежала к числу прославленных красавиц своего времени, была образованна, хотя не поражала эрудицией, как многие из ее сверстниц. Ее притягательную силу составляла какая-то удивительная, пропитанная грустью мягкость, никогда не покидающая ее томная печаль. Она не была счастлива. Гвидубальдо был ей мужем только в первые годы; потом она жила "с ним рядом, как вдовица"[7]. И хотя была окружена поклонниками, страстно добивавшимися ее благосклонности, осталась чиста перед мужем при жизни его и перед его памятью после его смерти. Она перенесла много горя. У нее рано умерла любимая сестра Маддалена. Потом Цезарь Борджа отнял Урбино у Гвидубальдо, и Елизавета с мужем вынуждены были два года скитаться на чужбине, прежде чем им удалось вернуть свою прекрасную вотчину. Вскоре больной герцог умер, и Елизавета стала вдовой. И хотя новый владелец Урбино, Франческо Мария делла Ровере, и его жена Леонора Гонзага, дочь Франческо и Изабеллы д’Эсте, окружали вдовствующую герцогиню величайшим вниманием и почетом, но счастья оставалось все меньше. На склоне лет Елизавете пришлось еще раз перенести изгнание: папа Лев X отнял Урбино у его герцога, чтобы подарить его своему племяннику, Лорешдо Медичи, и снова прошло несколько лет, пока явилась возможность вернуться. Эти непрерывные удары судьбы и сделали то, что Елизавета почти всегда была печальна. Только временами чувство подавленности покидало ее. Она могла быть наружно веселой, могла смеяться остротам придворных, буффонадам шута-монаха фра Серафино. Внутри всегда царила скорбь, полная изящества, одухотворенная поэзией ее мягкой души. Она вся была как нежная элегия.
Самым блестящим временем Елизаветы и Гвидубальдо было пятилетие между возвращением их в Урбино, освобожденное от Борджа, и смертью герцога (1503-1508). Болезнь Гвидубальдо не давала поводов для серьезной тревоги, сама Елизавета была в своих лучших годах[8]. Политический горизонт был ясен, потому что железная десница папы Юлия II, друга и родственника Гвидубальдо, служила самой надежной ему защитой. Среди окружающих герцога и герцогиню был цвет интеллигенции и аристократии. Правда, уже несколько лет не было в живых старого Джованни Санти, который у герцога Федериго и в первые годы Гвидубальдо исполнял должность министра двора, просвещения и искусств. Но от времени до времени появлялся сын его Рафаэль, после смерти отца учившийся в Перудже у Пьетро Перуджино. Юношу, прекрасного и богато одаренного, любили и баловали все, особенно герцогиня. Ей и урбинскому двору Рафаэль обязан был тем светским лоском, который так помогал ему в жизни и которого так не хватало суровому и угловатому республиканцу Микеланджело[9]. Более видную роль при дворе играли не урбинцы, а славные гости.
Их много. Джулиано Медичи, меньшой сын Лоренцо Великолепного и брат будущего папы Льва X. Его семья изгнана из Флоренции со времен Савонаролы, и урбинский двор приютил его у себя. Отцы, Лоренцо и Федериго, были врагами, и Федериго был даже причастен к заговору Пацци. Но Джулиано и Гвидубальдо были друзья. Тут два племянника Гвидубальдо, Оттавиано и Федериго Фрегозо, из которых первый будет потом дожем Генуи, а второй – архиепископом Салернским. Тут знаменитый кондотьер Алессандро Тривульцио, соратник Гастона де Фудк и Баярда. Тут один из самых блестящих дипломатов своего времени – граф Лодовико да Каносса, тоже верный друг французов, впоследствии епископ Байе и папский нунций во Франции, и его тезка Лодовико Пио да Карпи, брат мадонны Эмилии. Тут два молодых ломбардских аристократа: жизнерадостный и остроумный Чезаре Гонзага, поэт, воспевавший вместе с Кастильоне герцогиню, и Гаспаро Паллавичино, двадцатидвухлетний диалектик, своим скептицизмом и своими бесконечными спорами больше всех вносивший оживление в беседы. Тут, наконец, крупные представители литературы и прежде всего два будущих кардинала: Пьетро Бембо, обедневший венецианский патриций, и Бернардо Довици да Биббиена. Бембо явился в Урбино из Феррары, воздух которой стал вреден для него: герцог Альфонсо заметил благосклонность к поэту герцогини и начал ревновать. Бембо пришел, "имея в кармане всего сорок дукатов, и прожил в Урбино шесть лет". Когда венецианские друзья упрекали его в том, что он живет за счет герцогини, он беспечно указывал им на "Великолепного" Джулиано и отказывался сокрушаться[10]. Правда, и теперь и впоследствии, когда пришли слава, богатство и высокий сан, Бембо крепко и по-хорошему помнил, чем был для него урбинский двор и чем была Елизавета. Другой знаменитый писатель, Биббиена «il bel Bernardo», – один из самых обаятельных и самых остроумных людей своего времени, близкий человек кардинала Медичи, автор комедии «Calandria». Поэты: Бернардо, Аккольти, по прозванию Unico Aretino, бесподобный импровизатор, Винченцо Кальмета и веселый Антонио Мария Терпандро – были тоже частыми гостями урбинского двора. Молодой гуманист Филиппо Бероальдо в своих скитаниях никогда не забывал Урбино. Долгим гостем был знаменитый скульптор Джан Кристофоро Романо. И, наконец, самый преданный друг герцогини, Бальдессар Кастильоне, ученый-гуманист, испытанный воин и вообще всячески одаренный человек, будущий Гомер урбинского двора.
В кругу придворных дам блистала Эмилия Пиа, жена незаконного сына герцога Федериго, Антонио Монтефельтро, умершего в 1500 г., одна из самых образованных женщин своего времени, изящная, красивая, самая верная, самая преданная подруга Елизаветы. Синьора Эмилия не только была лучшей жемчужиной урбинского двора. Среди женщин позднего Возрождения немного таких, кто так серьезно был бы проникнут основным идейным устремлением времени – свободой мысли. Она обладала большим скептическим умом. Ее живой характер и язвительное остроумие не оставляли в покое ничего. Она была неверующей, и не только неверующей, – показной атеизм был вещью в то время обыкновенной, – но имела мужество умереть без исповеди. Ее поклонники недаром в шутку звали ее Emilia Impia[11]. Елизавета платила за ее привязанность нежной любовью, и Эмилия была ей как сестра. Ее медаль дает ей эпитет castissima, что, быть может, делало ее еще более дорогой для герцогини. Другие придворные дамы: Маргарита и Ипполита Гонзага, родственницы Елизаветы, Констанца Фрегозо, сестра Оттавиано и Федериго, мадонна Рафаэля – не были фигурами такими яркими, как Эмилия.








