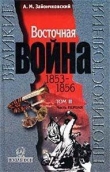Текст книги "Костры на сопках"
Автор книги: Алексей Мусатов
Соавторы: Марк Чачко
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Глава 13
Отряд стрелков, засевший во главе с Гордеевым в прибрежных скалах на Сигнальной горе, томился без дела.
Противник засыпал первую батарею и дорогу, ведущую к ней, лавиной снарядов и, как видно, совсем не помышлял высаживать на берег десант.
– Вот и повоюй с ними, басурманами! – с досадой сказал Гордеев камчадалу Мишугину. – Понавезли пушек, никакой пулей их не достанешь!
К старику подошла Маша.
– Батюшка, я пойду, – тихо сказала она.
– Куда это? – удивился Гордеев. – Отдыхать будто рановато, не потрудились мы еще.
– Не домой иду, – потупилась Маша, – Сергея Алексеевича поищу. Ты говорил, он на первой батарее, а она, вишь, совсем замолкла.
И к ним уже подобралась недобрая весть о том, что с первой батареей случилась беда: пушки выведены из строя, а люди или ранены, или все перебиты.
Со слов отца Маша знала о всех последних событиях в жизни Сергея Оболенского, после того как он покинул их лесную избушку: о приключении в открытом океане, о встрече с “Авророй”, о его возвращении в Петропавловск.
Маша все порывалась посетить Чайкиных, проведать Сергея, поговорить с ним, но какая-то робость удерживала ее.
Издали она видела Сергея, когда ходила работать на батарею. Она и радовалась и печалилась, что он не уехал за океан, в неведомые страны. Радовалась тому, что видит его, и печалилась оттого, что знала, каким опасностям он подвергается, оставаясь здесь: его ведь каждую минуту могли схватить и заковать в кандалы.
Каждый снаряд, который падал на первую батарею, причинял Маше боль. Воображение рисовало ей картины одна другой мрачней. То представлялось ей, что Сергей лежит убитый во рву и хищные птицы клюют его глаза; то виделось ей, как он, обессиленный от ран, медленно бредет к городу… Дальше пребывать в томительной неизвестности она не могла.
– Я, батюшка, мигом вернусь, – повторила свою просьбу Маша. – Нужно мне…
Старик пристально взглянул на дочь:
– Иди, дочка. Это ты правильно надумала. Если беда какая с Сергеем Алексеевичем, в госпиталь ему нельзя попадать, опять схоронить в лесу надобно.
Не мешкая больше, Маша направилась к батарее. Шла она быстро, тем осторожным шагом, каким привыкла ходить по лесу.
Еще издали Маша увидела батарею. Орудия были разбиты, засыпаны камнями, земля кругом изрыта.
Маша спустилась с каменной кручи и побежала к батарее. Вот наконец это страшное место! Первое, на что наткнулась Маша, был труп санитара. Белая повязка с красным крестом резко выделялась на сером рукаве рубахи…
За каменным укрытием лежало несколько раненых артиллеристов.
– Кого ищешь, дочка? – с трудом подняв голову, спросил солдат с осунувшимся лицом.
– Братца… – дрогнувшим голосом ответила Маша, быстро оглядывая лица раненых. – С бородой такой, в армяке…
– А-а!.. Рыбачок из Большерецка… С нами был, до последнего снаряда держался… Хотя и не солдат, а дрался исправно.
– Где же он? Увезли куда?
– Там будто лежит, у крайнего орудия, – махнул рукой раненый.
Маша кинулась к орудию. У платформы без кровинки в лице, раскинув руки, лежал Сергей Оболенский. Маша слабо вскрикнула и опустилась на колени:
– Горемычный мой!..
Она осторожно провела рукой по черному лицу Сергея и замерла. Ей показалось, что рука ее ощутила теплоту живого тела. Маша приложила ухо к груди. Сомнений не было: Сергей был жив.
Девушка, схватив бадейку, добежала до ручья, принесла воды, обмыла лицо Сергею, влила несколько капель в рот. Сергей шевельнулся и вскоре открыл глаза:
– Маша, ты? Откуда?
– Сергей Алексеевич!.. – только и могла прошептать Маша. – Вы ранены?
Сергей неловко ощупал голову, грудь:
– Кажется, невредим.
Он действительно был только контужен. Взрывная волна оглушила его, но не покалечила.
Опираясь на Машину руку, Сергей поднялся во весь рост и оглянулся. Безлюдье на батарее, недавно полной жизни, болезненно поразило его.
– Неужели все погибли?
– Раненых много, – сказала Маша. – Вон они за камнем лежат.
– Живой, рыбачок? – изумленно сказал раненый солдат. – А мы думали – конец совсем. Дюже крепко шибануло тебя! Капитан Максутов уж так прощался с тобой, будто с братом родным.
– А где сейчас капитан? Тоже ранен? – спросил Сергей, тревожно оглядывая раненых.
– Капитан у нас орел! Хоть и ранен, а до последнего заряда палил. А потом всех, кто в живых остался, повел к Красному Яру, на подмогу к четвертой батарее. Не иначе, враг сейчас на Красный Яр навалится.
Все посмотрели на бухту. Корабли неприятеля, прекратив стрельбу по первой батарее, приближались к противоположному берегу Петропавловской бухты, где была расположена четвертая батарея.
Подъехали две подводы. Санитары принялись укладывать на сено раненых артиллеристов.
– И вы садитесь! – посоветовала Маша Сергею. – Подъедете до города.
– Нет, нет, я могу и пешком! И, опираясь на руку девушки, Сергей медленно побрел к порту. Чтобы сократить путь, они пошли по тропинке около самого берега бухты.
Боль в голове давала себя чувствовать. В глазах прыгали огненные язычки, ноги налились свинцовой тяжестью. Но Сергей крепился изо всех сил.
Неожиданно за выступом скалы Сергей и Маша заметили двух мальчиков, которые им что-то кричали и призывно размахивали руками.
Они недоуменно переглянулись и пошли быстрее.
В мальчиках Сергей вскоре узнал своих молодых друзей. Около них на камнях лежал какой-то человек.
– Что случилось? – спросил Сергей. – Кто это с вами?
– А мы к вам бежали, на батарею! – обрадованно проговорил Егорушка.
– Спасибо, ребята! – растроганно ответил Сергей. – Спасибо!.. Кого же вы тут охраняете?
– Мы человека из воды вытащили. Он к берегу плыл, – пояснил Ваня. – Я так думаю – с неприятельского корабля. Разведчик какой-нибудь.
Сергей наклонился над незнакомцем. Как ни сильно изменилось лицо спасенного, но он сразу узнал его и пораженно вскрикнул:
– Николенька! Брат!..
Спасенный мальчиками человек был Николай Оболенский, который наконец-то добрался до родной земли!
Глава 14

Разгромив первую батарею на Сигнальном мысу, неприятель весь огонь своих орудий сосредоточил по батарее № 2 и батарее № 4, преградившим вход кораблям во внутреннюю гавань. Четвертая батарея, расположенная на отлогом берегу бухты, у балки под названием Красный Яр, была наиболее слабой и через полчаса израсходовала почти все запасы снарядов. Орудия ее замолчали.
Неприятель, догадавшись, в чем дело, усилил натиск. Видя, что батарея не отвечает, вражеские фрегаты подошли еще ближе к берегу и стали спускать шлюпки. В них рассаживались матросы и солдаты в красных мундирах.
Командир четвертой батареи лейтенант Гаврилов оглядел людей. В живых осталось всего девять человек, трое из них были ранены. На лодках же к берегу приближалось более десятка неприятельских шлюпок и два бота. Девять человек не могли бы их задержать даже на короткое время. Сообразив все это, Гаврилов решил отступить.
– Заклепать орудия! – приказал он. – Отходить ко второй батарее!
Артиллеристы быстро заклепали пушки и, захватив свое снаряжение, стали отходить.
Англичане и французы, вступив на берег, подняли галдеж, криком и шумом выражая радость по поводу победы. Они подбрасывали шапки вверх, кричали, стреляли из своих штуцеров. Какой-то солдат поторопился водрузить английский флаг над замолчавшей батареей.
Командовавшие десантом офицеры стали строить солдат в походную колонну, чтобы ударить в тыл второй батарее, которая продолжала вести огонь по Кораблям.
Напряжение боя нарастало. Неприятель напрягал все силы, чтобы заставить замолчать последнюю батарею.
Густой дым от выстрелов и разрывающихся снарядов стлался по берегу.
Завойко, наблюдавший за ходом боя с вершины горы, как только заметил, что с неприятельских кораблей начинают отчаливать лодки с солдатами, послал гонца к офицеру Уварову с приказом немедленно атаковать неприятеля.
Отряд Уварова находился в засаде в Кривой балке. Взобравшись на дерево, часовой следил за действиями неприятеля.
– Шлюпки идут к берегу! Высаживаются! – сообщил часовой.
– Приготовиться к бою! – приказал Уваров.
До берега отряду предстояло пробежать больше километра по открытой местности под неприятельским огнем.
Солдаты, матросы, охотники и горожане нетерпеливо поглядывали на своего командира.
– В атаку! – крикнул Уваров и первый побежал вперед.
За ним с криком “ура” устремился весь отряд.
С неприятельских судов по атакующим открыли огонь, но это уже не могло охладить боевого воодушевления защитников порта.
Английские и французские офицеры попытались поставить свой отряд в каре, чтобы жестоким огнем остановить атакующих. Но как только солдаты увидели бегущих к берегу русских с ружьями наперевес, они, не слушая команды офицеров, стали пятиться к своим шлюпкам. Несколько метко пущенных с “Авроры” из-за мыса Язык ядер еще больше усилили панику. Давя и толкая друг друга, солдаты стали усаживаться в шлюпки.
Те, кто успел занять место, требовали от гребцов, чтобы они скорее отчаливали от берега, сталкивали в воду опоздавших.
Наконец переполненные солдатами шлюпки стали медленно отходить от берега. Вдогонку им летели пули русских стрелков, раздавались крики и улюлюканье. Адмирал Прайс наблюдал за этим позорным бегством первого десанта с фрегата “Президент”.
– Скоты! – злобно шипел он. – Трусливые собаки! С трудом он подавил в себе желание отдать команду стрелять по своим солдатам, без боя покинувшим берег. Ему хотелось их всех утопить в бухте.
Шлюпки с незадачливыми десантниками подошли к кораблям.
Адмирал де-Пуант ждал, что Прайс на сегодня прекратит бой и прикажет эскадрам отойти на отдых. Но английский адмирал решил довести дело до конца, во что бы то ни стало уничтожить вторую батарею и прорваться во внутреннюю бухту.
И вот сотня орудий обрушила свой огонь на одиннадцать русских орудий второй батареи, которой командовал авроровец лейтенант Елагин.
На дальние выстрелы артиллеристы не отвечали, но как только противник подходил ближе, они открывали меткий прицельный огонь.
Каждая пушка на батарее носила особое название: “Ласточка”, “Старушка”, “Сибиряк”… Прозвища эти настолько привились, что Елагин, перебегая от одной пушки к другой и лично проверяя прицел, возбужденно кричал:
– “Ласточка”, давай, круши!.. “Сибиряк”, прибавь огоньку!..
Лицо его, почерневшее от порохового дыма, с блестящими глазами, светилось молодым задором.
– Целься вернее, братцы! – кричал он солдатам. – Ломай им ребра!..
В самый разгар боя лейтенанту Елагину донесли, что порох для зарядов на исходе.
– Эх, беда! – скрипнул зубами Елагин. – Заклюют нас!.. Достать надо порох, немедленно!
– Берегом долго будет, – ответил матрос Травников – А если с “Авроры” на шлюпке?
– Под таким-то огнем? Не доберутся!
– Рискнуть надо! Другого выхода нет. Просигналить на “Аврору”, попросить прислать пороху. Капитан Изыльметьев найдет выход.
Травников просигналил на “Аврору” о бедственном положении на батарее с порохом.
Изыльметьев собрал матросов и спросил, кто из них сможет доставить на батарею порох. Первым вызвался Чайкин. К нему присоединилось еще четверо матросов.
Пятерка храбрецов обогнула узкий мыс Язык и, крепко налегая на весла, погнала шлюпку ко второй батарее.
Неприятель сразу же заметил ее и взял под обстрел.
– Скорей, касатики! – кричали артиллеристы с батареи. – Налегай на весла!
Лавируя среди взрывов, шлюпка с порохом наконец пристала к берегу, и батарея вновь смогла отвечать на огонь неприятельских кораблей.
– Спасибо, братцы, выручили! – поблагодарил матросов Елагин. – А если еще порцию доставите, бой хоть до вечера выдержим.
– Придется постараться! – ответил Чайкин.
И шлюпка с матросами направилась во второй рейс за порохом.
Дым от выстрелов густой, непроницаемой пеленой окутал берег и бухту. Неприятельские корабли терялись во мраке. Этим хотел воспользоваться пароход “Вираго”, на котором сейчас находился сам адмирал Прайс. Под завесой дыма “Вираго” попытался проскользнуть во внутреннюю гавань, но зоркий глаз сигнальщика вовремя заметил хитрость врага.
– Пароход! – крикнул он.
На “Вираго” посыпались ядра русских орудий. В нескольких местах был пробит борт парохода, разворочена палуба.
“Вираго” вынужден был дать задний ход.
– На-ко, выкуси! – радовались русские артиллеристы.
– Улю-лю!
– Пока цел – убирайся восвояси!
Прайс, бледный, угрюмый, стоял на капитанском мостике. Его одолевали мрачные думы, сердце ныло.
Теперь уже не могло быть сомнений: эскадра величайшего флота в мире терпела неудачу у захолустного русского порта.
Прайс старался разобраться в допущенных ошибках, чтобы хоть немного уменьшить ноющую боль в груди. Самая первая и большая ошибка та, что он напрасно выпустил из своих рук фрегат “Аврора”. Не надо было слушаться де-Пуанта. Этот француз со своим этикетом помешал всему делу. Надо было наплевать на этикет, вежливость и прочее. Будь захвачена “Аврора”, и вся кампания развернулась бы по-другому. Кроме того, они напрасно задержались в порту Кальяо, затем на Гавайских островах, дав русским возможность тем временем укрепить порт, стянуть силы.
Теперь все кончено. Французы еще могут пыжиться, но он-то, адмирал Прайс, отлично видит всю безнадежность дальнейшей борьбы.
Какой бешеный вой поднимут газетчики, как только в Англии станет известно о проигранной кампании у берегов Камчатки! Какой желчью и ядом будут пронизаны все сообщения о военных действиях!
Во всем будут винить его, адмирала Прайса, преданно прослужившего во флоте всю свою жизнь. Его будут называть бездарностью, трусом, а может быть, и изменником.
Ни один человек не подаст голоса в его защиту. Может быть, сослуживцы поймут его? О нет! Они тоже будут на стороне хулителей. Адмиралтейству нужен будет виновник, и им будет объявлен он, адмирал Прайс.
А какие надежды возлагал адмирал на эту кампанию, какие ему рисовались радужные картины будущего: слава, награды, деньги!..
Но вот все надежды рухнули. Впереди Прайса ожидали только отчужденность, позор и презрение соотечественников.
И смерть, как единственное средство избежать грозивших ему несчастий, ясно представилась адмиралу. Однако это продолжалось недолго. Смерть! Для чего? Почему? Он еще крепок здоровьем и может долго жить. Он может еще искупить свою вину, еще не все потеряно, наверное он просто преувеличивает стойкость русских.
Прайс мутным взглядом оглядел бухту, скалы, тонущие в дыму. Вновь возникло желание прорваться через пролив во внутреннюю гавань.
– Полный вперед! – приказал Прайс капитану “Вираго”.
Джексон с недоумением взглянул на адмирала, но тот в бешенстве крикнул:
– Заставьте машину работать на полную мощность!
Джексон бросился выполнять приказание.
Пароход снова двинулся к проливу, чтобы проскочить в гавань. И снова вторая батарея открыла по нему сокрушительный огонь. Из-за мыса ее поддержала “Аврора”. Ядра посыпались на палубу “Вираго”. Послышались стоны раненых.
Прайс старался ничего не замечать. Подбежал встревоженный капитан Джексон:
– В трюме парохода появилась вода. Есть пробоины в подводной части. Просигналили с других кораблей, ведущих бой с русской батареей. Фрегат “Президент” получил серьезные пробоины, “а “Пайке” начался пожар. Адмирал де-Пуант настаивал прекратить бессмысленный бой и отойти к Тарьинской бухте.
– Трусы! Мерзавцы! – Прайс метался по палубе. – Пусть бегут, пусть уходят! Но мы должны быть в гавани, должны!
– Дальше двигаться невозможно, – продолжал настаивать Джексон: – мы можем пойти ко дну. Разрешите дать задний ход.
Адмирал застонал, как раненый зверь, и безнадежно махнул рукой. Джексон понял этот жест как согласие со стороны адмирала и подал команду отходить назад. В ту же минуту он услышал за своей спиной звук выстрела и глухое падение о палубу чего-то грузного, тяжелого.
Джексон обернулся, подался вперед. Адмирал Прайс лежал у лесенки капитанского мостика. Из виска текла струйка крови. Дымящийся пистолет валялся рядом. Джексон наклонился и прильнул ухом к груди адмирала: Прайс был мертв.
“Вираго” под восторженные крики русских артиллеристов отходил назад.
Более восьми часов продолжался жестокий, неравный бой, а вторая батарея все еще продолжала вести огонь. Вслед за “Вираго” отошли от гибельного места и остальные корабли противника. Бой прекратился.
Остановившись в Тарьинской бухте, Джексон вызвал на пароход капитанов английских судов. Он считал необходимым прежде всего сообщить о случившемся своим соотечественникам, а потом уже поставить в известность союзников.
Вскоре капитаны прибыли на пароход “Вираго”.
– Господа, – с печальной торжественностью сказал Джексон, – адмирал Прайс покончил жизнь самоубийством… Нам трудно объяснить причины, побудившие покойного адмирала покончить счеты с жизнью в такой трудный для нашей эскадры час. Нам трудно найти ему и оправдание. И только христианская заповедь повелевает нам простить адмиралу его прегрешения и склонить колени перед волей всевышнего…
Отдав елейную дань христианским чувствам, Джексон с раздражением заметил, что самоубийство адмирала может плохо отразиться на самочувствии экипажа, понизит боевой дух матросов.
Хитрый и осторожный капитан “Президента” подал совет:
– Самоубийство адмирала Прайса должно остаться тайной для всех. Надо на вечные времена утвердить версию, что адмирал Прайс пал в бою смертью героя. В этом сообщении нет ничего унизительного ни для чести покойного моряка, память о котором мы должны оберегать, ни для престижа нации.
Все согласились с этим мнением.
Капитан Джексон отправил шлюпки с посланцами на французские корабли, чтобы сообщить о том, что адмирал Прайс умер от ран, полученных в дневном бою, и пригласить офицеров на похороны адмирала.
Глава 15
Исчезнув из Петропавловска, Лохвицкий в этот же день прискакал в камчадальское селение Утколоки.
Почти все взрослые мужчины ушли защищать Петропавловск, и в селении остались одни лишь старики, женщины и дети. Лохвицкий собрал стариков и объявил им, что он послан к ним самим “большим начальником” – Завойко, чтобы словить важного преступника, которого камчадалы прячут в своем селении.
Старики не на шутку перепугались, но Лохвицкий был неумолим. Он немного подобрел только тогда, когда камчадалы принесли ему в подарок несколько песцовых шкурок.
То же самое он проделал в другом камчадальском селении, потом в третьем, в четвертом…
Вещевой мешок его, притороченный к лошади, разбух от дорогих мехов.
Больше суток Лохвицкий нигде не задерживался, так как опасался преследования со стороны Завойко.
Хорошо зная честность и неподкупность Завойко, он не сомневался в том, что начальник края не колеблясь предаст его суду. А в военное время за шпионаж в пользу иностранного государства он может получить каторжные работы.
Иногда Лохвицкий встречал возвращавшихся из Петропавловска охотников и камчадалов и расспрашивал их о том, что происходит в городе. Те отвечали, что все жители заняты на строительстве укреплений.
Лохвицкий понял, что если Завойко его и разыскивает, то недостаточно энергично, и немного успокоился. Ему даже показалось, что Завойко не принимает мер к поимке из-за нежелания выносить сор из избы, из-за боязни потерять свой престиж.
Лохвицкий приободрился, и будущее уже не рисовалось ему в столь мрачном свете. Он может еще вынырнуть, надо только придумать ловкий ход.
Лохвицкий с нетерпением ждал прихода иностранных кораблей и почти каждый день выезжал из леса к берегу Авачинской бухты.
Он уже мысленно составил план дальнейших действий. Собранные сведения об обороне порта окажутся полезными английскому адмиралу, Когда англичане захватят порт, то, конечно, его, Лохвицкого, назначат на хорошую должность, может быть даже начальником области. И тогда, тогда… Воображение его разыгралось, он уже видел себя богатым, власть имущим человеком…
Но эскадра союзников все не появлялась в Авачинской бухте. Лохвицкий начал подумывать о том, не двинуться ли через горы в Большерецк, продать там купцам приобретенные шкурки и оттуда на каком-нибудь судне перебраться в Охотск или Аян.
Однажды Лохвицкий направился в Калахтырку, где рассчитывал значительно пополнить свои запасы драгоценных шкурок.
Узкая тропа, по которой он ехал, вилась вдоль скалистого берега реки, несущей свои пенистые воды сквозь многочисленные пороги к океану. Тропа то поднималась вверх, то шла почти у самой кромки берега, и брызги воды обдавали всадника. Оголенные зубчатые утесы, окрашенные багровыми лучами низкого солнца, выглядели неприветливо, угрюмо.
Несколько раз почти из-под копыт коня вскакивали с тропы и скрывались в чаще леса то заяц, то выводок тетеревов. И хотя ружье висело у Лохвицкого наготове, он не обращал внимания ни на птиц, ни на зайцев.
Лошадь вступила в ольховую рощу. Лохвицкий ехал погруженный в раздумье. Вдруг лошадь под ним резко шарахнулась в сторону. От неожиданности Лохвицкий соскользнул с седла и упал на траву. Выругавшись, он быстро поднялся на ноги и замер: в нескольких шагах от него стоял большой бурый медведь. Зверь, очевидно, не имел злых намерений. Ошеломленный встречей не менее, чем человек, он, низко опустив широкую голову, торопливо стал переходить тропу, направляясь к реке.
Лохвицкий мог бы спокойно стоять на месте и пропустить медведя мимо себя, но он потерялся от неожиданности и, схватив ружье, выстрелил.
Зверь остановился, поднялся на дыбы и, ломая кусты, с ревом пошел на своего обидчика. Вероятно, Лохвицкий его только ранил. Маленькие черные глазки зверя были злы, лапы с обнаженными черными когтями угрожающе вытянуты вперед.
Зверь был слишком близко, и Лохвицкий не успел перезарядить ружье. Еще мгновение, и медведь одним страшным ударом размозжил бы ему череп.
Но тут случилось непредвиденное. Одиноко и сухо прозвучал выстрел. Медведь недоуменно остановился, потом, стал медленно оседать и наконец тяжело повалился на землю, приминая своей огромной тушей листья папоротника.
Лохвицкий перевел дух и беспокойно оглянулся. Перескакивая через поваленный бурелом, к нему бежал человек.
– Жив-здоров? – участливо спросил он. – Не помял тебя зверь?
Подойдя поближе, человек узнал Лохвицкого, поспешно снял шапку и поклонился:
– Обознался, ваше благородие!
Узнал человека и Лохвицкий. Это был староста Мишугин. Все камчадалы были для Лохвицкого обычно на одно лицо, но с Мишугияым он встречался несколько раз и запомнил его.
Оправившись и поняв, что опасность ему не угрожает, Лохвицкий искоса взглянул на лежащего медведя и спросил, далеко ли еще до Калахтырки.
– Версты три будет.
– Как думаешь, лошадь моя далеко ушла?
– Куда ей деться! Должно быть, пасется где. Бабы поймают, не то ребятишки.
– А много в деревне народу осталось?
– Еще есть маленько. Кто к войне непригоден.
“Вот и хорошо! – подумал Лохвицкий. – Как раз это мне и нужно!” И начальственным тоном он спросил старосту:
– Что ж ты без дела шляешься? Не знаешь разве приказ губернатора – всем в городе быть!
– Земляки послали, – испуганно проговорил Мишугин. – Мяса надо раздобыть.
Мишугин, конечно, не знал о переменах в жизни Лохвицкого. В его глазах он был по-прежнему большим начальником, которому надо всячески угождать, исполнять его приказания и с которым необходимо жить в ладу. И все же он не мог не заметить некоторых странных обстоятельств: Лохвицкий ехал один, тогда как обычно его сопровождали солдаты; все чиновники в городе готовятся к обороне, а этот почему-то разъезжает по селениям. Смутные опасения закрались в сердце старосты.
– Пойдешь со мной, – строго и внушительно сказал Лохвицкий. – Ты мне нужен.
– Пойду, – покорно согласился охотник. – А за мясом наших людей пришлю. Вот только примету оставлю.
Мишугин сделал ножом несколько зарубок на деревьях, чтобы указать своим людям место, где лежит убитый медведь. После этого он накрыл медведя ветками и вышел на дорогу, готовый следовать за Лохвицким. Они зашагали по тропинке.
– Большой начальник в наше село едет? – осторожно спросил Мишугин.
– В вашем селении скрывается важный государственный преступник, – хмуря брови и играя нагайкой, проговорил Лохвицкий. – Всех, кто его укрывает, губернатор приказал посадить в острог.
Мишугин испуганно покачал головой:
– Не губите людей, ваше благородие! Нет у нас никого.
– А это мы сейчас увидим. – Лохвицкий многозначительно посмотрел на старосту. – Песцовых шкурок много припасено?
– Маленько есть, – оживляясь, ответил Мишугин, наконец догадываясь об истинных намерениях чиновника.
– Так вот что: неси ты мне с каждой избы по одной шкурке, и все дело уладим. Изб, кажется, в вашем селении тридцать?
– Шестнадцать, ваше благородие.
– Ладно. Неси двадцать пять шкурок.
Староста удивился: в селении только шестнадцать изб, а чиновник требует двадцать пять шкурок, хотя сам же говорил, что возьмет по шкурке с избы.
– Шестнадцать, – повторил староста упрямо. – Считать можно.
– Поговори у меня! – вскипел Лохвицкий, которого все больше и больше раздражала неуступчивость обычно покорного и робкого камчадала. – Благодари бога, что дешево отделаешься. Собирай шкурки да неси сюда!
Мишугин стоял недвижим, лицо его было сосредоточено. Камчадалу приходилось много угождать царским чиновникам, он считал это делом обычным, почти необходимым. А сейчас впервые в жизни он с болезненной остротой почувствовал незаконность притязаний чиновника: люди готовились к схватке с неприятелем, были полны забот об общем деле, а Лохвицкий думал только о своем обогащении!
Простое, бесхитростное сердце камчадала возмутилось.
– Нехороший ты человек, начальник! – глухо выдавил он.
– Что? – вскрикнул Лохвицкий. – Что ты сказал, косоглазый!
Не поднимая головы и перебирая жесткими пальцами сыромятный ремень, Мишугин повторил:
– Нет, худо ты делаешь, худо!
– Ах ты собака! – Лохвицкий наотмашь ударил плеткой камчадала по лицу.
– Бей, – сказал Мишугин, подняв голову, – бей, твоя сила… А шкурок давать не будем… Гони всех в острог!
Лохвицкий остолбенел: таких слов от камчадалов он еще никогда не слыхал. Он поднял плетку, чтобы расправиться с непокорным старостой. Но на этот раз Мишугин не стал дожидаться удара, отпрянул в сторону и предостерегающе сказал:
– Лучше не дерись, ваше благородие! Сам видишь – место глухое. Я сейчас людей из селения скличу, отведем мы тебя к большому начальнику: он скажет, по закону ты с нас песцовые шкурки требуешь или нет.
Лохвицкий невольно опустил нагайку.
– Погоди же, вонючая морда, я завтра сюда с солдатами приеду – найдем, кого вы скрываете! – погрозил он старосте и, бормоча ругательства, отправился разыскивать лошадь.
Она вскоре была обнаружена в лощине около селения.
Лохвицкий сел в седло и поспешно поехал прочь от Калахтырки в сторону леса. Ему было не по себе. Он понимал, что Мишугин сейчас действительно способен задержать его и отвести к Завойко. Только вступив в лес, Лохвицкий немного успокоился: кругом было тихо, никто за ним не гнался.
Когда же совсем стемнело, он добрался до своего лесного шалаша, где он скрывался все эти дни после бегства из Петропавловска.
Мешок был почти полон дорогих шкурок. Лохвицкий решил, что теперь, после стычки с Мишугиным, ему уже нельзя больше оставаться вблизи Петропавловска. В каждом селении его будут встречать как врага и могут в самом деле связать и выдать Завойко. Надо срочно уходить отсюда. Эскадра союзников, видно, задержалась, а может быть, и совсем не приедет в бухту.
Ночь тянулась медленно. Несколько раз Лохвицкий вставал, выходил из шалаша и прислушивался к шуму леса.
Утром, чуть свет, оседлав коня и захватив мешок со шкурками, он направился в путь к Большерецку. В последний раз ему захотелось посмотреть на море. Он выехал к “воротам” – проливу, отделяющему Авачинскую бухту от океана.
По обе стороны пролива тянулись высокие, крутые, разорванные громады скал.
И тут Лохвицкий заметил на горизонте паруса кораблей. Они шли к Авачинской бухте. Лохвицкий понял, что это эскадра союзников. Для него наступил праздничный час. Он почувствовал, что спасен.
Лохвицкий нисколько не сомневался, что многопушечные фрегаты одержат верх над защитниками Петропавловска. Он не только был уверен в победе англичан и французов, но и всей душой желал этого, потому что с этой победой связывал свои честолюбивые замыслы.
В первый же день, когда корабли стали на якорь у селения Тарья, Лохвицкий решил до них добраться, но все лодки рыбаков, как нарочно, исчезли с побережья. Вероятно, жители селения угнали их в бухту поближе к Петропавловску.
Терзаясь опасениями, Лохвицкий долго метался по берегу. Он боялся опоздать. Неприятельская эскадра может начать боевые действия, захватить порт, а он явится к шапочному разбору, и все собранные им сведения не будут стоить и ломаного гроша.
“Неужели ничего нельзя придумать? – думал Лохвицкий. – Не пускаться же мне вплавь! Все будущее может полететь в тартарары из-за какой-то дрянной лодки!”
Он провел ночь на берегу, в расщелине скалы, надеясь, что утром какой-нибудь случай поможет ему добраться до иностранных кораблей.
Но утром, когда туман рассеялся, Лохвицкий заметил, как суда, выстроившись в одну линию, направились к Петропавловской бухте. Потом начался бой. Он длился почти до вечера, и Лохвицкий опять не мог попасть к иностранцам.
В сумерки, когда англо-французская эскадра вновь отошла к Тарьинской бухте и встала на якорь, он наконец заметил в узком заливчике небольшую долбленую лодку – бат.
Бат был вытащен на берег и спрятан в прибрежных кустах.
Селение казалось вымершим. Мужчины ушли защищать порт; старики, женщины и дети, по приказанию Завойко, скрывались в тайге.
Не успел Лохвицкий столкнуть бат в воду, как из-за кустов выбежала маленькая сухая старушка.
– Батюшка, батюшка мой, – зашамкала она, – нельзя в море плыть! Возбранено! Начальник из городя приезжал, наказал строго-настрого: все лодки попрятать, в море никому не выходить… У меня старик занемог, в хибарке лежит.
– Пошла прочь, старая! – прикрикнул на нее Лохвицкий.
Старуха вдруг судорожно схватила его за руку:
– Отступись, родимый, от лодки… Христом-богом молю… Там же злодей в море стоит…
Лохвицкий грубо отшвырнул старуху, кинул в бат мешок со шкурками и оттолкнулся от берега.
В этот раз ему повезло. Бухта была спокойна, и бат вскоре подошел к эскадре. Его заметили, и навстречу ему устремилась шлюпка.
Лохвицкий объяснил офицеру, кто он такой, и потребовал доставить его к командующему английской эскадрой.