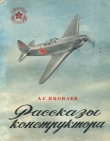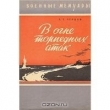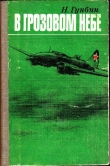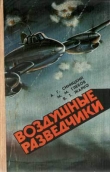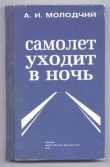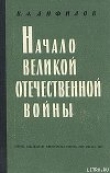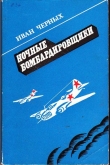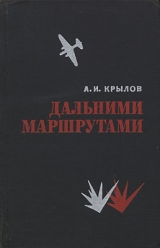
Текст книги "Дальними маршрутами"
Автор книги: Алексей Крылов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
Подразделение за подразделением, полк за полком выходили в эту ночь на заданные цели и поражали их. Во многих районах города полыхали пожары, возникали сильные взрывы. К концу налета бомбардировщиков стала заметно утихать и зенитная стрельба. Было видно, что от наших бомб значительно пострадала вместе с военными объектами и противовоздушная оборона города.
Прошло только двое суток, а воздушные корабли нашего полка и других частей уже вновь взяли курс на Кенигсберг. На этот раз мы должны были бомбардировать артиллерийский завод «Остверке», расположенный в восточной части города. Запасной целью был авиамоторостроительный завод «Даймлер Бенц».
Перед вылетом летчики поговаривали, усмехаясь:
– Опять идем на «рентген».
– Да, снова нас будут над Кенигсбергом «просвечивать».
Шутки шутками, а вести боевые действия по крупным военно-промышленным объектам было невероятно трудно и сложно. Да и погода могла подвести. Как и в прошлый полет, летчикам пришлось вести свои корабли в разнообразной метеорологической обстановке. Но экипажи один за другим точно выходили в район Кенигсберга.
Как и в прошлую ночь, возглавлял боевой порядок полка майор Юспин. Его экипаж первым встретил мощный огонь зениток и «рентген» прожекторов. Удачно сбросив осветительные бомбы, Юспин вызвал на цель сначала экипажи подавления ПВО, а затем стал ходить вокруг цели, наблюдая за работой бомбардировщиков. Первым обрушил фугасные и зажигательные бомбы по территории артиллерийского завода экипаж Василия Каинова. И сразу же на земле возник огромной силы пожар, который был виден далеко от цели и служил прекрасным ориентиром для бомбардировщиков. Мы безошибочно выходили на объекты и сбрасывали на них фугаски. Как и в прошлый полет, все экипажи полка отлично справились со своей задачей.
Через день в газетах появилось очередное правительственное [106] сообщение. Оно сопровождалось заголовком: «Новый налет наших самолетов на Кенигсберг». В сообщении говорилось: «В ночь на 26 июля большая группа наших самолетов вновь бомбардировала военно-промышленные объекты Кенигсберга. В результате бомбардирования в городе возникло большое количество очагов пожара, из них пять больших размеров, наблюдавшихся экипажами при уходе от цели до предела видимости. Отмечено пять сильных взрывов в центре города и четыре на его окраинах. По наблюдению экипажей в восточной части города взорван военный завод, который быстро воспламенился. Все самолеты вернулись на свои аэродромы».
* * *
Прочитав это сообщение, майор Юспин первым поздравил коммуниста старшего лейтенанта Каинова с заслуженной победой. А тот с серьезным видом отмахивался:
– Да что вы, Виталий Кириллович, это заслуга вовсе не моя. Штурман Гаврюшин бросал бомбы.
Любопытные летчики, штурманы стали наперебой расспрашивать Гаврюшина о том, как это ему удалось стукнуть прямо по заводу.
– Ничего я такого не сделал, – словно оправдываясь, говорил Гаврюшин. – Просто проявил настойчивость.
Капитан Гаврюшин говорил правду. Членов этого экипажа в полку так и называли: «настойчивые». Майор Юспин много помогал им, частенько поощрял их настойчивость в достижении победы над врагом. Но нередко и предупреждал Каинова, говоря при этом: «Быть смелым и настойчивым – прекрасно. Но и в этих случаях не следует терять головы…»
В жизни полка иногда бывало так: корабль вылетает на бомбардировку заданной цели, а возвращается на аэродром с полным грузом бомб. Причина – плохая погода. У экипажа Каинова такие препятствия тоже встречались, но все же его экипаж ни разу не возвращался с бомбами. Когда спрашивали Каинова о причинах его успеха, он всегда полушутя-полусерьезно говорил, что у него в экипаже отличный штурман Гаврюшин, прекрасный стрелок-радист Размашкин и бдительный воздушный стрелок Селезнев.
Слов нет, дружный, сработанный экипаж, каждый [107] член которого отлично знает свое дело, имеет громадное значение. Но бывает, что и подготовленные экипажи возвращаются с бомбовым грузом.
Капитан Гаврюшин на это отвечал просто:
– По-моему, упорства в таких случаях у людей не хватает. Конечно, встречаются на первый взгляд невозможные условия, но настойчивость все преодолевает.
Кайновцы так и делали. Они не могли не летать даже в самых трудных погодных условиях. Пробиться по маршруту, найти основную цель было их постоянным правилом.
Все мы, боевые товарищи и друзья летчика Каинова, штурмана Гаврюшина, видели, как росло их мастерство, мужал и закалялся характер. В начале первой военной зимы был такой случай. Перед экипажами полка стояла задача – уничтожать немецкие танки, намеревающиеся прорваться к Москве. Но как это выполнить практически, если погода явно нелетная: сплошная низкая облачность, изморозь, обледенение. Вылетят, бывало, некоторые наши экипажи и возвращаются обратно. Каинов с Гаврюшиным и в этих условиях не сворачивали с боевого курса. На козырьке кабины летчика интенсивно нарастал лед, пилотирование машины крайне затруднялось. Но Каинов всегда находил выход. Он открывал с обеих сторон кабины боковые шторки и, наблюдая через них за землей, вел самолет к цели. А Гаврюшин в этих условиях без малейших ошибок выводил корабль на скопление танков и нещадно крушил их бомбами. Сержанты Размашкин и Селезнев, увлеченные отвагой своих старших товарищей-офицеров, дружно поливали свинцовым дождем пулеметов бегущих в панике фашистов. За мужество и отвагу, проявленные при разгроме немцев под Москвой, летчик Каинов был награжден орденом Ленина, остальные члены экипажа – орденом Красного Знамени.
В конце июля сорок второго года при налете дальних бомбардировщиков на объекты Восточной Пруссии экипаж Каинова следовал по маршруту в голове боевого порядка полка. С набором высоты корабль настойчиво продвигался к цели. Но вот впереди стеной выросла высокая двухъярусная облачность: верхняя ее граница достигала восьми тысяч метров. Вскоре оба яруса облаков сошлись, в кабинах корабля потемнело.
В том, что бомбардировщик попал в сплошные облака, [108] Каинов не видел ничего особенного, так как весь экипаж не впервые летал в подобных условиях. Машину сильно трясло. Вокруг стали появляться вспышки молний. Корабль бросало, как маленькое суденышко в штормовом океане. Вспышки молнии ослепляли экипаж. Но Каинов не сдавался. Он дал обоим моторам максимальные обороты и уверенно полез вверх. Неимоверная сила кидала самолет из стороны в сторону, выбивала из рук летчика штурвал. И вдруг ударила молния. Самолет загорелся и стал разрушаться… Так погибли Василий Максимович Каинов и все члены его экипажа, более года мужественно и героически сражавшиеся с немецко-фашистскими захватчиками.
Помнится, в эту страшную июльскую ночь не вернулись с задания еще четыре экипажа. Немногим нашим летчикам удалось прорваться тогда сквозь грозовой фронт. Но те, кто достигли вражеского логова, смело выходили на Кенигсберг, метко обрушивали на военные объекты фугасные и зажигательные бомбы.
Это было только начало. Удары по агрессору усиливались. Особенно запечатлелся в памяти налет бомбардировщиков в ночь на 30 августа, который по своим масштабам превысил все предыдущие. Одновременному удару подверглись многие города Восточной Германии. В результате интенсивной бомбардировки в Кенигсберге и Гданьске возникло много очагов пожара и больших взрывов. Врагу был нанесен значительный урон.
Гитлеровцы пытались скрыть правду о налетах советской авиации. Но все стало известно немецким солдатам. Об этом говорили письма из германского тыла на фронт.
Политработники старались не упускать случая, чтобы довести каждое такое письмо до личного состава. 11 сентября 1942 года в центральной авиационной газете была опубликована статья «Германия под ударами с воздуха», в которой приводились интересные письма. Виталий Кириллович прочитал статью и попросил секретаря парторганизации полка старшего лейтенанта Вяльдина довести ее содержание до летчиков. Перед полетом мы в ожидании команды сидели в землянке, когда Вяльдин начал читать газету.
«Наша авиация, – говорилось в статье, – неоднократно громила логово фашистских извергов в глубоком тылу, эти удары с каждым днем приобретают все большее значение [109] и приближают сокрушение гитлеровской Германии».
– Послушайте, что пишут сами немцы о наших бомбардировках их тылов, – продолжал Вяльдин. – У убитого солдата 209-го немецкого полка Вилли Штрауха найдено письмо от его жены из Кенигсберга, в котором говорится: «Ты, наверное, уже слышал, что наш город подвергся воздушному налету русских. Что здесь было, я тебе даже рассказать не могу. Во всяком случае, творились ужасные вещи. Через несколько дней русские сделали второй, третий налет. Мои нервы совсем испортились. Сейчас я лежу в постели, но что мы будем делать, если они прилетят еще раз?»
– Трястись и реветь, – вставил летчик Кочнев.
– Строчить жалобу господу богу и просить его о пощаде, – смеясь, добавил штурман Цетлин.
В землянке стало шумно. А когда воины успокоились, Вяльдин продолжал:
– Старшему ефрейтору Герхарду Герике его сестра Ленхен сообщила из Аахена: «Старый город императоров стал городом развалин. Гитлер и Геринг были здесь, чтобы посмотреть на «незначительный ущерб».
– Не то еще будет, – с сердцем сказал штурман Неводничий.
– Гитлеровцам будет еще хуже, если мы усилим удары по их тылам, – подойдя к Вяльдину и взяв у него газету, заговорил Юспин. – Сегодня мы летим на Тильзит. Надо стукнуть по нему так, чтобы эхо удара докатилось до окопов фашистов.
Воины всем сердцем чувствовали, что душой боевых полетов, особенно полетов в глубокий тыл врага, их первым исполнителем был Виталий Кириллович. Как-то я спросил заместителя командира полка по политической части майора Николая Яковлевича Куракина, который, кстати, сам во время войны освоил профессию штурмана и потом очень часто летал на задание, почему личный состав полка так любит Юспина, почему у него такой прочный авторитет. Куракин не задумываясь ответил:
– Майора Юспина воины крепко уважают, это верно. Авторитет у него исключительный. А все потому, что он душевный человек, летчик образцовый. Много и хорошо [110] летает. Это – раз. О своих людях заботится, знает всю их подноготную. Это – два. Умеет воспитывать воинов, опираясь на парторганизацию. Это – три.
Точнее о Виталии Кирилловиче не скажешь. В часы отдыха Юспин беседует с подчиненными по-товарищески, но по службе строг. Пробирать он умеет за беспорядки. Вызовет к себе и так поговорит, что с человека пот льет. Он за своих людей болеет душой. Особенно важно, что майор очень заботится об их росте.
К Юспину, как старшему товарищу, приходят его подчиненные поделиться тем, что лежит у них на душе. Как-то в глухую ночную пору раздался осторожный стук в дверь. На пороге показалась знакомая фигура летчика Анатолия Иванова. Он был сбит над Псковом, и день назад партизанские летчики Псковщины перевезли его на По-2 на Большую землю.
– Виталий Кириллович еще не пришел? – тихо спросил он жену Юспина Наталью Федоровну.
– Виталий в полете, через час будет, – улыбаясь, мягко отвечает она. – Посидите.
Днем Иванов уже видел Наталью Федоровну. Она заведует в гарнизоне столовой, успела накормить исхудавшего летчика вкусной пищей. Но сейчас офицер с особым удовольствием принял ее приглашение, ему хотелось рассказать о случившемся. Анатолий поведал Наталье Федоровне, как полтора месяца назад был сбит над целью и как местное население помогло ему пробраться в партизанский край. О судьбе штурмана, стрелка-радиста и воздушного стрелка он ничего не знал. Возможно, погибли.
– Ничего не поделаешь – война! Но надо мстить за погибших товарищей, – говорил Анатолий, сжимая большие крепкие кулаки.
Когда пришел Виталий Кириллович, он сказал летчику несколько простых сердечных слов, посоветовал, кого взять в свой новый экипаж.
В конце лета сорок третьего года на базе нашего полка, куда были прикомандированы новые экипажи, был создан 109-й бомбардировочный полк. Командиром нашего полка стал Василий Алексеевич Трехин, 109-го – майор Юспин. Оба полка вошли в 48-ю дивизию. Виталий Кириллович попросил, чтобы штурманом в часть был назначен [111] его воспитанник – Федя Неводничий. Просьба его была удовлетворена.
И когда Юспин уходил из части, летчики, прошедшие с ним два года войны, говорили:
– Жаль, очень жаль, товарищ командир, что покидаете нас… Но мы будем вам писать… Желаем больших успехов на новой должности.
* * *
До конца Отечественной войны Юспин командовал полком. После войны он успешно окончил Академию Генерального штаба Советской Армии. В течение пятнадцати лет был на разных командных должностях. Ему было присвоено звание генерал-майора авиации. К его военным наградам прибавилось еще несколько орденов, полученных Виталием Кирилловичем за успехи в боевой подготовке летчиков.
Сравнительно недавно Виталий Кириллович Юспин по состоянию здоровья был уволен из рядов Советской Армии. Он живет с Натальей Федоровной в Москве на проспекте Вернадского. Их уютная квартира стала постоянным местом встреч однополчан – участников войны. [112]
Штурманское счастье
Брезжил рассвет. В бледной голубизне зимнего неба одна за другой исчезали тускло светившиеся звезды. Золотом загорался восток. По широкому летному полю, покрытому тонким слоем снега, пробежал и зарулил на стоянку бомбардировщик – это очередной корабль нашей части вернулся с боевого задания. Один за другим приземлялись самолеты.
Напряженный многочасовой налет на военно-промышленные объекты в столице Восточной Пруссии – Кенигсберге – закончился. Авиаторы покидали кабины машин и шли на командный пункт, чтобы доложить о результатах своего нелегкого труда. В этом полете отличился штурман экипажа Героя Советского Союза капитана Иконникова Петр Шевченко. Прямым попаданием бомб он уничтожил на железнодорожном узле эшелон с боеприпасами. Взрыв был такой огромной силы, что его отчетливо видели не только наши экипажи, но и летчики других полков, находившихся на большом удалении от Кенигсберга.
В землянку, где расположился командный пункт, воины экипажа Иконникова вошли с шумом и веселым говорком. Впереди шествовал небольшого роста, плотного телосложения капитан Иконников, за ним – длинный худой Шевченко. Летчики давно окрестили их Патом и Паташоном. Замыкали шествие круглолицый старший сержант стрелок-радист Лисица и худощавый, с бледным лицом, воздушный стрелок старшина Мельник. Подойдя к командиру полка, Иконников доложил:
– Товарищ подполковник, экипаж выполнил боевое задание, материальная часть самолета в порядке!
– По какой цели бросали бомбы? – спросил командир.
– По железнодорожному узлу. [113]
– Ваше время удара?
– Бомбили мы в ноль часов сорок одну минуту.
– Так, значит, это вы взорвали эшелон с боеприпасами? – с удовлетворением заметил начальник штаба полка майор Погорецкий. [114]
– По всему видно, что мы, – вступил в разговор Шевченко. – Вот по этой точке, – он вынул из планшета план Кенигсберга, – я бросал бомбы. И время взрыва совпадает с моим сбрасыванием.
– Сразу видна работка Пата и Паташона! – зашумели вокруг летчики.
– Молодцы! – сказал командир и крепко пожал руку летчику и штурману.
Иконников и Шевченко отошли от стола командира, уселись на дощатых нарах. И сразу же их обступили товарищи. Каждому хотелось поздравить умелых и мужественных воинов с победой. А когда страсти улеглись, к Петру Шевченко подошел штурман Рыбаков. Я слышал. как он, не скрывая зависти, сказал:
– Правильно говорят, что штурману одного умения мало. Он должен быть еще и «счастливчиком»… Видно, и впрямь ты «счастливчик», Петро.
– Ну и хватил же ты, Илья, – спокойно, но в тон товарищу отвечал Шевченко. – «Счастливчик!» Кому-кому, а тебе-то пора усвоить простую истину, что штурманское умение и штурманское везение – одно и то же. Без первого не может быть второго, и наоборот, если везение придет к неумелому, – грош цена этому везению.
Шевченко говорил, что бомбардировщик может атаковать цель в идеальную погоду без противодействия зенитных средств противника, но все-таки достаточно допустить самую незначительную ошибку в расчетах, чтобы бомбы упали «в районе цели». Шевченко тут же заявил, что не любит этого термина: «район цели». У него на этот счет твердое убеждение. Штурман, бомбы которого падают «в районе цели», – плохой бомбардир. Бомбы должны падать только на заданный объект.
С мнением Шевченко соглашались стоявшие тут же летчики, штурманы. Большинство сходилось на одном: штурманская профессия – сложная и потому-то штурмана справедливо называют мозгом воздушного корабля. Ведь ему в полете приходится делать так много, что иной раз становится неясно, как может справиться со всем этим один человек.
Штурман выполняет в полете сложные навигационные и бомбардировочные расчеты, измеряет силу и направление ветра, которые крайне необходимы для выполнения точного по месту и времени самолетовождения. Он [115] неустанно ведет ориентировку, следит за воздушным пространством и, если необходимо, ведет пулеметный огонь по истребителям противника и по наземным целям. Случается, когда летчик ранен или вдруг откажет в воздухе основное управление самолетом, штурман в своей кабине садится за запасное управление бомбардировщиком и продолжает вести его на аэродром посадки.
В районе цели, особенно когда до нее остается несколько километров, склонившись над окуляром прицела, он занимается боковой наводкой воздушного корабля на объект удара – упрямо «ловит» цель до тех пор, пока она не окажется на курсовой черте прицела, не придет в перекрестие его. Штурман, учитывая каждый градус и каждую секунду, командует летчику: «Вправо два градуса!» или «Влево три!», «Скорость 280!», «Так держать!», и летчик, повинуясь этим и другим командам штурмана, строго выдерживает прямолинейный полет машины до тех пор, пока не услышит долгожданное слово «Сбросил!». Бомбы одна за другой устремляются вниз. Они за несколько секунд прочерчивают в воздухе свою траекторию и взрываются на земле. И вот за эти двадцать, тридцать, сорок секунд (величина зависит от высоты полета) выяснится, точен ли был в своих расчетах штурман, потому что главная задача его – поразить цель, и все то, что он делал до этого, подчинено выполнению конечной задачи.
В этом горячем споре о штурманской профессии, мастерстве и мне пришлось сказать несколько слов.
– Один старший штурман, летавший много лет, как-то сказал мне, – вставил я, – что ум у штурмана должен быть пытливым, мысли – острыми, характер – упрямым, [116] а глаза – такими, чтобы они одновременно видели и вперед, и назад, и вверх, и вниз.
Многие авиаторы приняли это как должное, а некоторые с иронией. Летчик Шевелев не удержался, выпалил:
– Значит, у меня Иван Кутумов и швец, и жнец, и на дуде игрец!
– Выходит, так, – ответил я.
Шевченко, кивнув мне в знак согласия, серьезно сказал:
– К изречению старого штурмана нужно только добавить, что настоящий штурман, кроме того, должен завести хорошую систему в своей работе. Если этой системы не будет, то какой прок от пытливого ума и упрямого характера?
Разговор, завязавшийся между Рыбаковым и Шевченко, постепенно утих. Экипажи покидали командный пункт, спешили в столовую, а потом на отдых. А у меня почему-то так и засела в голове фраза, сказанная Шевченко: «Завести хорошую систему в своей работе». Да, у Петра Тарасовича эта система как раз и состоит в том, что он научился обычную работу штурмана выполнять с той предельной аккуратностью, которую можно было бы назвать автоматической, если бы она не была инициативной. Многое штурман должен делать автоматически, не затрачивая лишнего времени на обдумывание элементарных истин. Но у Шевченко этот автоматизм не носит постоянного и неизменного характера. Переправа через реку, железнодорожная станция, забитая составами, – разные цели. И плох тот штурман, который при полете на переправу будет делать все так же, как он делал это при ударе по эшелонам на станции.
Штурманская профессия – творческая. Когда мы вместе с Шевченко шли с аэродрома в столовую, он так и расшифровал свой термин «хорошая система в работе». По его мнению, это – творческий автоматизм.
– Разумеется, этот творческий автоматизм должен быть в равной степени присущ и летчику, и штурману, – говорил Шевченко. – Атака целей ночью с больших высот – самый сложный вид бомбометания. И здесь особенно нужно то взаимопонимание, то обоюдное знание сильных и слабых сторон каждого члена экипажа, которое называют слетанностью.
На наших глазах рос и мужал этот экипаж. Штурман [117] Шевченко и летчик Иконников пришли к высокому мастерству, к идеальной слетанности через упорный труд. Свою систему работы Шевченко приноравливал к летному мастерству Иконникова, но в воздухе – на маршруте и на подходе к цели – он считал себя хозяином, и все его требования летчик выполнял беспрекословно. Система Шевченко рождалась и росла в полетах, проверялась в бою.
Однажды капитану Шевченко пришлось бомбить скопление войск и техники в районе города Ржев. Самолет лег на боевой курс, и Шевченко, ловя в прицел уползающую в сторону цель, скомандовал:
– Доверни два влево!
Иконникову показалось мало, и он довернул на три градуса, но цель по-прежнему отходила от курсовой черты. Тогда штурман сказал: «Еще немного». Теперь уже запротестовал Иконников, ему казалось, что Шевченко переборщил с доворотами, и он ответил: «Хватит доворачивать!» Штурман, однако, продолжал настаивать, и летчику пришлось все-таки довернуть, хотя про себя он по-прежнему думал, что Шевченко неправ. Бомбы пошли вниз, и штурман сразу понял, что многие из них в цель не попадут. Но почему цель плохо держалась на курсовой черте и все время норовила уйти в сторону?
Ответ на вопрос пришел после второго полета. Оказалось, что при первом вылете штурмана подвела сначала излишняя старательность летчика, а позже – некоторая нерешительность. Иконников, приняв команду Шевченко, разворачивал машину на боевом курсе слишком медленно. Из-за этого самолет разболтался, и выдерживать прямолинейный полет Иконникову было трудно.
– Какой же мы сделаем из этого вывод, Володя? – спросил Шевченко летчика после того, как они приземлились и зарулили на свою стоянку. – Теперь-то я понимаю: цель не удержалась на курсовой черте, и потому бомбы пошли в сторону.
– Вывод нам нужно сделать такой, – сказал Иконников, – доворачивать самолет нужно координированно и, главное, энергично.
– Правильно, – согласился Шевченко, – без лишней резкости, но достаточно энергично, чтобы машину сразу поставить на боевой курс. Тогда и бомбы угодят точно в цель. [118]
– Так, – подтвердил Иконников. – Но давай еще об одном договоримся: будешь доворачивать меня на объект удара только одним доворотом. Два доворота – это уже в редких случаях.
Это требование летчика заставило Шевченко призадуматься. Иконников был, несомненно, прав: чем меньше доворотов, тем меньше «разбалтывается» машина, тем больше будет вероятность попадания. Но, с другой стороны, очень трудно сразу дать летчику правильный курс, одной командой поставить бомбардировщик таким образом, чтобы цель прочно удерживалась на курсовой черте прицела. Боковая наводка – самое сложное дело, и добиться ее с одного доворота вообще не так-то легко.
Еще на маршруте, задолго до выхода на боевой курс, Шевченко, промерив силу и направление ветра, обязательно предупреждал летчика, куда будет на боевом курсе сносить самолет. Иконников мог заранее рассчитывать свои действия и предположительно в уме прикинуть, на сколько градусов ему придется доворачивать машину. И летчик, и штурман настолько хорошо изучили друг друга, что каждый из них понимал товарища буквально с намека.
В одну из боевых ночей нашему полку была поставлена задача бомбардировать железнодорожный узел Гомель. Задача была трудной: узел защищался огнем 15-20 зенитных батарей. Плотность огня довольно большая. Чтобы нанести эффективный удар и самим не понести потерь, экипажам нужно было точно выйти на объекты, произвести правильный и своевременный противозенитный маневр и находиться на боевом курсе самое короткое время.
Перед вылетом Шевченко договорился с Иконниковым о всех деталях действий на боевом курсе. Не доходя до цели 30-40 километров, штурман дважды промерил ветер и тут же передал командиру:
– Сносить нас будет влево, угол десять градусов.
– Понял, снос влево десять, – отозвался Иконников и тут же удовлетворенно отметил про себя, что его штурман хорошо знает свое дело, всегда спокоен и смел в полете. Он давно летает с Шевченко и привык к его системе, привык к мысли, что его боевой штурман никогда ничего не забывает, в воздухе никогда не жалуется на [119] объективные условия, и все-таки ему было приятно каждый раз убеждаться в этом вновь.
При налете на железнодорожный узел Гомель нашему экипажу пришлось выполнять роль осветителя и контролера. С трехминутным интервалом мы шли с капитаном Рыцаревым в голове колонны бомбардировщиков. Зайдя с наветренной стороны, я сбросил сразу десять осветительных бомб. Через тридцать секунд взрыватели сработали – и десять факелов повисли над городом. Железнодорожный узел был виден как на ладони. На нем находилось более двенадцати составов. Как-то неожиданно вспыхнули прожекторы, заработали зенитки.
Мы с Рыцаревым с набором высоты ушли в сторону от объекта удара и стали наблюдать за бомбометанием экипажей. Вот на путях разорвалась первая серия. Несколько бомб угодили в какое-то здание – вспыхнул большой пожар.
– Молодцы Иконников с Шевченко, действуют как по заказу, – кричит Рыцарев. – Приказано ударить в один час пять минут, и они тут как тут.
За первым экипажем сбросили бомбы второй, третий… пятый… И снова зажглась над целью «люстра» осветительных бомб. Их мастерски «повесил» штурман Степан Анисимов. Опять и опять посыпались фугаски. Они рвутся на станции. В 1 час 09 минут серия бомб угодила в один из составов. И тут же в воздух взметнулся огромный столб огня.
– Хорошо ударил! – громко произнес Рыцареи.
– Две серии с недолетом южнее цели. Бомбы рвутся в торфяном болоте, – подал голос радист Пузанов.
– Вижу, Сергей. Время 1 час 13 и 1 час 14 записал, – ответил я радисту.
Для третьей эскадрильи условия бомбометания значительно облегчились. Большие пожары на узле давали хороший ориентир и, следовательно, надежную точку прицеливания. И почти все серии бомб, если не считать небольших отклонений, падали на путевое хозяйство железнодорожного узла.
После полета летный состав собрался в землянке. И опять, как в то памятное утро, когда полк наносил удар по Кенигсбергу, героем дня был экипаж Владимира Иконникова. Да не только он, но и экипажи Бориса Кочнева, [120] Дмитрия Бобова, Сергея Карымова ударили прямо по узлу, нанесли большой урон противнику. А штурман экипажа Брысева Василий Селин угодил в состав с боеприпасами.
– Это Петро Шевченко нам помог, – точно в свое оправдание говорил Селин. – Вижу: пожар на узле, ну и прицелился как надо…
– Да и осветители не подкачали, – добавил капитан Брысев.
Поодаль стоял со своим донесением штурман Рыбаков. По всему видно было, что он чем-то недоволен. «Неужто Рыбаков запустил серию в торфяники?» – подумал я.
– Что повесил голову, Илья? – желая выяснить, в чем тут дело, спросил я.
– Так, не везет мне, старший штурман полка, – начал он. – Наверное, с углом сноса подпутал?
Я взял бортжурнал и стал проверять его записи, расчеты. Время удара у него отмечено в 1 час 14 минут. Величина угла сноса записана «– 4 градуса».
– Ого! – вырвалось у меня. – Да ты и впрямь основательно напутал: угол прицеливания у тебя с большой ошибкой, вместо того чтобы взять угол сноса 10 градусов, ты берешь его величиной в 4 градуса. От таких прицельных данных ничего хорошего ожидать нельзя.
К нашему разговору присоединился капитан Шевченко. Улыбаясь, он сказал:
– Что, Илья, опять тебя покинуло счастье?
Рыбаков ожидал такого вопроса, и тут он твердо, как мне показалось, от чистого сердца, заявил:
– Беру свои слова обратно насчет «везения», «счастливчика». Ты у нас, Петро, настоящий бомбардир-снайпер!
Да, вряд ли теперь кто-нибудь скажет, что Шевченко – просто «счастливый штурман», что ему просто везет. На всякое везение нужно свое умение, а Петру Тарасовичу как раз и «везет» потому, что имеет он упорный характер, большой запас выдержки и спокойствия и хорошую привычку никогда не проходить мимо самой малой своей ошибки. В этом и заключается секрет его штурманского счастья.
В Шевченко действительно счастливо сочетался пытливый [121] ум прекрасного навигатора и бомбардира с зорким глазом воздушного бойца. Именно поэтому на его счету более 250 успешно выполненных боевых вылетов. За мужество и отвагу в борьбе с фашистскими захватчиками он награжден пятью орденами и многими медалями Советского Союза. [122]
Ровесник армии
Командир тяжелого воздушного корабля летчик Антон Шевелев родился 23 февраля 1918 года. Он ровесник Советской Армии. Вместе с ней он встал на защиту Родины от нашествия немецко-фашистских захватчиков и бесстрашно сражался с врагом, нанося ему мощные бомбовые удары. За проявленное мужество и отвагу Шевелеву было присвоено звание Героя Советского Союза.
Жизнь его проста и обычна: учеба в средней школе и школе гражданских летчиков, а потом – многочисленные полеты по дальневосточным воздушным трассам. Работая в иркутском и свердловском отрядах Гражданского воздушного флота, Шевелев налетал более тысячи часов. Он перевез в далекие таежные поселки и на строительные площадки множество пассажиров и тяжеловесных грузов.
В первый год Отечественной войны Антон Шевелев прибыл в наш полк вместе с группой летчиков Гражданского воздушного флота и сразу же приступил к изучению самолета, воинских документов, к освоению техники пилотирования бомбардировщика. Инструктор Николай Рыцарев, сделав с Шевелевым несколько полетов по кругу и в зону, удовлетворенно сказал:
– Можете лететь на боевое задание.
Лейтенант Шевелев встретился в части со штурманом Иваном Кутумовым. Оба офицера имели хорошую подготовку, огромное желание бить ненавистного врага. Как-то сразу они подружились и попросили у командира полка разрешение летать на задание в одном экипаже. Их просьба была удовлетворена. Радистом в экипаж был назначен старший сержант Бондарец, воздушным стрелком – сержант Воронцов. [123]
Хорошо запомнился воинам первый боевой полет. 23 июля 1942 года экипаж вместе с летчиками полка вылетел бомбить железнодорожный узел Круспилс. Ночь была ясная, лунная. Шевелев уверенно пилотировал бомбардировщик. До цели оставались считанные минуты, когда летчик и штурман заметили вдали мчавшихся навстречу с зажженными фарами пару истребителей противника.