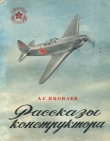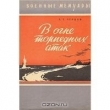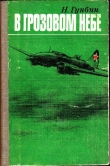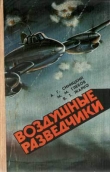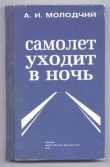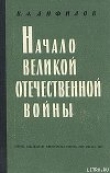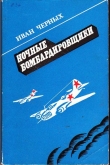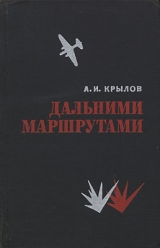
Текст книги "Дальними маршрутами"
Автор книги: Алексей Крылов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
– Что, Анатолий Васильевич, выбрались уже из темной мути? – спросил я.
– Да, первая трудность позади, теперь можешь и к курсу придираться, требовать выдерживать его градус в градус, – полушутя-полусерьезно отвечал Иванов.
– Как с профилем дальнейшего полета?
– Пойдем до Карпат с набором. Всему экипажу приготовить кислородные маски.
Вскоре Дегтярев доложил, что идущие за нами экипажи благополучно пробились вверх. Иванов тотчас же распорядился: «Всем, всем до Карпатских гор следовать с набором высоты. Скорость подъема один метр в секунду».
Прошло два с лишним часа полета. Высота более 6000 метров. Температура наружного воздуха минус 18 градусов. Над нами звездное небо. По-прежнему занимаюсь определением навигационных данных, расчетами и вычислениями. Снимаю с радиополукомпаса пеленги, в свою очередь получаю от радиста пеленги наземных пеленгаторов и все это записываю в бортовой журнал, наношу на карту. Потом сравниваю, уточняю, исправляю неточности в определениях, стараюсь возможно ближе к [175] намеченной на карте линии пути вывести свои самолет. В моей кабине ярко светятся циферблаты навигационно-пилотажных приборов, стрелки которых блестят белыми тонкими полосками. Картушка компаса равномерно колеблется: полтора-два градуса вправо, полтора-два влево – самолет идет строго по прямой.
Недалеко уже и Карпатские горы. Но кругом по-прежнему облака, и нигде не видно ни одного пятнышка, ни одного разрыва. Что будем делать, если они и по ту сторону гор сплошной стеной закрывают землю? Как тогда найти цель? Вся надежда на то, что прогноз синоптиков оправдается, русло Дуная в районе цели будет открытым.
– Через пять минут Карпатские горы, – сообщаю я экипажу.
– Дегтярев, – вызывает командир радиста, – передай на землю последнюю радиограмму: «Подходим к Карпатам, в строю двадцать четыре. Боевой приказ будет выполнен!»
– Есть, передать на землю! – отчеканил радист.
По расчету времени под нами должен быть хребет Карпат. Напрягаю зрение, силюсь увидеть что-либо. Вскоре слева от нас на белом облачном пространстве показалась какая-то темная полоса. Ну, так и есть. Это в разрывах видны отдельные очертания гор.
Полоса гор, тянущаяся слева от самолета, подходит все ближе к нам. Теперь уже отчетливо видны отдельные вершины и на дальних южных склонах – мерцающие огоньки редких селений.
Надо торопиться, произвести промер ветра. Прильнув к окуляру прицела, ловлю впереди по курсовой черте светящуюся точку. Минута, другая – снимаю величину угла сноса. Потом рассчитываю путевую скорость, направление, скорость ветра и угол прицеливания. Теперь у меня есть все данные для точного сбрасывания осветительных бомб!
За Карпатами облачность постепенно рассеивается, но земля просматривается еще плохо. Приходится вести корабль главным образом по расчету времени и магнитному компасу. Но вот показалась и граница облачности. Внизу чернеет земля, и на всем этом темном фоне поблескивает, вьется могучий Дунай.
– Впереди в двадцати километрах по курсу – Будапешт! – сообщаю я экипажу. И тут же прошу Иванова: [176] – Подержи, Анатолий, курс, хочу поточнее определить угол сноса в районе цели.
Уцепившись за какую-то световую точку, командир повел самолет строго по прямой. Когда эта небольшая процедура была закончена, Иванов, помигав сигнальной лампочкой, громко, чтобы весь экипаж хорошо слышал, сказал:
– Всем глядеть в оба!
Все ближе и ближе подходим к Будапешту. Мы уже отчетливо видим вспыхнувшие над целью светящие бомбы, десятки оживших прожекторов. Но прожекторы беспорядочно рыщут в пространстве: никакого контакта, никакой взаимосвязи в действиях. Тем лучше для наших экипажей. Зенитчики ведут огонь больше по светящим факелам, чем по бомбардировщикам.
Прильнув к прицелу, отчетливо вижу всю наземную обстановку. Первые полки, прилетевшие сюда раньше нас, уже сделали свое дело: в районе Западного вокзала и на территории главных мастерских железной дороги полыхали пожары. Хорошо виден мне и огромный мост через Дунай, а чуть левее моста на берегу реки наша цель – военный завод.
– Курс 190 градусов! – командую я.
– Есть 190! – отвечает летчик.
Где– то совсем рядом рвутся зенитные снаряды. Один, потом другой прожектор скользнули по крылу самолета, но почему-то не стали задерживаться, ушли в сторону.
– Так держать! – кричу я и тут же нащупываю боевую кнопку. Вот цель вошла в перекрестие прицела, и я с силой нажимаю на кнопку. Вниз полетели первые три бомбы с наружной подвески и осветили цель. Вслед за мной повесил над целью десять факелов капитан Хорьков.
– Отлично! – разворачивая самолет на второй заход, говорит Иванов. – Только бы не подкачала молодежь.
Первыми сбросили бомбы экипажи летчиков Захарова, Редунова, Федорова и Пинкина, и на территории завода возникли два крупных пожара. Но вот в 01 час 49 минут по центру завода ударил штурман экипажа Юмашева лейтенант Гацук. И тут же к небу поднялся огромных размеров столб дыма и огня.
– Есть! – крикнул радист Дегтярев. – Прямо в завод кто-то угодил. [177]
Когда мы снова зашли на боевой курс, в воздухе догорали последние «люстры». Бомбить с таким освещением становилось трудновато. Но тут мы сбросили еще десять светящих бомб, и над газовым заводом стало по-прежнему светло, как днем. Экипажи Воробьева, Казанцева, Кузнецова, Гавриленко, Кротова, Никольского один за другим прицельно сбросили бомбы, довершив начатое первыми экипажами полка.
. С каждой секундой обстановка в воздухе накалялась. Прожекторы все чаще и чаще стали ловить самолеты, давая зенитчикам возможность вести огонь по освещенной точке. Но наши летчики уходили в сторону от зенитного огня. Тут и там бомбардировщики вели бои с ночными истребителями противника.
Самолет лейтенанта Кротова был схвачен сразу десятью прожекторами. Подоспевший истребитель противника хотел было разделаться с экипажем. Лейтенант резко маневрировал, входил в пикирование, но ему никак не удавалось выбраться из лучей прожекторов. В самый, казалось, критический момент, когда истребитель, уже зайдя в хвост бомбардировщику, хотел с близкой дистанции расстрелять смельчака, радист и воздушный стрелок заметили «мессершмитта» и опередили его длинными трассами пуль и снарядов. Фашист шарахнулся в сторону и больше не пытался атаковать бомбардировщик.
Военные объекты Будапешта были охвачены пожарами. Но к городу с северо-востока подходили все новые и новые группы самолетов. Все новые серии бомб рвались в разных частях венгерской столицы, где расположены военно-промышленные объекты. А наше время пребывания над целью истекло. Иванов разворачивает самолет и держит курс в сторону Карпат.
Истекал шестой час полета. Попутный ветер помогал нам на обратном пути. В кабинах корабля тишина, каждый занят своим делом. Нарушил молчание Дегтярев.
– Докладываю: двадцать три машины приземлились на своем аэродроме.
– Сообщи на КП: через семь минут мы тоже будем дома, – вставил я.
Как– то повелось у нас в части: летные экипажи не расходятся с командного пункта до тех пор, пока не увидят среди себя лидера. Каждому хочется услышать оценку своего труда, получить замечания. Вот и сейчас: мы [178] еле успели переступить порог землянки, как боевые друзья забросали нас вопросами:
– Ну, как бомбежка?
– В час сорок девять минут видели взрыв?
– Здорово ведь досталось фашистам?
Иванов подтолкнул меня вперед. Я докладываю подполковнику Трехину:
– Товарищ командир, полк в составе двадцати одного экипажа боевую задачу выполнил успешно. Все экипажи прорвались через завесу прожекторов и трассы зенитного огня и сбросили бомбы на заданные им объекты. На земле возникло шесть больших пожаров, а в один час сорок девять минут возник взрыв огромной силы. Некоторые экипажи над целью вели воздушные бои с ночными истребителями врага.
– Стойко держалась в бою молодежь, – дополнил меня Иванов.
– Самолет Кротова получил девять пулевых пробоин, – вставил инженер полка Прокофьев.
– И машина Пинкина – семь! – крикнул кто-то из дальнего угла землянки.
– Это ему аванс за первое знакомство с «вражьим логовом», – в шутку бросил капитан Федоров.
Летчики засмеялись. Но когда командир поднял руку, в землянке сразу же стихло.
– В целом полет полка оцениваю «отлично». Всем участникам налета на Будапешт объявляю благодарность, – довольным голосом сказал Трехин. Достав из планшета бумагу, он продолжал: – Получен приказ: в ночь на 15 сентября произвести повторный удар по военно-промышленным объектам венгерской столицы. А сейчас – на ужин и заслуженный отдых.
…Ровно через сутки мы снова летим на Будапешт. Условия погоды точно такие же, как и в первый полет. Еще в начале маршрута все экипажи пробили облака вверх и над ними шли в сторону Карпат. Такой маневр намного облегчал работу экипажей, сохранял их силы и энергию для удара по цели. А это было необходимо, так как противник после первого налета нашей авиации значительно усилил противовоздушную оборону города. Прожекторы, зенитные орудия, видимо, были стянуты сюда с других участков. [179]
Чтобы обезопасить действия бомбардировщиков над целью, командование нашей дивизии приняло решение: часть самолетов снарядить для выполнения только одной задачи, связанной с подавлением противовоздушной обороны противника. Экипажи таких машин должны были с ходу атаковать вражеские зенитки, прожекторы, облегчая действия основных сил.
Особое внимание было обращено на оборону самолета в воздухе. Ночью, как известно, экипажу приходится самому отбивать атаки врага, не надеясь на соседа. Поэтому каждый член экипажа, и в первую очередь радист и воздушный стрелок, должен быть бдителен и инициативен. Перед полетом, имея необходимые разведывательные данные, мы рассказали воздушным стрелкам о характере построения обороны Будапешта и о тактике ночных истребителей. При этом напомнили, что враг, как показал прошлый полет, пускается на всевозможные хитрости и уловки: фашистские истребители, пытаясь ввести в заблуждение наши экипажи, летали на встречных и попутных курсах с зажженными бортовыми огнями. Рыская за бомбардировщиками, они атаковывали самолеты снизу в лучах прожекторов и вне их. После первой атаки они выключали огни и пытались производить атаку сверху. Только непрерывное и бдительное наблюдение за воздушной обстановкой позволяло нашим экипажам своевременно осуществлять необходимые маневры, уходить от противника.
На этот раз в Будапеште от пожаров и светящих бомб было светло, как днем. В то время, когда основные силы бомбардировщиков нашего соединения наносили удары по военным объектам города, многие самолеты с некоторым упреждением выполняли задачу подавления средств противовоздушной обороны. Успешно действовали экипажи бомбардировщиков Федорова, Касаткина, Юмашева. Первый из них погасил два прожектора. Второй смело атаковал огневые позиции зенитной артиллерии на правом берегу Дуная. Третий блокировал зенитные пушки, которые вели обстрел с острова.
Наш экипаж помимо освещения объектов удара вел контроль результатов бомбардирования. Мы зарегистрировали много прямых попаданий как наших экипажей, так и соседних в важные военные объекты города.
Дальние бомбардировщики, успешно отбивая атаки фашистских [180] истребителей, преодолевая огонь зенитной артиллерии, пробиваясь через световые прожекторные поля, нанесли еще один чувствительный удар по врагу.
…Не прошло и суток, как полк получил задачу нанести удар по Дебрецену – важнейшему железнодорожному узлу Венгрии. Через него сплошным потоком проходили военные грузы на фронт. Необходимо было на какое-то время разбить этот узел пяти дорог, закупорить важную артерию противника и таким образом способствовать развитию наступления наших войск.
При постановке задачи внимание членов экипажей обращалось на то, чтобы как можно лучше вести прицеливание, не допускать выхода бомб за пределы железнодорожного узла. Летчики и штурманы наносили на карты места расположения артиллерийских батарей, намечали рубежи, откуда следовало начинать противозенитный маневр.
На этот раз лидером осветителей был назначен командир третьей эскадрильи майор Уромов со штурманом Хорьковым, два других осветителя – экипажи Иконникова и Касаткина. Мы с Анатолием Ивановым возглавляем эшелон бомбардировщиков.
Все мы хорошо понимали, какая ответственность возлагается на каждый экипаж. В безлунную ночь очень трудно выйти к Дебрецену. Возле него нет заметных ориентиров, если не считать железных и шоссейных дорог, которые с воздуха трудно обнаружить. Мало того, по соседству с Дебреценом находится другой, очень похожий на него, пункт – Сату-Маре. Ошибись штурман лидера в расчетах, и немудрено принять этот пункт за Дебрецен.
Особенно недопустимо было ошибиться нашему экипажу. Сбрасывая первыми зажигательные бомбы, мы с капитаном Ивановым должны были дать идущим за нами бомбардировщикам хорошо видимую с воздуха точку прицеливания. Чтобы добиться этого, мне пришлось на карте крупного масштаба заранее проложить линию боевого курса, произвести много навигационных и бомбардировочных расчетов. В районе цели я точнейшим образом измерил силу и направление ветра, для заданной высоты бомбометания рассчитал угол прицеливания. [181]
Наш экипаж подходил к цели в то время, когда штурман Хорьков уже сбросил первую серию САБов. Вражеские зенитчики открыли по ним ураганный огонь. Нам оставалось лететь до узла считанные минуты, как вдруг мы услышали тревожный голос воздушного стрелка Кораблева:
– Снизу сзади вижу самолет, – доложил он.
Иванов приказал Кораблеву и Дегтяреву продолжать наблюдение и опознать самолет. Секунд через пятнадцать стрелок доложил, что ясно видит двухкилевой вражеский истребитель.
– Под нами сзади «Мессершмитт-110», – подтвердил Дегтярев.
Как– то сразу смолкли зенитки. И тут же, словно по команде, наши стрелки первыми открыли огонь по истребителю. Враг опасливо огрызнулся -справа от нас прошло несколько разноцветных трасс. Одновременно Иванов осуществил несколько сложных эволюции и истребитель потерял нас из виду.
– Продолжать наблюдение! – крикнул командир и, как будто ничего не случилось, как по линеечке, повел корабль боевым курсом. Я быстро прицелился и нажал на боевую кнопку. Десять бомб одна за другой отделяются от самолета. Вот они рвутся в центре узла прямо в гуще воинских эшелонов. Возник один, потом другой пожар.
– Загорелось! Большой пожар! – кричит сержант Кораблев, которому сквозь открытый нижний лючок видно все, что делается на земле.
И вслед за нашими одна за другой ложились на железнодорожный узел серии зажигательных и фугасных бомб других экипажей. Пожаров на цели становилось все больше и больше. В воздухе все чаще и чаще появлялись огненные трассы. Глаза были прикованы то к одной, то к другой стороне, где небо сверкало разноцветными пучками пуль и снарядов.
– Горит, горит! – крикнул Дегтярев. – Слева от нас падает горящая машина!
Большим метеором, разбрызгивая в стороны огненные клочья, падал на землю самолет.
– Не наш ли? – вырвалось у стрелка Кораблева.
– Гадать будем после! – сердито сказал Иванов. – А сейчас продолжать смотреть в оба. [182]
Удар наших бомбардировщиков по железнодорожному узлу был сокрушительным. Но наше хорошее настроение омрачало то, что на аэродром не возвратился экипаж младшего лейтенанта Кукушкина.
Все сходились на том, что самолет Кукушкина был подожжен ночным «мессером». И теперь нас волновало одно: успел ли экипаж выброситься из горящего самолета с парашютами?
Ко второму полету на Дебрецен летный состав готовился тщательнее. Всем хотелось учесть печальный урок прошлой ночи, лучше подготовиться и отомстить за воинов экипажа Кукушкина. И, видимо, поэтому налет на железнодорожный узел и нашего, и соседних полков был особенно сильным. Бомбардировщики, запутывая противовоздушную оборону врага, подходили к цели с нескольких направлений. Разрывы зажигалок и фугасок были настолько частыми, что глаз не успевал за ними уследить.
Как и в первый налет на Дебрецен, в небе рыскали вражеские истребители. Они встречали нас и на маршруте, и на подходе к цели, и над ней. Но помешать выполнению боевой задачи они не смогли. [183]
Горела прусская земля…
Фронт стремительно уходил все дальше на Запад. Ежедневно к нам на тыловые аэродромы приходили радостные волнующие вести: советские войска, взламывая оборону противника, форсируют реки и каналы, занимают все новые и новые промышленные районы и города.
Вот и сегодня утром, 10 апреля, радио принесло радостное известие: советские войска штурмом овладели городом и крепостью Кенигсберг! В информации говорилось: «Остатки кенигсбергского гарнизона во главе с комендантом крепости генералом от инфантерии Ляшем и его штабом 9 апреля 1945 года прекратили сопротивление и сложили оружие. Пал Кенигсберг – очаг пруссачества, острие, направленное в сердце славянства, столица прусского духа, идеологии подлых захватов…»
Наш полк базировался тогда на одном из аэродромов Польши. Отсюда по окруженной фашистской группировке в Восточной Пруссии мы совершили десятки налетов. Вот и сегодня шла интенсивная подготовка самолетов к очередному вылету на Кенигсберг, как вдруг был объявлен «отбой». После этого летчики и технический состав без каких-либо предупреждений стали собираться возле командного пункта. Вскоре сюда пришли начальник штаба полка майор Погорецкий и заместитель командира по политчасти майор Малышев. Оба они были в превосходном настроении, улыбаются.
– Вижу, ждете добрых вестей? – приветствуя собравшихся, заговорил Погорецкий.
– Теперь все вести добрые, – в тон начальнику штаба ответил летчик Юмашев.
– Правда, что гарнизон Кенигсберга сдался? – нерешительно спросил техник-лейтенант Касаткин. [184]
– Да, Кенигсберг пал! – ответил майор и добавил: – И снова русские солдаты дали по зубам псам-рыцарям!
Я стоял недалеко от Погорецкого и видел, как радостно засияли лица воинов, послышались восторженные возгласы: «Пришел конец пруссачеству!», «Наши снова проучили тевтонских рыцарей!» А вездесущий воздушный стрелок Альфред Ашкинезер старался запечатлеть на пленку фотоаппарата, как он говорил, «яркие сценки полковой жизни». Он к тому же и храбрый воин. Совершил более 250 боевых вылетов. Четыре раза прыгал с горящего бомбардировщика и все четыре раза невредимым возвращался в свою часть.
Но вот гомон стих, и Погорецкий как-то особенно возвышенно продолжал:
– Битва за Кенигсберг – завершение битвы за Восточную Пруссию. В ней сказалось торжество нашей стратегии. Это была смелая и искусная операция. Подумайте сами: лишь в начале января части Красной Армии вторглись в Восточную Пруссию, а уже 26 января комбинированными ударами с востока, юга и севера наши войска отрезали всю восточно-прусскую группировку немцев от центральных районов Германии. 15 марта группировка была расчленена, а затем уничтожена в гигантских «мешках». Три дня назад наши войска начали штурм Кенигсберга, а вчера поздно вечером он уже пал.
Погорецкий на минуту смолк, и тут же послышался чей-то голос:
– Можно вопрос?
Это был моторист Сергеев. Не дожидаясь разрешения, он торопливо попросил:
– Я и мои товарищи не знают, что это за город-крепость, какова его история. Нельзя ли сейчас, так сказать, для полноты картины, рассказать нам об этом?
Погорецкий, улыбаясь, повернулся к Малышеву, кивнул ему, словно говоря: «Вот видишь, комиссар, какой у нас любознательный народ». Малышев подошел поближе к воинам и неторопливо начал:
– Кенигсберг – это прежде всего форпост немцев на востоке. История засвидетельствовала, как псы-рыцари, опустошив и уничтожив в 1255 году литовские племена, построили крепость. Они стремились превратить ее в центр своего владычества на Балтике, в центр своего движения на восток. Именно поэтому гитлеровцы придавали [185] особое значение городу-крепости, именно поэтому Гитлер отдавал приказы держаться до последнего солдата.
Укреплению Восточной Пруссии и особенно городу Кенигсбергу немцы уделяли большое внимание и занимались этим делом очень долго. Строительство шло по указаниям германского генерального штаба. Каждый дом, каждое владение прусского помещика представляли собой пункт обороны. По сути дела, Восточная Пруссия была превращена в сплошной массив укреплений. Но, как вы сами знаете, никакие укрепления, возводимые почти семь веков, не смогли остановить победное движение наших войск. Советские воины, преодолевая все на своем пути, стремительно двигались по землям Восточной Пруссии к ее центру – Кенигсбергу, завершив разгром группировки штурмом города-крепости.
Участь Пруссии и Кенигсберга – это участь всей гитлеровской Германии. Уже близко наши войска от Берлина, идут бои в центре Вены – столицы Австрии, находящейся [186] под игом пруссачества, добиваются фашистские гарнизоны и в других городах. Удары, которые наносит Красная Армия, говорят о том, что недалек тот день, когда, вслед за восточно-прусским «мешком», будет ликвидирован и другой «мешок» – вся фашистская Германия, – заключил майор.
И Погорецкий, и Малышев сказали лишь немного о том, как был осуществлен разгром вражеских войск под Кенигсбергом. А мне вспомнилась вся история этой трудной и победоносной битвы. Вспоминались славные дела летчиков, сбросивших на город-крепость сотни тысяч бомб.
…Шла зима сорок четвертого – сорок пятого года. В результате зимнего наступления советских войск в Восточной Пруссии в районе юго-западнее города Кенигсберг была прижата к заливу Фриш Гаф большая группировка немцев. Из газет, из оперативных сводок и сводок Совинформбюро мы знали, что на территории около четырех тысяч квадратных километров в восточно-прусском «мешке» находилось 18 вражеских дивизий с многочисленной боевой техникой. Общение окруженных войск с Германией было возможно лишь через залив Фриш Гаф.
Мы также знали, что войска 3-го Белорусского фронта день за днем сжимали окруженную группировку врага. Прижатый к морю, без всяких шансов на улучшение своего положения, противник с бессмысленным упорством цеплялся за каждый метр территории, ожесточенно оборонялся. Наши летные экипажи были хорошо информированы и о том, что обреченный враг подвергает наши наступающие войска ударам с воздуха силами одного из лучших авиационных соединений гитлеровцев – эскадрой «Мельдерс», и что по насыщенности зенитными средствами небо над Кенигсбергом не уступает небу Берлина.
Но наша дальняя бомбардировочная авиация уже имела достаточный опыт борьбы с воздушным противником и навыки преодоления зон ПВО. Правда, близость моря и влияние весны создавали исключительно неблагоприятные метеорологические условия для боевых действий в воздухе. Однако, несмотря на это, экипажи вылетали на задания и отлично выполняли их. И даже тогда, когда тучи, казалось, нависали над землей, наша авиация не прекращала боевой работы. Штурмовики и бомбардировщики [187] одновременно выполняли задачу непосредственного содействия наступающим войскам и осуществляли удары по коммуникациям противника.
При выполнении первой задачи авиация обычно действовала массированно; причем ее усилия сосредоточивались на тех направлениях, которые играли решающую роль в разгроме противника. В этих боях был с успехом применен метод действий штурмовиков двумя эшелонами. Удары их по пехоте на поле боя и по коммуникациям позволяли парализовать оборону немцев на всю ее тактическую глубину, что мешало противнику маневрировать огневыми средствами.
Бомбардировщики в это время наносили сосредоточенные удары по таким крупным опорным пунктам, как города Цинтен, Прейсиш-Эйлау, Кройцбург, Барштайн. Эти полеты обязательно увязывались с действиями наших наземных войск. Бомбовые удары начинались задолго до подхода частей и соединений непосредственно к опорным пунктам, а заканчивались перед штурмом этих пунктов.
Много сил приходилось затрачивать на то, чтобы изолировать группировку немцев, помешать ей получать пополнения живой силой и боеприпасами из Германии. Нам было известно, что противник пользуется несколькими дорогами, сделанными по льду через залив Фриш Гаф, косой Фриш Нерунг, портом Пиллау, находящимся в северной части косы, и портом Розенберг в заливе. Используя незначительное улучшение погоды, экипажи штурмовиков и бомбардировщиков днем и ночью наносили сосредоточенные удары по этим целям.
Наши наземные войска продолжали сжимать вражескую группировку, выбивая немцев из опорных пунктов. К 1 марта территория, занимаемая противником, сократилась до 900 квадратных километров. Тринадцатого марта соединения и части фронта перешли к решительным боям по уничтожению окруженных войск противника. Наша авиация не позволила гитлеровцам эвакуировать морем всю оставшуюся живую силу и технику. И они продолжали обороняться с ожесточением обреченных.
В это время основные усилия фронтовой авиации были направлены на поддержку двух наступающих полевых армий, остальные войска поддерживались незначительным количеством авиационных частей. Была создана большая массированность ударов на сравнительно небольшой [188] площади. К примеру, в течение всего дня 18 марта бомбардировщики уничтожали войска и технику противника в его опорных пунктах. По каждому такому объекту действовало одновременно по 60-80 самолетов. В интервалах между бомбардировочными ударами по опорным пунктам производили налеты штурмовики, уничтожая живую силу и артиллерию врага. Истребители, сопровождавшие штурмовиков, также принимали участие в бомбардировочно-штурмовых ударах, нанося гитлеровцам ощутимый урон. Одновременно с этим бомбардировщики и штурмовики действовали по плавсредствам в порту Розенберг, в гаванях Фолендорф и Лайзунен, топили суда в заливе Фриш Гаф. За сутки авиация фронта производила от полутора до двух тысяч самолето-вылетов.
Авиационная поддержка наступающих войск позволила сломить сопротивление врага. Он начал отходить. Наши части на отдельных направлениях продвигались до шести – восьми километров в сутки. При содействии авиации наземные соединения 19 марта подошли к городу Брансбергу и завязали бой на его южной окраине. На следующий день город был взят. А еще через несколько дней немцы были выбиты и из последнего крупного опорного пункта – Хайлигенбайль. В руках противника юго-западнее Кенигсберга оставалась прибрежная полоса шириной три-четыре километра и длиной двадцать километров с десятком населенных пунктов.
Картину невиданного разгрома представляли собой пути отхода противника. Дорога от города Хайлигенбайль к порту Розенберг была сплошь забита артиллерией, танками и автотранспортом. Весь берег залива Фриш Гаф заставлен боевой техникой врага. В порту Розенберг наша авиация уничтожила морские транспорты, торпедные катера, сотни штабных, специальных и грузовых автомашин, сосредоточенных для эвакуации, орудия, бронетранспортеры, тысячи вражеских солдат я офицеров. Вся земля вокруг была опалена огнем.
Март был на исходе. Мы хорошо знали, что в эти дни войска 3-го Белорусского фронта и другие приданные ему части вот-вот начнут штурм сильно укрепленных обводов города-крепости Кенигсберга. Погода была плохая, и, видимо, поэтому жизнь наших летных экипажей проходила в обстановке напряженного ожидания. [189]
– Неужели начнут без нас? – спрашивали друг друга летчики.
Да, все мы с нетерпением ждали дня начала штурма Кенигсберга. Этот штурм для многих летчиков нашего полка, по существу, начался еще задолго до того, как под его стенами раздались первые выстрелы советской артиллерии и наша пехота вышла на ближние подступы к городу.
Еще тогда, когда гитлеровцы двигались на восток и на полях западной Белоруссии и Литвы виднелись свежие следы гусениц фашистских танков, еще в те первые и тяжелые для нашей Родины дни экипажи полков нашего соединения начали воздушное наступление на Кенигсберг. Теперь, готовясь к последнему штурму, мы вспоминали о пережитом.
Помнится, как мы, отправляясь в очередной полет, собрались у самолета командира полка на короткий митинг. Гневно звучали слова лучших летчиков и штурманов полка Юспина, Белоусова, Уромова, Калинина, Иконникова, Симакова, Кочнева, Федорова, Ларкина, Шевченко, Неводничего, Голова, Колчина и многих других, призывающих к усилению ударов по жизненно важным центрам фашистской Германии. На этом митинге мы приняли тогда резолюцию:
«Пусть шулеры из бандитского дома Гитлера и К° врут, пусть придумывают очередные фальшивки. Мы, летчики, штурманы и стрелки, ответим гитлеровским разбойникам новыми, еще более могучими ударами по глубоким тылам фашистской Германии. Пусть в сердце каждого патриота еще сильнее кипит ненависть к врагу, любовь к своей Родине. Отправляясь громить фашистское логово, помни о наших разрушенных городах и селах, о слезах матерей и сестер, уведенных в рабство к немцам и замученных фашистскими бандитами».
С этими священными словами шли летчики нашего полка в дальние полеты и в 1942, и в 1943, и в 1944 годах. С этими словами на устах мы готовились и к последнему штурму Кенигсберга.
…День 7 апреля запомнился нам на всю жизнь. С утра Кенигсберг бомбардировала фронтовая авиация. К полудню здесь появились тяжелые бомбардировщики.
Наш полк подходил к цели – товарной станции – на небольшой высоте. Еще на земле мы договорились о том, [190] что каждая эскадрилья будет бомбить по сигналу ведущего. Чтобы создать для этого необходимые условия, подполковник Трехин скомандовал:
– Приготовиться к удару!
По этой команде наша девятка на повышенной скорости ушла вперед, правая и левая – отстали и перестроились в колонну. Впереди и справа показалась товарная станция. На путях – несколько железнодорожных эшелонов, чуть дальше – складские помещения. Некоторые здания без крыш, видны следы недавних пожаров.
– Бомбить будем эшелоны, – спокойно докладываю командиру.
– Хорошо! – ответил подполковник и тут же развернул группу вправо, создав тем самым лучшие условия для прицеливания.
Уткнувшись в прицел, произвожу мелкие довороты самолета. Правой рукой тяну рукоятку: сразу же открылись бомболюки. То же самое проделали штурманы ведомых самолетов. Прицелившись, нажимаю на боевую кнопку. И, как только показалась из фюзеляжа первая фугаска, со всех самолетов группы посыпались бомбы. Проходит несколько десятков секунд – и они, одна за другой, рвутся на земле. И вдруг в местах, где находились железнодорожные составы, раздался один, потом второй взрыв большой силы. Черные столбы огня и дыма поднялись в воздух.
– Горят, эшелоны горят! – кричит стрелок-радист Пузанов.
– Порядок! – довольным голосом сказал Трехин и с небольшим креном стал разворачивать группу, чтобы потом взять курс на аэродром.