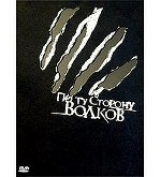
Текст книги "По ту сторону волков (полная версия)"
Автор книги: Алексей Биргер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 9 страниц)
– А тот щенок... из вашего сна... он был уродом? – спросил Калым.
– Нет. Слабенький был, но вполне нормальный. Жаль, я только позже узнал об одном народном поверье, а то стоило бы, может, и попристальней щенка осмотреть.
– Какое поверье вы имеете в виду? – спросил Калым.
– Видишь ли, оно больше распространено на Украине и по югам, но и для всех областей России не чуждо. Считается, что потомство вудколаков рождается без костей – благодаря этому оно тоже, при достижении зрелого возраста, становится вудколаками, или оборотнями, и может превращаться то в людей, то в волков. Пока оно не достигло зрелого возраста, его можно истребить, как обычных новорожденных, как обычных смертных, – но во взрослом виде на него уже нужен кол из осины или боярышника, или серебряная пуля, чтобы с ними покончить.
– Да, понимаю, – Калым разлил по стопкам остатки водки. – В этом поверье отразилось нечто вроде логического вывода, что в теле вудколаков должна отсутствовать жесткая скрепляющая система: чтобы ничто не мешало им свободно трансформировать свое тело, легко вылепливая из него любую форму. Принцип пластилина, так сказать. То, что любят в мультфильмах обыгрывать. Да, очень соблазнительная ошибка в анализе. Хочется даже поверить в нее. Чудесного хочется, вы правы... Хотя вы правы, наверно, и в том, что не стали расследовать эту линию. Скорей всего при повторном анализе ошибка бы вскрылась и все обернулось бы пшиком. А так – остается чуточку приоткрытая форточка в неизвестное. Жаль было б совсем ее захлопнуть и на задвижку закрыть, нужна ж небольшая вентиляция, для свежести воздуха в помещении, а?
– Верно, верно! – подхватил Высик. – Именно, чуточку проветривать воздух в комнате, не давать ему застаиваться. Чтоб мозги не кисли. Будь здоров!..
– Одного не понимаю, – сказал Калым, когда они выпили. – Откуда первоначально взялась идея оборотня? Почему вдруг стали думать об оборотне, когда начались убийства? Поводов-то особенных не было, чтобы не искать более земных объяснений. Я имею в виду, не было солидных оснований для столь быстрого зарождения и распространения легенды об оборотне. Практически не было почвы для этой легенды. Почему она вдруг родилась – из воздуха, из ничего и разом оказалась убедительной для всех? Почему с самого начала отказались от мысли о примитивно и постижимо материальном убийце?
– Именно, что из воздуха она родилась, – сказал Высик. – Видно, я недостаточно дал тебе прочувствовать атмосферу тех лет. Страх и беспросветность были разлиты в воздухе. Слишком много было страха. Это – как соляной раствор. Когда соли слишком много, она кристалликами выпадает на дне. Точно так же и кристаллики страха, вдыхаемого легкими из самого воздуха времени, уносились кровью в мозг и, накапливаясь, выпадали оформившимися слухами и искаженными представлениями о мире. Оборотень – это материализовавшийся сгусток страха, понимаешь? Эпохой рожден. Может, кто-нибудь мельком и видел волка. Может, кто-то собственной тени испугался, проходя в сумерках мимо места недавнего убийства. Любая причина, самая ничтожная, могла высечь искру, от которой пламень легенды и полыхнул... Это, знаешь ли... – Высик примолк и нахмурился – ...не угадать. Я кинул такую фразочку, что нам всегда доступно разглядеть происходящее по ту сторону волков. Но, боюсь, происходящее по ту сторону людей останется для нас недоступным... Ладно, давай я тебе переводы врача покажу.
Калым ушел в четвертом часу ночи, благо пройти ему было два квартала. «Ничего, -подумал Высик, – выспится, завтра воскресенье, племянника в детский сад не вести.»
Высик прибрал со стола и улегся спать. Несколько взбудоражен он был. Сам себя растормошил, вдарившись в воспоминания, воскресив полузабытое и давно перечеркнутое. Впрочем, это от неожиданного сна прошлой ночи покатилось, оставившего маленькую занозу. Чтобы извлечь эту занозу, он и рассказал Калыму без прикрас давнюю ту историю – выговорился, не скрывая и стыда своего.
Высик знал, что после такой посиделки ему на душе скоро станет легко и спокойно. С тем и уснул. А остаточное напряжение – остаточные клочья тумана – навеяли ему еще один сон, где явь странно смешалась с несусветной фантасмагорией, с небывальщиной. Сперва нечто вроде медицинского кабинета ему приснилось. И врач с лицом Игоря Алексеевича Голощекова сказал:
– Да, с памятью у вас нелады. Надо вам ее освободить, чтоб все забытое вернулось...
– Что вы делаете? Гипнотизируете меня? – спросил Высик, наблюдая за ярко отсвечивающим скальпелем, который врач держал у него перед глазами.
– Не совсем, – ответил врач. – Если ваша память – это фильм, то я ищу кусочек вырезанной вами пленки. Выпасть этот кусочек никуда не мог, должен был остаться внутри вашего черепа, когда вы его из пленки выстригли. Вклеим его на место – и все в порядке.
И Высик увидел себя со стороны, увидел, что череп его открыт наподобие коробки проекционного аппарата, и как врач подцепил извивающийся кусочек пленки, и тот будто сам собой скакнул назад, в то место, из которого был вырезан. И после этого Высик увидел себя в небольшом зальчике, перед экранчиком, и проектор заработал, и сперва Высик был един в трех лицах, он и проектором был, и зрителем в зале, и на экране тоже был он. Но мозг быстро притомился, не хватало энергии мозга на то, чтобы поддерживать растроение, и вот Высик остался лишь на экране, да и не экран это был уже вовсе, не проекция, а настоящая жизнь, и сам Высик был настоящим... Высик не мог уловить момент полного своего переселения на экран, просто сначала он зрителем, в зале сидя, слышал свой голос, а потом вдруг обнаружил, что стоит в барской усадьбе напротив оперативника и, уже кивнув на прощание, спрашивает его:
– Кстати, зачем вы серебряные пули пользуете?
– А где эта серебряная пуля? – живо спросил оперативник.
– Вот она, у меня, – Высик извлек пулю из кармана шинели и кинул собеседнику в руки. – Это у вашей братии что, для шика? А если б тебя по этой пуле нашли – примета-то какая особая?
– Увлекся, – усмехнулся собеседник Высика. – Надо было самому ее забрать. Забывчивость моя.
– Это что, навроде шика? – повторил Высик.
– И в смерти должна своя изюминка быть. Когда знаешь, что кому-то череп сейчас не свинцом, а серебром начинишь – совсем с другим ощущением курок нажимаешь. – Он вытащил из кармана непользованную серебряную пулю, в патрон заправленную, и вручил Высику. – На, опробуй на ком-нибудь. Поймешь, о чем я говорю. Я не я буду, если особого смака при этом не испытаешь.
Высик еще раз кивнул – и ушел.
И сразу волк за Высиком погнался, и вот Высик уже на краю лощины и стреляет из-за дерева, всаживая в волка пулю за пулей, а волку хоть бы хны, лишь от последней пули его как ударом отбросило, но он устоял на лапах и приготовился к прыжку, а Высик лихорадочно соображал, что делать, и увернуться успел, нырнув за ствол дерева от первого прыжка волка, и волк перекувырнулся, и, пока перекувыркивался и опять вскакивал – долю секунды это заняло, но для Высика время пошло страшно медленно и тягуче, как в замедленной съемке, – Высик успел свою последнюю надежду – серебряную пулю вытащить из кармана и зарядить в пустой пистолет, но у него все равно уже не осталось бы времени выстрелить, если бы волк не дрогнул на секунду и не замедлил с прыжком из-за раздавшегося неожиданно петушиного крика, и Высик выстрелил в него в упор... И волк рухнул, как подкошенный – последняя пуля, серебряная пуля, прямо в сердце ему вошла, а от всех предыдущих – как Высик мог теперь разглядеть – не было на нем ни царапинки. Высик перевел дух и посмотрел пристально на мертвого волка, и померещилось ему, что вроде волчьи черты начинают таять и человечьи смутно сквозь них забрезжили... – но тут весь сон уплыл во тьму, словно с перетасованными образами этого сна, уносящимися прочь, спало в Высике последнее напряжение, последний – остаточный – пар он выпустил, и улеглось в нем все разбудораженное воспоминаниями. И дальше Высик спал крепко, безмятежно, без сновидений.
СТИХИ И ПЕРЕВОДЫ ДОКТОРА
ИГОРЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ГОЛОЩЕКОВА
ЗАЧИН ДЛЯ ПРОЗЫ
И стоило труда
Наладиться в Германию,
Где ходят поезда
Пока по расписанию,
Где жизнь моя течет
До одури нормальненько,
И где уже не в счет
«По рюмочке, по маленькой»?
И лишь порой из-за
Тумана многоцветного
Мне снятся голоса
Пространства безответного.
И сладок был бы сон
В протопленной обители,
Когда бы на рожон
Не перли френчи-кители.
Выходят на перрон
Порою предвоенною,
И тот же эшелон
С теплушкой неизменною.
И тренькает бачок
С водою кипяченою,
И этакий сморчок
Гнет линию ученую.
Да разве жизнь – была?
Да разве это – выжили?
Всю жизнь нас канцдела
Утюжили-мурыжили.
И в наши времена
Другая песня слышится,
Но та же тишина
Не дрогнет, не колышется.
Тарелки ль черный диск,
Транзисторы ль приемника,
Но тот же василиск
Глядит в глаза детдомника.
И мне невмоготу
Скрипеть зубами стертыми,
И видишь всю тщету
Ответа перед мертвыми.
Напой, напой, напой
Заветную считалочку,
Но лишь за упокой
Не вздумай ставить галочку.
Чтоб узнавалась кровь
Лазурными прожилками,
Чтоб запах детства – вновь
Магнитными опилками.
Чтоб, сотни детств впитав
Сквозь одурь сновидения,
Я, смертью смерть поправ,
Узнал свое мгновение,
Где солнце свет свой льет
Сквозь оторопь московскую,
Сквозь тополиный мед
На Первую Дубровскую.
И, им озарена,
Уходит в даль лукавую
Футбольная шпана
Походочкой шалавою.
А жизнь моя парит
Кругами несмертельными,
Где унавожен быт
Командами расстрельными.
И падает на цель,
Когтя мои окрестности
Рожденных в параллель
И времени, и местности.
ПЕРЕВОДЫ ИЗ У.Х.ОДЕНА
* * *
Милая, с ночи застрял занозой
И день отравляет сон:
Мы в некоем здании, схожем
С железнодорожным, вокзальным,
Теснятся со всех сторон
Кровати, и, в общую полумглу
Погруженные, мы на одной из них, в дальнем,
В самом дальнем углу.
В застылости смутной грусти,
В обнимку, враждебно следя
За нами, на каждой кровати
Сидели пары; но кстати
Все делали мы, не будя
Часов: ты была безразлична
Ко взглядам, губами – легко, под чуть слышный
Шепот – мои найдя.
И вдруг – так легко и просто -
Ты стала нашептывать мне,
Что любишь и хочешь другого,
И я, не сказав ни слова,
Жалкий в своей вине
Быть нелюбимым, покорно
Ушел... Ядовита, тлетворна
Память об этом сне.
1936
Колыбельная
Спи-усни, любовь моя,
На моей руке, бессильной
Ни от злобы лет тебя
Заслонить, ни от могильной
Ямы; знаю – ночь в окне
Пеплом дня порхнет; и все же
Неразлучен в общем сне
Я с тобой, с живым твореньем,
Смертным, грешным, но, по мне,
Краше всех и всех дороже.
И ничем не стеснены
Ни душа, ни тело: славно
Видеть будничные сны
На груди Венеры, плавно
Дышащей, чтоб нас с тобой
Не встревожить; мир согласья
Снится нам за смертной тьмой,
Мир любви и мир надежды;
А аскета сон ночной
Опален дыханьем страсти.
А едва ночная тень
Отлетит под погребальный
Гул побудки, сразу день
Вцепится, маниакально-
Скудоумный, под залог
Нас возьмет; мы самый страшный
Долг вернем ему, но впрок
Чуть задуманную ласку,
Поцелуй иль шепоток,
Не теряй во мгле вчерашней.
Ночь прозренья, милый друг.
С ветерком румяным канет,
Но живого сердца стук
Пусть, занежив, не обманет
Новый день; благослови
Смертный мир на ясной зорьке;
Скрытых сил в твоей крови
Не убавит жгучий полдень;
Озарит нас взгляд любви
Даже в полночь ссоры горькой.
1937
Мисс Ги
(На мотив «Лазарет святого Джеймса»)
Ах, послушайте рассказик
Про мисс Эдит Ги,
Жившей на Клеведон Террас
В доме восемьдесят три.
Губы тонкие поджаты,
Левый глаз косит слегка,
Плечи узки и покаты,
Грудь тщедушная плоска.
Серый саржевый костюмчик,
Шляпка бархатная и
В одну комнату квартирка -
Вот что было у мисс Ги.
А еще – зеленый зонтик,
Алый плащик вместе с ним,
И велосипед с корзинкой,
С резким тормозом ножным.
Церкви ближнего прихода
Посвящала все дела
И вязанием для бедных
Вечно занята была.
И вздыхала звездной ночью:
«Разве кто-нибудь поймет
Каково мне жить с доходом
Только сотня фунтов в год?»
Раз ей снилось: королевой
На балу стоит она,
И викарием прихода
Танцевать приглашена.
Вихрь промчался в бальной зале,
Зала сгинула – и вот
В чистом поле на педали
Жмет она, усердно жмет.
А викарий их прихода -
Превратился он в быка
И за ней рванулся, низко
Опустив свои рога.
Сзади – жаркое пыхтенье.
Настигает, мчится вслед.
И невольно резкий тормоз
Тормозит велосипед.
Летом все цветет; зимою
Ветви мертвы и сухи.
Вся застегнута, к вечерней
Службе ехала мисс Ги.
Мимо парочек влюбленных,
Застегнувшись, как в футляр,
Отводя глаза, ненужной
Никому из этих пар.
В боковом приделе села,
Заиграл над ней орган,
Хор запел сладкоголосый
Над скамьями прихожан.
Опустилась на колени
И взмолилась от души:
«Не введи во искушенье,
Послушание внуши».
Дни текли, сменялись ночи,
Жизнь по крохам унося.
Вот мисс Ги педали крутит,
Застегнувшаяся вся.
Позвонила в дверь к хирургу,
Прислонив велосипед:
«Доктор, боль не отпускает,
День и ночь покоя нет».
Доктор Томас посерьезнел,
Он осмотр свой повторил.
«Эй, да где ж вы были раньше?»
Он, нахмурившись, спросил.
Не притронувшись к обеду,
Доктор Томас мял в руках
Хлеб на шарики и только
Буркнул: «Штучка – этот рак.
Врут считающие, будто
Докопались до причин.
Он – убийца отлученных
От активных дел мужчин.
И бездетных женщин тоже
Он немало погубил.
Он – как клапан для отвода
Невостребованных сил».
«Что за ужасы, мой милый?» -
Говорит ему жена.
– «Я смотрел мисс Ги. Похоже,
Что не вылезет она.»
В лазарет ее забрали,
И она ждала конца,
И лежала, одеяло
Подтянувши до лица.
Вот на стол ее выносят.
Прыснул, вырвавшись, смешок
Средь студентов. Мистер Роуз
Ее скальпелем рассек.
Мистер Роуз, он к студентам
Повернулся: «А теперь
Мы запущенной саркомы
Видим редкостный пример».
Со стола ее убрали,
В морг учебный отвезли,
И два вдумчивых студента
На занятия пришли.
С потолка она свисала,
Да, свисала там мисс Ги.
И два вдумчивых студента
Иссекли ей часть ноги.
1937
Беженский блюз
В десятимиллионном городе у каждого есть жилье,
Хоть особняк, хоть конурка – главное, что свое:
Но не для нас, дорогая, нам здесь пристанища нет.
Мы жили в стране, которая была для нас всех милей,
Теперь лишь над картой Европы мы можем взгрустнуть о ней:
Заказан для нас, дорогая, возврат в родную страну.
На деревенском кладбище в нашей родной стране
Тис расцветает снова по каждой новой весне:
Но не оживут, дорогая, просроченные паспорта.
Консул по столу грохнул, не дослушав меня до конца:
«Без паспорта, юридически, вы мертвей мертвеца!»:
Но мы ведь живем, дорогая, мы ведь с тобой живем.
В Комитете по беженцам вежливо я был выслушан; но в свой черед
Они меня попросили обратиться к ним, через год:
А сейчас как нам быть, дорогая, куда нам сегодня пойти?
Пошли на митинг – оратор был злобен: «Закрыть им въезд!
Иначе они нас выпихнут с наших рабочих мест!»:
Он о нас говорил, дорогая, он о нас с тобой говорил.
Ты слышишь? – в ушах от грома ломит, Гитлер гремит
Над всей Европой: «Каждый из них должен быть убит!»:
Он нас с тобой, дорогая, он нас имеет в виду.
Ухоженный пудель в жакете гуляет, а хитрый кот
В полуприкрытую дверку, не зля никого, прошмыгнет:
Ведь, дорогая, никто из них не еврей, не немецкий еврей.
Спустились к портовой гавани, смотрели с пристани вниз,
Где плавали рыбы, свободные от паспортов и от виз:
В трех метрах от нас, дорогая, всего лишь в трех метрах от нас.
В лесу мы завидуем птицам: легко им петь на ветвях,
Не зная, что значит политика, не зная, что значит страх:
Не зная того, дорогая, чем разумна разумная тварь.
Уснул я, и мне приснилось в тысячу этажей
Здание, с тысячью окон и тысячами дверей:
Но нашу дверь, дорогая, мы бы зря там стали искать.
А на необъятной равнине, запорошенной снежком,
Всю местность десятки тысяч солдат прочесывали кругом:
Ища нас с тобой, дорогая, в погоне за мной и тобой.
1939
* * *
Что ты плачешь, глядя в сумрак
На распутье? Милый твой,
С ловчим соколом, с борзыми
Промелькнул перед тобой?
Птиц задобри, чтобы с веток
Не звенели голоса,
Подожди, покуда солнце
Тьме уступит небеса.
Зимний ветер зол, беззвездна
Эта яростная ночь;
От своих тоски и страха
Ты стремглав помчишься прочь.
Мчись туда, где вечно плачет
Океанская волна;
Океан глубок и горек,
Но испей его до дна.
Ключик золота литого
Средь обломков кораблей
Ты отыщешь, все обшарив
В темных пропастях морей.
А затем – до края Света.
Поцелуем уплати
Жутким стражам – и над бездной
Утлый мостик перейди.
И в давно забытой башне
Мрамор лестниц одолей,
Чтобы ключ вложить в замочек
Крепко запертых дверей.
Прочь сомнения и страхи!
Ты пройдешь сквозь бальный зал.
На себя прощально взглянешь,
Паутину сдув с зеркал.
Все. За деревом панели
Перочинный нож нашарь
И себя без сожаленья
В сердце лживое ударь.
1940
Песня для Хедли Андерсон
Уймите тиканье часов, пусть телефон молчит,
Пусть пес, терзающий мой слух, над костью не ворчит,
Пусть пианино замолчат, весь мир умолкнет, чтоб
Был глухо слышен барабан, пока выносят гроб.
Он мертв! Об этом в небесах пусть каждый самолет
Выводит надпись и навзрыд моторами ревет.
Нарежьте узких черных лент на шеи голубей,
Пусть в черном каждый полисмен дежурит у дверей.
Он для меня был мой восток, мой запад, север, юг,
Мой вечный свет, он для меня был всем и вся вокруг!
Мой труд и отдых, день и ночь, и песня, и слова,
Теперь он мертв, он мертв, он мертв – моя любовь мертва!
Взорвите солнце – пусть навек угаснут небеса!
Сотрите звезды и луну, сведите все леса!
Пусть в океанах и морях иссохнет вся вода!
Нет больше жизни, раз его не будет никогда!
Из «Новогоднего письма»
А год назад, попав в Брюссель,
Я видел беженцев: постель
К постели, робкие надежды,
Пугливый вздох, витавший между
Кроватей, умолявший ночь,
Чтоб с ней века промчались прочь,
И эхом тщетных заклинаний
Европа полнилась – на грани
Того, что, притаясь во мгле,
Мелькало тенью на стекле,
Скреблось по окнам, лезло в двери,
И все запоры против зверя
Уже опробовали, но
По каждой лестнице Оно
Взбиралось, смертоносной тенью
Событий меряя ступени.
Но человек среди времен
Бывает с жизнью примирен
Хоть солнцем августа, всех ровно
Теплом одаривавшем, словно
Не замечая с высоты
Приметы странной суеты,
Когда, послушны скрытой силе,
Суда маршруты изменили,
Встал поезд посреди равнин,
Толпа громила магазин,
Неясный страх густел помалу,
Достигнув крепости кристалла,
Пустые толки сжались как
На карте танковый кулак,
Едва с зарей, не медля дольше,
Война обрушилась на Польшу...
1940








