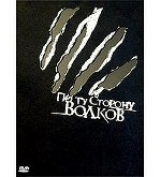
Текст книги "По ту сторону волков (полная версия)"
Автор книги: Алексей Биргер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
– Здорово следы читаешь, – сказал опер. – Где так наловчился?
– Я ж почти всю войну в конной разведке был.
– Да, конечно, тебе ж и карты в руки. Пойдем дальше, на кладбище.
Так мы и добрались до того места, где след таинственным образом оборвался. Я принялся шарить вокруг, а энкеведешник, привыкнув, видно, доверять моим способностям следопыта, скучающе озирался и на небо глазел. Вдруг он взволнованно меня окликнул:
– Смотри! Смотри! На дереве, рядом с могилой, где след обрывается!
На гладком стволе виднелись свежие зарубки, уходившие вверх метра на два, где начиналось первое разветвление и два толстых сука уходили от ствола в разные стороны.
– Вот он как есть – след его оружия! – я расплылся в улыбке, и, наверно, довольно глупый был вид у меня в тот момент. – Он им воспользовался, чтобы со своим грузом взобраться на дерево. И, видно, с трудом там держался, поэтому и не напал на меня – не было у него возможности напасть на меня неожиданно, из выгодной позиции. Но куда ж он делся потом, ведь слезть-то он в конце концов должен был! – Я оглядел снег вокруг дерева. – Слез он с другой стороны, это ясно. Куда он ушел, мы уже не узнаем, местные зеваки здесь особенно усердно ногами поработали. – Я еще раз осмотрел следы, ведущие к могиле. – Да, капли крови становятся все меньше и реже, почти на нет сходят. Надо думать, рана была серьезная, волк истек кровью и сдох. Тащиться с мертвым окоченевшим волком... Не позавидую ему. Интересно, где он его похоронил? Тоже выясним, а?
– Выясним, – кивнул опер. – По-моему, мы узнали достаточно. Можно докладывать наверх, что оборотень – это обыкновенный хитрый бандюга. И есть все данные, позволяющие быстро и без шума найти его и ликвидировать. Пошли отсюда. Мы долго тут провозились, а у меня в районе еще дел полно.
Мы покинули кладбище и направились в поселок к моей конторе. Мне было о чем подумать. Оставалось нечто очень странное во всем этом деле. Судя по всему, у волка (а я, по следам, был готов поспорить на что угодно, что мы имеем дело не с крупной собакой, а с волком – по тому, как лапы поставлены хотя бы) был постоянный хозяин, которого этот волк обожал. Только как этот постоянный хозяин умудрился скрывать присутствие волка от всей округи, где о лишней вши слухи пойдут? Как хозяин волка оказался на пути своего питомца, не оставив никаких следов? Куда он все-таки дел тело мертвого волка? Вряд ли унес куда-то далеко. Неужели тащился с ним несколько километров? И что все-таки за игра им велась вокруг мнимого превращения волка в человека? Почему нельзя было бросить дохлого волка – хоть на могиле, хоть не доходя кладбища?
Значит, он почему-то не мог предоставить волка собственной судьбе. Почему? Отбрасываем вариант, что он не додумался, – несерьезно. Тогда остается лишь одно наиболее вероятное: он не мог бросить волка, потому что даже труп волка наверняка выдал бы, кто его хозяин. Но как он мог это выдать, если в округе никто и слыхом не слыхивал о человеке, содержащем волка? Может, он на волка ошейник надел со своим именем или с чем-то очень узнаваемым – так, для форсу? Тоже маловероятно. Может, он боялся, что у волка достаточно сил, чтобы привести меня к дому своего хозяина? Но ведь убил же он моего предшественника. И мне мог устроить засаду в любой точке моей погони за волком. Нет, он предпочел спасать волка, и для него это было важнее, чем со мной покончить. Он даже рискнул отсиживаться на дереве, в такой позе, которая исключала нападение на меня, и, наоборот, сделала б его моей жертвой – лишь бы утаить... Почему?
Скорей всего, все-таки страх, что волк дотянет до дома, а значит, и меня по следу приведет, и будут мне все карты в руки – и пистолет против его секиры или шестопера, и козыря внезапности он будет лишен. Но не то что-то, не то... Я уже начинал чувствовать нрав убийцы – и понимал, что такая причина была бы не очень в этом самом нраве. Однако, на тот момент, это была единственная разумная и логически последовательная причина, которую я мог вообразить. И не стоило считаться, пожалуй, с мелочным свербением в недовольном разуме. Все странности в конце концов объяснятся, когда убийцу возьмем.
Шофер уже давно вернулся, чаевничал с дежурным. Завидев своего начальника, вытянулся по струнке. Опер коротко кивнул шоферу, тот мигом завел машину, открыл дверцу перед своим хозяином, тот сел, шофер обежал машину, открыл дверцу с другой стороны, сел за руль, подал машину назад, лихо развернулся – и они умчались.
– Чайку не хотите? – спросил дежурный.
– Я?.. А, нет... Чай не водка – много не выпьешь, – я вышел из рассеянности и постарался сосредоточиться на делах. – Где изъятое сложили?
– А, оружие это?.. Как вы и велели, в одну из наших камер. Никто не залезет. Вот вам ключ, пожалуйста.
– Да-да, конечно, – я убрал ключ в карман. – Пойду пройдусь. Неподалеку. Вернусь через четверть часа.
Я направился к водочному ларьку. На душе у меня было муторно. Поганое ощущение, будто делаю что-то не то, осталось осадком от разговора с опером.
У ларька стояли те самые фабричные, которых я вчера так эффектно «подставил» конокрадам.
– А-а, вы еще живы? – не без скуки в голосе удивился я.
Наступила короткая пауза.
– Стакан водки мне сделайте, – обратился я к продавщице. – Да нет, куда так мало, побольше лей.
Я выхлестал, не поморщась, полный стакан – фронтовая закалка. Поставил стакан на стойку и кинул небрежно – не без пижонства дешевенького, признаюсь тебе:
– Еще один. Такой же.
Пока продавщица наливала, я снова взглянул на ребят.
– Ну? Ничего сказать не имеете?
– Нечестные ты шутки шутишь, начальник, – рискнул подать голос один из них.
Я взял в правую руку полный стакан и хмыкнул:
– А вы честно со мной играете? О такой малости вас попросил, чтоб, пока вы на людях, все тихо-спокойно было. Я здесь за порядок отвечаю, с меня и спрашивают. А мне с кого спрашивать? Только с вас, – я осушил стакан и вернул его продавщице. – Еще раз предлагаю вам: давайте со мной по-хорошему, и я с вами буду по-хорошему. И никаких неприятностей у вас не будет. Так что подумайте.
Они молчали, но было ясно, что я их уже сломал. Они ж, понимаешь, впервые на глухую стенку нарвались, лбы себе и расшибли.
Я вернулся в контору.
– Прикорну в своем кабинете, – сказал я дежурному. – Разбуди через три часа или если что-нибудь очень срочное.
И я устроился на кушетке. Нет, не водка меня разморила. Дел больших на ближайшие несколько часов не предвиделось, а я привык на фронте ловить каждую возможность для сна. Тем более что ночка мне предстояла беспокойная: от замысла наведаться в барскую усадьбу я не отказался.
Проснулся я в голубоватом сгущающемся сумраке – и резко сел, осененный внезапной идеей. Конечно, как же я сразу не додумался! Я соскочил с кушетки, надел сапоги и шинель – и поспешил на улицу. Дежурного на месте не было. «Вот скотина! – ругнулся я. – Небось, удрал кино смотреть». Да, наверно, кино уже началось, настолько весь поселок обезлюдел, ни одной живой души. Скорым шагом я направился в сторону маленького кладбища возле Митрохина, напрямки, через поля, через железнодорожные пути. Вряд ли, конечно, он еще раз туда вернется, а вдруг... Надо сделать все, чтобы его обогнать. И я еще прибавил шагу.
Вот и кладбище. Промерзлое, стылое – крепкий мороз начал к вечеру забирать. Меня даже сквозь теплую шинель пронизывало. Слегка поеживаясь, я добрался до той могилы, возле которой исчезли следы оборотня.
Теперь – поднять плиту. Но до чего же она тяжела! Нет, только пальцы скользят, чуть ногтей не обламываю. Мне одному не справиться. Я растерянно огляделся вокруг. И заметил чью-то тень, скорчившуюся поодаль, за одним из покосившихся памятников.
– Эй ты, кто там? – я на всякий случай нашарил рукоять «Вальтера». – Выходи! Из-за памятника поднялся в полный рост волчий человек – наш немецкий Маугли. Вид у него был робкий и настороженный.
– А что? – проговорил я. – Ты жизнь свою прожил в дикости, с волками, и силу, наверно, накопил, какая обычному человеку и не снилась. Иди сюда.
Он непонимающе на меня взглянул. Я как можно ласковей поманил его пальцем.
– Комме, комме... – сказал я, вылавливая в памяти какие-то искаженные крохи немецкого. Он понял и подошел.
– Подними плиту, – сказал я.
Он только глазами на меня похлопал. Я наклонился и жестами показал ему, что надо сделать. Он понял. И отворотил плиту на удивление легко – словно газетку поднял.
Так я и думал! Вот оно, под плитой... Но что это? Оно живое и шевелится. Господи, два новорожденных младенца – серых, синюшных, непонятно, в чем жизнь теплится. Да они замерзнут на таком холоде. Я хотел снять шинель, укрыть их – но жалко стало, уж больно шинель хороша – новая, ладная, долго еще второй такой не будет. Я стоял, растерянно глядел на младенцев – и не мог себя преодолеть, не мог пожертвовать своей шинелью. И тут, к счастью, мой взгляд упал на юродивого.
– Снимай свои лохматые обноски! – сказал я. – Тебе они все равно ни к чему, и гроша ломаного не стоят, а детей спасут, – и, не дожидаясь, пока он меня поймет, содрал с него лохмотья и укрыл младенцев.
– Вот так-то лучше, – сказал я.
– А, вот ты где, – раздался голос врача. – Опять удрал разгуливать?
Это он обращался к юродивому. Тот при виде врача явно обрадовался. Врач быстро заговорил с ним по-немецки, и волчий человек тоже в ответ что-то залопотал.
– Как вы съездили? – спросил я. – Есть результаты?
– Есть, – ответил врач. – Все расскажу по порядку. – Он подошел к могиле и внимательно в нее поглядел. – Только зря моего подопечного раздели, – сказал он. – Во-первых, им не может быть холодно, потому что лежат они на теплом навозе, который греет лучше любой печки. Видите, прямо дымится? Во-вторых, они не могут замерзнуть, потому что для тепла им вполне достаточно собственной шерсти.
– Какой шерсти? – удивился я. – У младенцев?
– Смотря какой младенец, – ответил врач. – У волчат всегда шерсть, как же иначе.
Я опять взглянул в могилу. И точно – не два человечьих детеныша, а два волчонка в ней лежат и тычутся друг в друга носами. То-то с самого начала они показались мне какими-то серыми – вот только в сумерках, да от внезапности, да с перепугу я, видно, и обознался...
Встрепенувшись, я проснулся. Одурелый после выпитого, а еще больше – от увиденного сна, я не сразу сообразил, что дежурный стоит в дверях, осторожно покашливая и постукивая согнутым пальцем по косяку.
– Что? – спросил я. – Три часа прошло?
– Не совсем. Нескольких минуток вам не хватило. Просто вас к телефону, из райцентра. Из нашего управления МГБ.
На ходу приходя в себя, я поспешил к телефону.
– Алло, это ты, участковый? – послышался довольный голос оперуполномоченного. – Ну, могу тебя поздравить. Ответственные высокие товарищи рассмотрели твои предложения и нашли их весьма разумными. Мы составили список из семи человек, подходящих под твои характеристики.
– Вы продиктуете мне список со всеми данными? – спросил я.
– Зачем? Мы прямо сегодня всех семерых и возьмем, – булькнул он в трубку.
– Думаете, кто-нибудь да сознается? – спросил я, не очень еще вникая в смысл нашего разговора.
– У нас все сознаются, – весело ответил опер. – И незачем разбираться, чье признание будет самым правдивым. Все свое получат. И район чище будет. Новых людей поставим. Ваш местный секретарь партии тоже в этот список включен – согласно личному твоему пожеланию, – он опять булькнул, очень довольный своей шуткой. – Да и врача подметем.
– Погодите! Его-то за что? Ведь ясно, что он не оборотень!
– Ну, во-первых, не очень это и ясно. Твои доводы в пользу его невиновности слабее прочих твоих заключений. Тут ты натяжечки допустил, в отличие от остального. А, во-вторых, мы тут его дело как следует подняли...
– И?
– И оказывается, отец-то у него был преподавателем в привилегированной гимназии, где самая что ни на есть белая косточка училась. И преподавал он не какую-нибудь математику или русский. А богословие. А потом, и сам он штучка хорошая. Говорил он тебе, что иностранные языки знает?
– Сказал, что чуть-чуть знает немецкий.
– Как же, чуть-чуть! Он знает отлично немецкий и английский и – похуже – французский. Где их выучил, не указывается. Думаю, набрался он всего этого у тех самых врагов народа, которых мы еще в тридцать четвертом разоблачили. Чувствуешь, какие связи налаживаются? И зачем, скажи, ему – образованному человеку, хорошему специалисту – сбегать в глухое захолустье, в такой район, как наш, где находятся склады правительственного назначения? Улавливаешь?
– Улавливаю, – моя мысль вдруг заработала необыкновенно четко. – Вот что, мне все равно надо его навестить, узнать о результатах поездки в Москву. Так я прямо сейчас к нему выйду и просижу у него до вашего прибытия, чтоб он чего-нибудь выкинуть не сумел. Прислежу за ним.
– Молодец, – одобрил оперуполномоченный. – Верно понимаешь свой долг. Действуй! И он повесил трубку.
Я постоял у телефона, прикидывая расклад по времени. Сигнал о затевавшемся самосуде над инвалидом я получил немного раньше десяти. Врач простился со мной и отбыл в Москву приблизительно в половине двенадцатого, немного позже. Сейчас около семи. В общем, пять часов выходит. Пяти часов ему, пожалуй, должно было хватить на все дела. Значит, он вот-вот будет, если уже не вернулся. Домой он сразу пойдет или сперва ко мне заглянет? Может, сперва ко мне заглянет, а может, забежит домой на пять минут перекусить. В любом случае он скоро будет здесь, и имеет ли смысл идти мне к нему самому? Арестовывать его придут не раньше девяти, а может, и в одиннадцать-двенадцать. Во-первых, с арестами только попоздней выезжают, как правило. Во-вторых, с него не начнут, зная, что он мог еще и из Москвы не вернуться и что я за ним приглядываю. Начнут с других. За ним могут и в три-четыре ночи пожаловать! А мне, значит, торчи у него все это время? Ничего не поделаешь... Выходит, в любом случае несколько часов есть? А мне-то не больше часа и надо. Рискнем! Сон, только что мне приснившийся, никак от меня не отлипал, словно пиявкой к мозгам присосался. Больше всего подавляло меня то, что он как бы высвободил нечто, смутно бродившее в моих мыслях, неуловимо важное и не желавшее становиться в стройный ряд со всем другим.
Словно дымный шлейф волочился вслед за моими мыслями. Я тряхнул головой, закрыл глаза. А как открыл – врач передо мной стоял. Явно был прямо с дороги. Я даже не удивился.
– Нашли все, что надо? – спросил я.
– Нашел. Давайте присядем, я вам расскажу.
– Погодите немного, – я сходил за шинелью, взял врача под локоток, и мы вместе вышли из домика. – Я врача домой провожу, – сказал я дежурному. – Может, и задержусь у него. Не знаю, насколько. Если что-нибудь важное – я там.
Но едва мы свернули за угол, я повел его не к его дому, а к железнодорожным путям, держа путь на кладбище.
– Куда вы меня ведете? – удивился он. – И почему вы такой мрачный?
– Времени у нас мало, – проговорил я. – И сон мне дурной приснился... Вот вы небось изучали, что такое сны с научной точки зрения?
– Немножко. Это не моя специальность, – удивился он. – Если вкратце, сны – это искаженное отображение нашей реальной жизни. Наших мыслей, желаний... Сны всякие бывают. Не помню, кто сказал, что у талантливых людей и сны талантливые.
– То есть?
– А почему вас это так интересует?
– Так... Из любопытства. Но вполне обоснованного.
– Ну, что ж... Талантливые люди часто видели во сне решение долго мучившей их проблемы. Ну, понимаете, их поиск продолжался и во сне, где они оставались со своей проблемой один на один, без всего отвлекающего, и все внезапно вставало на свои места. Есть несколько гениальных стихотворений, которые их творцы увидели во сне. Сну мы обязаны и некоторыми замечательными научными открытиями. Например, Менделеев свою периодическую таблицу увидел во сне. До этого он долго размышлял над периодичностью химических элементов, пробовал подойти к ней и так и эдак, но все время возникала какая-нибудь закавыка. А когда он уснул, все им наработанное и накопленное как бы само собой сложилось в правильный ответ. Он вскочил и записал свою таблицу.
– Вот это мне и хотелось знать, – сказал я. – Может, в этом все и дело. А теперь рассказывайте, что вы в Москве нашли.
– Все подтвердилось. Блаженный, обитающий в больничном сарайчике, – действительно один из Маугли, пойманный в Западной Африке и доставленный в Берлин в тысяча девятьсот двадцать восьмом году. Сначала его пытались приучить к человеческому обществу, но все попытки провалились, хотя он и начал понимать человеческую речь и выучил несколько самых простых и обиходных немецких слов. Во время войны о нем, конечно, ничего не слышали – последние сведения относятся к сороковому году. После войны наши специалисты, занимающиеся проблемами мозга и человеческой психики, послали разок запрос в Берлин, узнать, что с ним сталось. Ответ долго не приходил, потом пришел: нигде его найти не могут; видно, пропал при взятии Берлина – скорей всего погиб.
– Что-нибудь еще?
– Да, меня вот о чем предупредили: его реакции могут очень напоминать волчьи. В необычной, пугающей обстановке он может сперва растеряться и присмиреть, но не исключена и яростная агрессия – как реакция самозащиты. Вспышки такой агрессии могут случаться редко, но любая мелочь, которой мы и внимания не придаем, способна их спровоцировать. И тогда его нельзя судить по людским законам – надо понимать, что он действует как обороняющийся зверь. Вспышка агрессии может последовать и после периода адаптации, когда чужое окружение уже не настолько его подавляет, чтобы страх совсем его оцепенил. С другой стороны, после стольких лет общения с людьми он должен быть совсем ручным. Но шок, пережитый им из-за войны, несравним с шоком, который испытываем мы, люди. Мы знаем, что происходит, а он – нет. Для него выстрелы, взрывы, горящие здания – все равно что земля и небо, которые вдруг разверзлись по непонятной причине. В нем – особая смесь психики высшего примата и волчьей психики, и эта психика может быть ущемлена и выворочена теперь самым неожиданным образом. Очень вероятно, что он после пережитого шока до конца дней своих останется очень тихим и робким. Но очень вероятно и то, что смирение и робость вдруг взорвутся в нем, и детонатором может стать что угодно, понимаете? Ну, словом, по-людски говоря, он является психопатом, готовым сорваться в любой момент. Не исключено, что сама привычка к человеческому обществу может тут сыграть отрицательную роль.
– Как это?
– Вы ведь знаете, что после войны появились стаи бездомных собак, верно? И что они опасней волков, потому что легче и охотней нападают на людей? Дело в том, что эти одичавшие собаки росли рядом с человеком, и у них нет того страха перед человеком, который есть у каждого дикого зверя. Волк нападет на человека только в крайнем пределе голода или будучи окончательно загнанным в угол. Вплоть до этого он будет изо всех сил избегать встречи с нами. Так будет осторожен, что вы в двух шагах от него пройдете и не заметите. Собаки же, напротив, кидаются на людей почем зря. Так вот, наш Маугли – в некотором смысле одичавшая собака.
– И вы думаете в связи с этим, что?..
– Не знаю, что и думать. Как он может быть оборотнем, если все эти месяцы он сидел, словно пришибленный, в своем сарайчике, дальше двух шагов за ограду больничного двора вообще не выходил? Но, с другой стороны, ночью я сплю, и... И этот волчий вой – разве он не должен был его будоражить, звать к себе? Вы видели его прошлой ночью. Он явно искал волка. Опять-таки вполне возможно, он вышел в первый раз. Но тогда это означает, что его шок начинает проходить – или, скорее, его поступки под воздействием шока начинают приобретать другое направление... Какое? Вот что меня тревожит. Не прошлое, а будущее, так сказать.
– Понимаю... – проворчал я. – Ну, вот мы и пришли.
Мы были уже у кладбища. Я подвел врача к могиле.
– Помогите мне отворотить плиту, – сказал я.
Плиту мы совместными усилиями отворотили на удивление легко. На этот раз я запасся фонариком, и мы могли разглядеть все в подробностях.
– Аккуратно земля вынута. И довольно давно уже, – сказал я. – Вполне может быть, что это один из тайников непутевого сторожа – брата нашего Коли-инвалида.
– Откуда вы знали, что волк будет здесь? – воскликнул врач.
– Так, догадка забрезжила. Как раз во сне. Ну, что скажете?
– Скажу, что это не волк, а волчиха, – ответил врач, взяв у меня фонарик и опустившись на колени у могилы. – И волчиха, совсем недавно родившая. Все, как положено. И смех, и грех...
– Когда? Когда она родила?
– Я не специалист. Но помощь при извлечении щенков мне здесь раза два оказывать доводилось. И сук наблюдать. Так я бы сказал... – он ощупывал окоченелый труп волчицы в поисках каких-то своих примет и признаков. – Я бы сказал, родила она не больше двух дней назад. Но я могу очень крупно ошибаться... Погодите, тут еще что-то есть! – он вытащил плоский сверток, обмотанный в прорезиненную ткань, и протянул мне. Я развернул материю и увидел внутри сторожевую книгу.
– Вот, кажется, все и становится на свои места, – заметил я. – Теперь я хоть знаю, что спешить мне некуда, – пусть этот тип шарит по всем комнатам барской усадьбы.
Я убрал журнальчик себе под рубашку, засунув под пояс.
– Закрываем могилу, – сказал я. – Все ясно.
Мы водрузили плиту на место.
– Как же вы догадались, что подстреленная вами волчица – в этой могиле? – спросил врач.
– Не знаю. Я понимал, что дохлого волка тот тип далеко не утащит, схоронит где-нибудь поблизости. И, видно, я тренированным глазом подметил какую-то странность, связанную с плитой: тонкую полоску незаснеженной земли, будто ее сдвигали, или что-нибудь в этом роде – но это у меня скользнуло и проехало, мысль за это не зацепилась, проскочила мимо. А потом сон взял и вытащил передо мной эту странность – и меня осенило... Вот чего не могу понять, почему во сне мне волчата привиделись... Какая зацепка сработать могла? Да, точно! Я ломал голову, почему владельцу волка так необходимо было спрятать его от всех. Спрятать или спасти, выходит, – я не знал. И мелькнула мысль – а может, он не о самом волке заботится, а о волчьем потомстве, которое без волка не выживет? Может, это не волк, а беременная или кормящая волчиха? И владельцу ее приплод важен? Но мысль эта была настолько мимолетной, что сразу растворилась и угасла. Напрочь о ней забыл, не успев додумать. А именно она-то и вылезла во сне, оттеснив все прочие соображения и ставши самой реальной и вероятной. Проснувшись, я над ней посмеялся – но сейчас нисколько не удивился, обнаружив кормящую волчиху. Был уже, так сказать, морально подготовлен. До чего ж причудливо, а?
– Самое странное в этом деле то, – проговорил врач, – что кормящая волчиха очень редко бросает свой выводок, только по крайней необходимости... – Он помолчал и добавил: – Да, двух-трехдневные щенки без матери вряд ли выживут. Выкормить их будет сложно.
– Странный район, – сказал я. – Напрочь спятивший. Кунсткамера, да и только. И вообще...
– Что «вообще»? – спросил врач – так, рассеянно, чтобы разговор поддержать.
– И вообще, люди тут ненатуральные. Взять вот хоть вас...
Врач резко обернулся:
– Что вы имеете в виду?
– А то имею в виду, что можно по пальцам минуты пересчитать, когда вы при мне самим собой были. Все время роли пытались играть, то одну, то другую, и все не очень вам подходящие...
– Вы меня в чем-то подозреваете?
– Да нет, я-то знаю, что вы ни в чем не виновны, – вздохнул я. – Но если б я с самого начала увидел вас таким, какой вы есть, то, может, и не втянул бы вас в эту историю... Близко вам нельзя было к делу об оборотне подходить... То неожиданные знания в вас обнаруживаются, то вы нарочито настырно предполагаете тут диверсию, то вы от разговора о врагах народа мигом увиливаете... Кстати. Ваше выступленьице о юродивых на Руси, как их воспринимают и как к ним относятся, навело меня на мысль, что вы, наверно, интересуетесь проблемами массового внушения и массового психоза. Уж больно точно вы высказались, как поставить стенку любым подозрениям на счет кого-то... Уж не на свой ли счет, подумалось мне? А тут вы сразу же насчет суеверий хмыкнули, тему закрыв. Вот я и подумал тогда, грешным делом, не можете ли вы знание таких механизмов использовать, чтобы...
– Чтобы быть неуловимым оборотнем? – хмуро спросил врач.
– Навроде того. Но я быстро понял, что не прав. Одно меня занимало – зачем вы, человек образованный и врач хороший, – хорошего врача по первому движению узнаешь – забрались в эту глушь, в это дикое место, несообразное ни вашей квалификации, ни вашим способностям?.. Но это мне объяснили, даже спрашивать не пришлось. Один только вопросец у меня остался. Ответите на него?
– Почему не ответить, если смогу? – равнодушно как-то проговорил врач. – Если и было что скрывать, то теперь совсем нечего.
– Так вот... Как вас, запамятовал...
– Голощеков, Игорь Алексеевич.
– Так вот, Игорь Алексеевич, я спорить готов, что возьми кого угодно в округе – каждый что-нибудь со складов уворовал. Вам шмотье и безделушки всякие, и даже консервы – ни к чему, вы на них не польститесь. Но ведь что-то вы себе по душе на складах нашли, верно?
– Верно, нашел, – согласился врач. – Я...
– Дайте мне самому догадаться, – прервал я его. – Вы на склад с книжками набрели. В точку?
– Да. В точку.
– Эх, Игорь Алексеевич, Игорь Алексеевич, лучше бы вы консервы воровали...
– Почему? – Он задал вопрос без интереса, словно заранее зная ответ. – Ведь книжки в дар от союзников пришли, значит...
– Ничего это не значит. То есть значит, да не то. Вы не задумывались, почему эти книжки народу не раздали? Потому что вредные они все, антисоветские, и засланы к нам с провокационной целью. А вы их начитались.
– А я решил, что о них просто забыли.
– Просто так ничего не бывает. Во всем расчет есть.
– Выходит, и в покинутой трофейной коллекции оружия расчет есть, и в складах, отданных на разграбление, и в лошадях бесхозных, и во многом другом? Может быть, включая и оборотня? Как вы там говорили: «Оборотень – единственный, кто здесь порядок поддерживает», так?
– Ни о чем меня не спрашивайте, – ответил я. – Во-первых, я сам точных ответов не знаю; во-вторых, мало ли что вы на допросах выложите, потянув меня за собой... И самое-то обидное – в том, что грозу я на вас навлек, пытаясь представить доказательства вашей невиновности – ну, что вы оборотнем не являетесь...
– Понимаю, – сказал врач. – Как бы «засветили» меня. Да, я знаю, что «сын за отца не отвечает», но я ведь прекрасно понимаю, что официально с меня не за отца спросят ответ, а по какому-то другому обвинению. Оборотень так оборотень... Я один такой?
– Нет, еще шесть человек компанию вам составят. Но я этого не говорил.
– Так что, может, меня еще и выпустят, после отсева? – усмехнулся врач.
– Надеюсь, – ответил я.
Мы подошли к больнице.
– Заглянем напоследок в сарайчик? – спросил врач. – Проверим наши выводы.
– Конечно, заглянем, – поддержал я.
Юродивый спал на своей куче соломы. Встрепенулся при свете фонарика, сел, моргая. Врач обратился к нему по-немецки. Наш Тарзан недоуменно и обрадованно воззрился на врача, а потом залопотал что-то свое, прискуливая и порыкивая.
– Что он говорит? – спросил я.
– Не очень пойму. Похоже на «тринкен», словно ему пить хочется. Речь у него нечленораздельна. Во всяком случае, вы правы. Тот самый это берлинский волчий человек. Но правота ваша и наше знание, они уже ничего не меняют. Сейчас свежей воды ему принесу и в дом зайдем.
Когда мы оказались в комнате врача, он вытащил бутыль, в которой спирта чуть больше чем на треть оставалось, и доверху дополнил ее водой. Потом проделал ту же процедуру с нарезанием хлеба и лука, что и вчера.
– Хоть выпьем, чтоб ждать не скучно было, – сказал он. – Не пропадать же добру. Вы ведь теперь со мной до конца пробудете?
– Да. Не могу иначе, – я слегка пожал плечами.
– «Их штее хир, их каннт нихт андерс,» – процитировал врач. – Слова Лютера. «Я здесь стою и не могу иначе.»
Вот теперь я видел его таким, какой он есть, – спокойным, подтянутым, чуть меланхоличным – и даже не от ожидания ареста, а от некоего общего меланхолического склада души.
После того как мы приняли по первому стопарику, он встал и открыл стоявший в углу сундук. Вытащил оттуда стопку книг и бумаг, перенес на стол.
– Вот все мое антисоветское добро, – сказал он.
– Все книги не по-нашенски, – заметил я.
– Все по-английски. Я специально только на языке брал. Вот книга, которую я давно мечтал прочесть. Фрейд. Знаменитый врач и ученый. Как раз вопросами сна занимался – что это за феномен и как влияет сон на человеческую психику. У нас фрейдизм объявлен реакционной лженаукой, и если бы не дар союзников... Да, меня за одну эту книгу укатают на всю катушку. Было бы у нас время, я бы вам порассказал о его теориях. Вы, я вижу, снами интересуетесь, и вам бы очень на пользу пошло. Но времени нет. Авось, когда-нибудь сами прочтете в переводе на русский, когда разберутся во всем и поймут, что кроме истинной науки ничего в его книгах нет. Есть тут у меня к вам одна просьба...
– Да?
– Сохраните мои законченные переводы стихотворений. Я дилетант, и ценности в моих переводах немного, но все равно – это лучшее, что от меня останется... Может, вам удастся и напечатать их когда-нибудь, когда времена минуют... Вы понимаете, я давно так не погружался в великую и настоящую поэзию – с самого детства. И только поздними вечерами, в минуты, когда я садился за переводы, я становился самим собой, и окунался в теплоту и насыщенность, невероятные и недостижимые после детства, словно вновь были и лампа под рыжим абажуром, и томик Майн Рида, и изразцовая голландка... Я жил в эти минуты такой полной и своей – только своей, не заимствованной, не подыгрывающей никому – жизнью, что жаль будет, если все это сгинет вместе со мной. В стихах ничего антисоветского нет. Переводы мои уничтожат просто потому, что меня самого... Так возьмете по чистовому экземпляру всего законченного?
Я кивнул.
Он стал перебирать стопочку бумаг, вынимать аккуратно исписанные листочки, оставлять другие, исчирканные.
– А вот этот перевод закончен, но еще не переписан набело, – сказал он. – Если позволите, я перепишу.
Я опять кивнул – и молча наполнил наши стопки. Мы опрокинули их до дна, и он взялся за дело.
Я взглянул на один из исчирканных листочков. Четыре строки попались на глаза: «Я ли смерть возить повсюду В инвалидном кресле буду, Ей не предан страстью нежной, Но ее слуга прилежный?» Последние две строки были зачеркнуты, и вместо них подписано:








