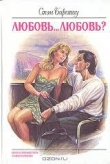Текст книги "Дом Полнолуния (СИ)"
Автор книги: Александра Лосева
Соавторы: Иван Журавлев
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)
– А тут, это, таки, вот…
– Тапочки, тапочки, тапулечки…
– Ах, Паливаныч, да что же это вы такое говорите, – сказал женский голос.
– А мы завсегда так, старая гвардия, – ответил мужской.
– Так к столу же, к столу!
– А где же Пеца? Почему нет Пецы? Он же обещал?
– Ах, ты что, не знаешь его вечные задвиги?
– Здравствуйте, – вдруг сказал кто-то, жуя и растягивая гласные, – вот наконец-то!
Потом они говорили еще что-то, я не разобрал, по-моему, рассказывали какой-то анекдот, довольно скабрезный, потому что сначала густой бас что-то бормотал, видимо, кому-то на ухо, а потом, давясь смехом, визгливо выкрикнул: «Сверху! Сверху, нет, ты понял!» – и раздалось ржание. Потом звуки отдалились, наверное, гости прошли к столу, а еще через секунду послышалось тарахтение отодвигаемых стульев, притом их тоже было штук двадцать, а столько стульев в комнате раньше не было, это точно. Гости усаживались и галдели.
– А ты чего у стенки?
– Стоишь, как засватанный. А может, и правда? Ты еще не женился, нет?
– Да нет пока, вот, Полина же не соглашается…
Это было явно шуткой, потому что снова послышалось ржание. Интересно, а почему Полина не соглашается? И кто она такая?
– Кто скажет? Кто скажет?
– Подожди, еще не открыли.
– А кто открывать будет?
– Тот, кто спрашивает. В армии инициатива наказуема.
– Да у меня же руки дрожат.
– Пить надо меньше.
Потом послышалось бульканье.
– Вот, вот, вот! – забубнили голоса.
– И вот, сейчас…
– Ой, мне еще, мне.
– Так кто же скажет, кто скажет, кто говорить будет? Ты?
– Нет, я после, я после второй.
– А я потом, я после зародителей, я пока посижу.
– Ну, давайте я.
– Давай, давай, скажи!
Я стоял в полном обалдении.
– Мы собрались здесь, – продолжил голос, который мог бы показаться мягким и вкрадчивым, если бы не чрезмерный надрыв, казалось, его обладатель вот-вот зарыдает, – за этим столом, в этой комнате, сегодня, на несколько минут, и никто не знает, сможем ли мы сойтись так еще раз, и свет этой свечи кажется сейчас настолько нереальным, что не верится, будто все происходит с нами на самом деле. Слушайте! Слушайте эту тишину, может быть, этого больше никогда не будет, ведь, кто знает, что случится с нами потом, встретимся ли мы когда-нибудь. Давайте просто посмотрим друг другу в глаза, ведь глаза… – тут голос как-то по-особому слезливо надломился. Я еще раз пнул дверь, но она была все так же непоколебима. – Глаза никогда не лгут, ведь каждый из нас испытывает сейчас какие-нибудь чувства ко всем остальным, может быть, это дружба, может, любовь, а может быть, в целях улучшения качества продукции, необходимо полное преобразование узлов 5 и 12, с заменой муфт под номерами 3А и 8Д и последующей прочисткой системы сжатым воздухом. Кроме того, необходимо проверить систему охлаждения. В целом, процесс модернизации соответствует графику, а расходы на него полностью укладываются в контрольную смету.
– Молодец! Вот это сказал, вот это сказал, это ж надо так здорово! – одобрительно загудели голоса.
Потом было какое-то мокрое хлюпанье и шлепанье, видимо, это падал в тарелки салат.
– Позвольте, я за вами поухаживаю.
– Тебе салат?
– Нет, мне этих, зеленых, и вон того, бурого.
– Вторую открывайте, вторую.
– Нет, мне белой, прозрачненькой.
– Ну, ты, блин, и даешь!
– Встретил одного мужика, а он…
– А вот еще один раз были мы с ним, скажи, Вовчик. Ведь это мы с тобой тогда были, ты помнишь…
– …стопроцентным идиотом.
– Очень миленький такой фасончик, весь в цветочек.
– А я ей говорю, что это не ее дело, я же имею право на собственное мнение, в конце концов, а она смотрит так презрительно и отвечает: «Это ты и твоя компания думаете, что лучше всех, с самого начала стараетесь доказать, что вы умнее».
– …двух будет недостаточно.
– …а он все бегает туда-сюда, да где ему понять, крыса загнанная.
– Да, давайте.
Раздалось чье-то кряхтение под одобрительные возгласы, а потом хлопок. Взвизгнула женщина.
– Вот так надо, чтобы в потолок, в потолок.
– А ты еще тогда говоришь – ну, не надо же так жестоко, а я тебе – ничего, пусть учится.
– Вот, смотри, это Люся. А мы с Люсей совсем как сестрички, она и я, мы друг другу все-все рассказываем, – сказал уже довольно пьяный женский голос и глупо захихикал.
– Ну, давайте я скажу.
– Скажи, скажи.
– О-о, наконец, а я все жду, когда же она скажет.
– Люди, я не очень умею красиво, вот как он. Я скажу просто, вот как мы здесь все сидим: народ! Отдыхайте!
– Ого-го! А можно твой телефончик?
– …две части водки, одна коньяка…
– И я о том же.
– Пересекутся ли наши пути, менестрель, – вдруг сказал знакомый голос с надрывом, притом нарочито громко, так, что мне показалось, будто он обращается к кому-то, кого сейчас нет за столом или даже в комнате.
– …и два гвоздя сверху.
– Да, так вот, сидим мы, ждем, а его все нет, и Пеца говорит – ну, блин, чего же его все нет…
– А мы тебя ждали, а ты не пришел, помнишь…
– На то был свой дифференс.
А при чем тут дифференс, хотел бы я знать?
– Третью давай, третью!
– Дык это уже шестая…
– Черви, черви, гниль и черви…
– Обломись ты, говорю ему…
– Ну, наливай, наливай, не томи.
– А вот тебе уже хватит, – сказал металлический женский голос.
– Да я только начал, что ты, что ты, – ответил дрожащий мужской.
– А давай на брудершафт, это так здорово…
Потом кто-то зашел, и все заорали:
– Горячее! Горячее!
Кто-то прогрохотал к столу, донеслось звяканье отодвигаемых тарелок. Потом на стол опустилось что-то тяжелое.
– Ой, а мне вон тот, тот кусочек.
– Такой весь из себя…
– А она еще с ним встречается?
– Нет, послала давно, и правильно, я всегда говорила.
– А с кем она встречается?
– С каким-то чучмеком.
Некоторое время все молчали, слышалось бульканье и чавканье.
– И добавь уксуса…
– …недостойно тебя. Ты связался со всяким отребьем, все твои друзья отвернулись от тебя из-за этого…
– …шляешься туда-сюда, блядь, а надо просто…
– …и делом заниматься, делом, а не херней!
– Так вот, там было шесть бутылок, и все попадали под стол, и под конец за столом остались только вот мы с ним, скажи, правда?
– Ах ты… Ах, сука… Я… Да я ща…
– Че ты, че, слабо, да? Заело, да?
– Мальчики, мальчики, не надо…
– Не, ну ты нарвался…
– Ща посмотрим…
– Ну-ну, пацаны, че вы, че…
– Да ладно, не порть вечер.
– А мне вообще пофиг.
– Да че там…
И тут по ушам ударила тишина. Больше не было застольных разговоров, звона, бульканья, шарканья, кашля, чавканья, мягкого шлепанья еды, бормотания, смеха, звона посуды. Остался только ритм моего сердца и неровное дыхание. И, словно под его напором, дверь передо мной приоткрылась сама по себе. Заскрипела и стала слегка раскачиваться на незаметном сквозняке. Я шагнул внутрь.
Все стало черным: потолок, пол, стены. Стол сгорел, весь пол был покрыт углями и головешками, посреди комнаты возвышалась большая куча белесого пепла. Оконная рама тоже обгорела, но стекла даже не потрескались. Линолеум превратился в тонкий слой спрессованного пепла. Кровать в углу стала грудой оплавленного и искореженного железа. Потолок был весь в черных разводах сажи, местами штукатурка отвалилась. Шнур электропроводки оплавился, от стен, тоже угольно-черных, пластами отходила взбугрившаяся краска. Вместо кучи хлама в углу была груда углей. Больше в комнате не было ничего.
Кажется, здесь часа три бушевал сильнейший пожар. А дверь даже не нагрелась. Я поднял головешку. Она тоже была холодная. Пахло дымом. Я вышел вон.
* * *
Я возвращался из хранилища, нес ужин и немного на завтрак. Сегодня мне крупно повезло – я нашел новое хранилище на пятом этаже, в радиорубке. Наконец-то я добрался до давно приглянувшейся дверцы. Неприметная такая узкая дверь, похожая на стенной шкаф. Радиорубка изогнута буквой Г, и дверца как раз в торце, за углом. Я пробовал ее открыть сразу, как нашел радиорубку, но тогда со мной не было топора. Потом случилось много всего, и я позабыл об этой двери. Но вот уже неделю, как я доедал три последние банки тушенки.
В душевой комнате – это за две двери до меня – кафельный пол. Я принес туда несколько кирпичей. Кирпичи я нашел на своем же этаже, на лестничной площадке, под брезентом, их там оказалась целая куча. Я сложил из них простенький очаг и накрыл его решеткой, которую выломал из старого холодильника (холодильников на моем этаже ужасно много – чуть не в каждой комнате – и ни один не работает). Получилась великолепная плита. Потом я пошел в актовый зал и порубил три кресла, наколол щепы, набрал газет побольше, вытащил заветную бутылку уайт-спирита и развел в плите огонь. Спички я ношу с собой всегда. На этом огне я сварил дивную баланду из тушенки и муки (ржавая такая банка была в старом хранилище, а в ней несколько пригоршней муки и гвозди на дне). На эту баланду и пошли все три банки. Если уж я за что-нибудь берусь, то с размахом. Потом праздник кончился, баланду я съел удивительно быстро, а на следующее утро после того, как опустела кастрюля, выяснилось, что в старом хранилище воцарился вакуум. Куда-то делись три воблы, лежавшие на верхней полке, исчезла большая банка с джемом и несколько жестянок абрикосов, а я на них так рассчитывал. Вместо них на полке я нашел пару ободранных дворницких варежек. Видно, растреклятые карлики все растащили.
Я кинулся на поиски. За три дня я облазил восемь этажей, заглядывал во все двери, которые смог открыть или взломать, но нигде не нашел ничего даже похожего на еду. Несколько раз, правда, сильно пахло колбасой. Когда проголодаешь три дня, обоняние обостряется до невозможности. Я знал, что никакой колбасы здесь быть не может, – вся пища в Доме – консервы, в лучшем случае, вобла весьма сомнительного качества и доисторические сухофрукты. А тут пахло сухой колбасой, и от этого запаха я чуть не взбесился. Я бегал по коридорам (это было на восьмом этаже, там, где из окон видны шестой и четвертый блоки) и заглядывал в комнаты. В одной из них на полу была гора стоптанных ботинок, еще в одной – чучело осла на маленькой подставке. Осел был какой-то ощипанный и безучастный.
В остальных все неизменно: железные кровати, некоторые почему-то перевернуты, вечные тарелки радиоточек на стенах, мутные стекла. Туман выдался особенно густым. Он похож то ли на дым, то ли на мутную воду. Кое-где на полу были кучи золы и какое-то тряпье. На стенке в одной из комнат – огромный пожелтевший плакат с безразмерным дяденькой, а у дяденьки в руке вилка совершенно сатанинского вида, и на ней дымящийся кусок чьей-то плоти. Под всем этим шедевром надпись внушительными красными буквами, которые почему-то не выцвели: «Не переедай». Дом развлекался. Милые шуточки.
И вот мне повезло. С утра бродил с топором и изредка лупил в запертые двери, прорубал в жиденьких досках дырки и заглядывал внутрь. Ничего похожего на хранилище я поначалу не находил. Большинство запертых дверей на пятом этаже (не знаю, почему я выбрал именно этот этаж) вели в такие же пустые однотипные комнаты, разве что некоторые были темны, словно бы в них вовсе не было окон. Там пахло затхлостью, заплесневелым тряпьем и старой бумагой.
Еще была комната, забитая поломанной мебелью, посреди нее, как корабль во льдах, возвышался монолитный комод с огромными дырками в стенах и дверцах, как будто его кто-то грыз.
В одной из комнат на полу рядом с кроватью был рисунок мелом. Мне стало любопытно, и я вошел. Та же железная кровать с проволочной сеткой, радиоточка на стене, в углу – куча пустых пыльных бутылок, почему-то накрытых ватником. Все покрашено знакомой истерично-зеленой краской (по-моему, этот цвет называется салатовым, но для меня он – просто тошнотворный). Все было так же, как и в сотнях других комнат, вот только на полу возле кровати мелом расчерчены классики. Детская игра такая, чтобы прыгать. Вот-вот. Я так и сел. Обошел эту картинку. Оглядел со всех сторон. Цифры были кривые, линии дрожащие, будто рисовал их ребенок, едва научившийся писать. Были там, в частности, «4» и «7» в зеркальном отражении. На одном конце рисунка к квадратам был пририсован полукруг с расходящимися в стороны кривыми палками, и написано «Солнце».
Не знаю, что на меня нашло. Я как-то хихикнул вслух, отшвырнул на кровать топор и рюкзак (там громыхнули отвертка с молотком; после того, как Дом запер меня в бойлерной, я стараюсь с ними не расставаться) и стал неуклюже прыгать с цифры на цифру. Сначала медленно, потому что не знал, что делать, а потом все быстрее, громко топал башмаками, втаптывал мел в дешевый рыжий линолеум. Потом я уже просто прыгал на месте, растирал дрожащие кривые линии на полу, намертво давил их, добивал, а в висках стучало, кажется, я что-то говорил сквозь сжатые зубы, может быть, ругательства. В дальнем коридоре что-то упало и разбилось, но мне было все равно. Так я прыгал, не знаю, сколько, становясь все злее и злее, и не переставая кричал и ругался. Потом вдруг замолчал, потому что оказалось, что я топчу солнце. Стало ужасно тихо. Вместо классиков на полу осталось размазанное белесое пятно. Я понял, что очень устал, взял топор и рюкзак и пошел к выходу. Почему-то я был совершенно уверен, что теперь найду что-нибудь интересное, но это была какая-то вялая уверенность.
Радиорубку я взломал давным-давно. В общем-то, никакая это не радиорубка – просто комната, узкая, длинная и изогнутая, в которой висит сразу пять тарелок-радиоточек, много столов какого-то технического вида, казенных и неухоженных, словно пьющий вахтер. В углу, подле окон, стоит непонятный пульт с латинскими буквами и трехзначными цифрами. Впрочем, толку от него мало, поскольку всю начинку из него выдрали, осталась только панель управления и паутина внутри.
Когда я зашел в радиорубку, все тарелки разом включились. К счастью, только фон. Ничто так не раздражает, как радиоточка, бубнящая над ухом, особенно если ты занят важным делом. Ничего, будем шарить под шум и треск. Я прошел, нарочно не оглядываясь по сторонам, – это назло, плевал я на ваши радиопередачи. Маленькая дверца полностью оправдала мои ожидания. Там, за ней, оказалась каморка, а в ней – стеллажи с консервами. Самые разные банки, не меньше пятидесяти штук. Я подпрыгнул от радости. Несколько банок я вскрыл тут же, прямо на месте, одну, кильки, просто с голоду. Эти рыбьи трупы, вперемешку лежащие в болоте помидорной крови, – нет, за всю историю мира не выдумано ничего лучше, чем банка килек вовремя. Я их моментально съел, прямо руками. Еще несколько банок без этикеток я вскрыл на пробу. Был случай, когда Дом подсунул мне кладовую, в которой все консервные банки были набиты песком. Но ничего, сейчас там оказался томатный сок. Великолепно. Я решил упаковаться под завязку. Взял с собой пять тушенок, десять каких-то рыб, а сверху бросил несколько томатных соков и сгущенок. Все. Снова пойду в актовый зал, наломаю там досок, и вот на этом топливе приготовлю себе чудесную тушенку в томатном соусе.
Рюкзак оказался совершенно неподъемным, вот-вот порвутся лямки. А мне еще лезть к себе, на шестнадцатый. Я пойду черным ходом. Последний раз, где-то с неделю назад, когда я поднимался по основной лестнице, случилось неладное. Шум воды я услышал где-то между восьмым и девятым этажом, но не придал этому значения, мне все казалось, что вода шумит внизу. Я перегнулся через перила и стал смотреть вниз, и поднял глаза в последнюю минуту, чтобы увидеть стену воды, которая показалась мне огромной. Она неслась мне навстречу сверху, по лестнице. Казалось, что Дом тонет, но только с обратной стороны. Волна ударила меня, сбила с ног, понесла вниз, ударяя о ступеньки. На лестничной площадке она припечатала меня к стене, и я стал тонуть, потому что она накрыла меня с головой. Поначалу я старался не открывать рот, но не получилось, и я наглотался. Я стал захлебываться, и было очень холодно. Я попробовал было приподняться, но не смог – вода давила на меня, как гранитная плита, а, кроме того, я сильно ударился о стену. Стало очень темно, и я понял, что это погасли флуоресцентные лампы, а, может, я потерял сознание, и я не знаю, сколько пролежал вот так, под водой, но потом вдруг оказалось, что я сижу спиной к стене на лестничной площадке, мокрый и продрогший, а кругом лужи.
Подниматься было больно, я все-таки здорово ушибся. С тех пор я перестал ходить по основной лестнице – стоит мне на нее ступить, как я слышу шум воды. Тогда я отбегаю в сторону, в коридор, за угол, и стою, прислонившись лбом к стене, чтобы как-то успокоиться.
Вот и сейчас я поднимался по запасной лестнице. Туман немного рассеялся, и день за окнами был желтоватый. Из одного окна я выглянул. Видно было Стену. Я хотел рассмотреть тот участок, где я пытался перелезть, но не смог. Она безнадежно одинаковая, эта Стена, если смотреть на нее издали.
Поднимался я очень долго, когда добрался до шестнадцатого этажа, еле держался на ногах. Теперь надо найти свою комнату. Удивительное дело! Всегда, когда я находил что-нибудь полезное, – еду или инструменты – Дом перепрятывал комнату, и приходилось часа три плутать по всему этажу. Я знаю, что окна моей комнаты выходят во двор, а сама она – крайняя, а за две двери от меня – душевая. И я петлял по знакомым, но незаметно изменившимся коридорам, а сквозняк гнал за мной следом мусор.
Да, еще. Поблизости от моей комнаты краска на стене облупилась, трещина похожа на молнию. Но сегодня ничего подобного не было. Коридоры остались прежними, было тихо. Кажется, будто я иду по барабану, так гулко звучат мои шаги. На полу у окна желто-серебристый прямоугольник света. Флуоресцентки не горят, ведь еще день. Воздух очень влажный. Тихо-то как. Даже перестука капель из кранов в душевой нет. Засосало под ложечкой, и я понял – сейчас что-нибудь будет. Опять я за старое. Снова показалось, будто кто-то стоит за спиной. Я обернулся. Ясное дело, никого. Да ведь это сердце у меня колотится, вот что. Я взялся за ручку двери своей комнаты и потянул.
Когда я их увидел, они висели неподвижно, в едином взмахе. Я сначала не понял, что это, но все-таки успел прикрыть глаза рукой – привычка такая. Птицы. Целая стая огромных серых птиц, вроде чаек, а, может, и правда чайки, они висели в воздухе, напротив двери, ожидая меня, а потом, увидев, сорвались с места, и тишина лопнула гулким шумом крыльев и визгом.
Они накинулись на меня все сразу, били крыльями по голове, рвали одежду и кожу когтями, так что шее сразу стало тепло – это кто-то из них целился в лицо, но я увернулся. Чей-то клюв, словно тупой гвоздь, воткнулся в правое плечо. Я не удержался на ногах, упал на спину, закрывая лицо руками и прижимая колени к животу. Сейчас надо перевернуться, подставить им спину, главное – беречь глаза. Мысль оказалась деловитой, назойливой, но я все равно ничего не смог сделать. Я никогда не думал, что птицы такие сильные. Удары их крыльев почти оглушили меня. Я оттолкнулся ногами от стены и перекатился к противоположной стене коридора, а меня били, клевали и рвали когтями.
Неужели все кончится так глупо? Я не закрывал глаз, только прикрыл их пальцами. Я видел бессмысленную ярость в их зрачках – это просто так, от рождения, – их желтые разинутые клювы, у некоторых испачканные красным, моей кровью, их огромные крылья и когти, и перья, их самих – серых крылатых демонов. Они кричали, пронзительно и зло, и я тоже кричал, хрипло, очень громко, так громко я давно не кричал. Я пытался перевернуться или встать на ноги, но не мог, так сильно и неожиданно они меня били. Я зажмурился.
А потом все исчезло. Разом стих визг, и меня уже никто не клевал. Я открыл глаза. По коридору, в дальний конец, прочь от меня, летело штук десять больших серых птиц, мерно и бесшумно взмахивая крыльями. А когда они долетали до поворота, они падали на пол, на лету превращаясь в какие-то лохматые комья. Я поднялся, цепляясь за стену, и пошел туда.
На полу лежало несколько куч пепла, по-видимому, от сгоревшей бумаги. Наверное, газеты. И точно – вот сохранившийся листик – на нем тускло проступали слова «прогресс» и «наверное». Потом по коридору потянуло сквозняком, и он разметал пепел. Серебристые струйки закрутились у моих ног, а после их понесло дальше, куда-то к лестнице.
Я сполз по стене на пол. Мне было стыдно оттого, что я плачу, но я не смог удержаться. Мне больно, я устал, безумно устал, мне одиноко и страшно, а тут еще эти огромные птицы, которые на лету сморщиваются, чернеют и бесшумно падают на пол кучей сгоревшей бумаги. Я теперь не смогу спать. Мне страшно, мне очень страшно. Мне страшно.
Я сидел долго. Сквозняк разметал золу, испачкал меня сажей. Сейчас надо бы пойти, умыться, посмотреть, насколько сильно меня поранили эти твари, потом надо поесть, но я не мог заставить себя подняться. Я сидел, пробовал свою кровь на вкус – у меня разбиты губы и, кажется, рассечена бровь – мерз, и мне было ужасно пусто. Пустота – естественное состояние Дома, но я до сих пор не могу к этому привыкнуть. Вот сейчас мне пусто, и от этого еще страшнее, чем от стаи птиц, которая кидается в лицо. Ну как они оказались в комнате, как? Ведь окно закрыто, а дверь я запер, и как им удавалось неподвижно висеть в воздухе, ожидая меня? Хотя, это глупо, задавать такие вопросы в Доме. Здесь ничего нельзя объяснить.
Потом я пошел в душевую. Вода, к счастью, была. Тонкая ржавая струйка, но хоть что-нибудь. Я долго умывался. Пустяки: царапина на лбу, несколько ссадин на шее. Хуже всего – правая рука, ее здорово поклевали. Я нашел три глубоких раны. Разорвал в клочья цветастую рубаху из кучи хлама в коридоре. Рубашка эта показалась мне более чистой, чем остальные тряпки, вот ею я и перевязался.
Кажется, мое отражение в зеркале снова помолодело. Теперь мне лет двадцать, не больше.
А потом я сидел в душевой на полу и подливал в костерок уайт-спирита, отчего он поднимался ввысь, шипел и взрывался. Я поглядел в темноту за маленьким мутным окном. Ночь.
* * *
Надо обязательно запомнить, как дрожат на ветру хрупкие ржавые кости антенн, а с неба падают первые капли дождя. Еще я видел двор сверху. Сегодня все-таки выбрался на крышу, это оказалось совсем не так сложно – железный люк, который, как я раньше думал, приварен намертво, оказывается, просто приржавел. Я промучился с ним полчаса и все-таки открыл. В глаза посыпалась ржавая труха, пыль и какие-то серые хлопья, люк оказался удивительно тяжелым, я изогнулся и открыл его даже не руками, а как-то спиной, сам не знаю, как. При этом я чуть не свалился с лестницы. Она очень плохая: две трубы, к которым кое-как приварены тонкие прутья, под ногой они ощутимо вибрируют и прогибаются. Пока я открывал люк, все боялся, что упаду с лестницы на площадку, или, хуже того, через перила – и еще на пролет ниже. Я вертелся, как воробей-переросток, упирался в люк руками и плечами, ощутимо краснел и потел, а мои позвонки терлись друг о друга и хрустели, а перед глазами стояло одно: вот я слишком сильно напираю на люк, и мой правый ботинок теряет опору, соскальзывает со ступеньки, еще секунду я стараюсь удержать равновесие, цепляюсь рифленой подошвой за пустоту, беспомощно шарю пальцами по потолку, все никак не могу догадаться, что сейчас нужно пригнуться и ухватиться за лестницу, ведь мысли вдруг стали неповоротливыми, вертятся только вокруг соскользнувшего ботинка, а потом пустота, и только уши закладывает, но это недолго, ведь я не разобьюсь насмерть, я упаду на ступеньки лестничного пролета, уходящего вниз, на пятнадцатый этаж, осколки ребер проткнут легкие, и кровь пойдет изо рта, станет трудно дышать, и я перестану чувствовать ноги, потому что сломаю позвоночник, и еще, может быть, я обделаюсь. Ой, нет. Не надо. Я изо всех сил гнал от себя это видение – я, как большой червяк, ползу вверх по лестнице, волочу за собой ставшие чужими ноги с неуклюже подвернутыми стопами в огромных ботинках, а подбородок у меня в крови. Ой, нет, нет. Я даже фыркнул, сплюнул вниз. Руки вспотели, от ладоней на известке остаются сероватые отпечатки, и вот, наконец, над головой что-то заскрипело. Люк открылся, и я по инерции почти выпрыгнул на крышу, вылетел туда, как пробка.
Раньше я бывал на крыше всего несколько раз – люк я открыть не мог и потому поднимался по пожарной лестнице. Она тянулась к крыше от шестого этажа, и из окна одной из комнат шестнадцатого этажа до нее почти можно было дотянуться. Если не смотреть вниз. В те разы я пользовался хитрой конструкцией из веревки и пучка изогнутых прутьев: лежа животом на подоконнике, максимально вытянувшись наружу, я забрасывал кошку на лестницу, пока прутья не цеплялись за перекладину, потом привязывал конец к радиатору, делал несколько глубоких вдохов и выходил на карниз, держась за веревку. Карниз на шестнадцатом этаже широкий – сантиметров двадцать. Теперь главное – не смотреть вниз, вот так, лицом к бетону, правая рука шарит по стене, левой я цепляюсь за веревку, прижимаю ее животом к стене. Теперь три шага, всего три, ну, ведь если представить, что я на земле или хотя бы на карнизе второго этажа, это совсем просто. Раз, два, три – и все. Но я на шестнадцатом этаже и не могу забыть об этом ни на секунду. Ноги от этого ватные, и так тянет посмотреть вниз, а этого делать нельзя. Потом, после неизмеримо долгого пути, я хватался за лестницу, и все было хорошо. Были ветер и высота, и хрупкие кости антенн, и можно было танцевать танец со смертью наедине, на краю бездны, навстречу туману. Все будет хорошо.
А в последний раз, возвращаясь назад, я увидел, что кошки с тросом нет. Вернее, они были – веревка свисала из окна, а кошка качалась на ветру, где-то на уровне окон четырнадцатого этажа. Я быстро вполз обратно на крышу и там долго не мог признаться себе, что сейчас придется возвращаться. Почему-то тогда я не подумал о люке. Я был просто уверен, что он заварен.
Я боюсь высоты. Боюсь мучительно, до дрожи в коленках, до боли в животе. Это еще одна новость обо мне. Когда я оказываюсь наедине с нею, меня так и тянет сделать еще один шаг, перемахнуть через перила, перешагнуть парапет, спрыгнуть с подоконника, да что там, я боюсь этого, до мути в голове, а ноги сами несут меня, все ближе и ближе, чтобы я смог дойти до самой границы страха, туда, где он вот-вот превратится в забытье. Я очень боюсь высоты и поэтому ищу любой возможности с ней столкнуться.
Так вот, потом я снова спустился на карниз. Не помню, как шел, помню только, что день был серый-серый, накрапывал дождь, а у меня ужасно вспотели ладони. Потом я долго сидел у себя в комнате на кровати и уныло думал одну мысль – больше я так не могу. Значит, придется искать другой путь.
Я очень люблю выбираться на крышу. Это каждый раз маленькая победа, моя победа. На крыше силы Дома как будто слабеют. Конечно, он вездесущ, и здесь я тоже в его власти, но все же на крыше мне спокойней и даже легче. На крыше я иногда не боюсь – это удивительное чувство, как будто где-то под сердцем разжимается деревянный кулак, и можно вдохнуть полной грудью. Там лес антенн, тонких и ржавых, словно паутинных, и черный рубероид, на стыках листов налиты застывшие лужи смолы, и почти никакого ограждения, только низенький, по колено, парапет, а за ним шестнадцать этажей свободы. Нет сквозняков, газет, радиоточек, отдаленных голосов и шагов, только ветер, иногда такой сильный, что трудно выпрямиться в полный рост. И еще с крыши можно разглядеть двор и Стену, и другие корпуса. Вот самый ближний – серая и неуклюжая десятиэтажка, вытянутая буквой С, унылая до безумия, а еще чуть подальше – две одинаковых шетиэтажки стоят друг напротив друга и даже соединяются двумя переходами на втором этаже (не помню, как это называется, может галерея, но я не уверен). Дальше уже трудно разглядеть. Есть еще несколько высоких зданий, не то в двенадцать, не то в четырнадцать этажей. На плоской крыше одного из них установлена огромная антенна – ажурный шпиль, уходящий куда-то вверх. Его верхушки почти никогда не видно. Я там никогда не бывал. Я вообще был только в соседней десятиэтажке и еще пару раз в шестиэтажных близнецах. А зачем мне что-то еще? Просто я знаю, что всего корпусов восемь, и у них есть невразумительные коды-обозначения, и у каждого как будто есть своя функция. Мой, например, – Аккумулятор. Есть еще Преобразователь, Имитатор, Инвертор, Выпрямитель, Репродуктор, Инициатор, Альтератор. Так, во всяком случае, пишется в Руководстве по Чрезвычайным Ситуациям.
Начинался дождь. Пока еще редкие капли, холодные и невидимые, летели откуда-то сверху и оставляли на лице влажные следы. Казалось, что я плачу. А может, так и было. Не помню. Я ловил капли ртом, но у меня не получалось. Дрожали антенны. Потом дождь пошел вовсю, стал шуршать по рубероиду и скапливаться в лужицы. Сейчас начнет течь потолок в моей комнате, и когда я вернусь, весь тряпичный хлам будет хоть выжимай, так что спать мне негде. О том, чтобы спать где-нибудь, кроме своей комнаты, и речи не было. Во-первых, не засну, это я уже пробовал, а во-вторых, даже если засну, Дом до утра будет изводить меня кошмарами и еще чем похуже. В общем-то, кошмары будут, даже если я останусь в своей комнате, но там хотя бы сердце не будет останавливаться. Ведь был же случай.
В тот раз я долго копошился в затопленном подвале, вытаскивая из-под воды очередной ящик с консервами (получалось обидно – за день я вытащил уже три ящика, полных железными банками, но во всех оказались пепел и песок). Я соорудил страшную конструкцию из палок и веревок и теперь лежал над черной водой в чем-то вроде гамака из старых одеял, пытаясь поддеть очередной ящик, смутно видневшийся где-то на дне, удочкой из толстой веревки и проволочного крюка. Когда мне это, наконец, удалось, я зацепил веревку за два колесика от детской коляски, присобаченных к старой кровати (кровать помещалась как раз на площадке лестницы, спускавшейся в воду. Мой конструкторский гений иногда внушает северный ужас мне самому). Потянул. По идее, должно было сработать, в голове крутились слова «вектор», «момент силы» и почему-то «несинхрон». Но не сработало. Когда я дернул за веревку, упершись ногами в пол, та с басовым жужжанием порвалась, а кровать, повинуясь неведомо каким законам силы, подалась вперед и резво запрыгала по ступенькам, уходя под воду, потом свалилась на бок и вовсе скрылась из виду. Я плюнул, выругался последними словами и пошел прочь оттуда.
Я был весь мокрый, уставший, есть было совершенно нечего вот уже два дня, к тому же, успешно стемнело, и подниматься к себе не хотелось. Поэтому я подыскал себе на первом этаже комнату потеплее и устроился там. Разбитое окно вполне компенсировалось двумя демисезонными пальто, из которых я свернул что-то вроде кокона. Комната была самая обычная, с хламом, поломанными стульями и железной кроватью с сетчатым матрацем. Допоздна заливалась радиоточка, выводила что-то гнусавым голосом на языке, которого я не знал. Потом меня сморил сон.