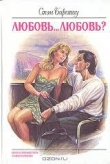Текст книги "Дом Полнолуния (СИ)"
Автор книги: Александра Лосева
Соавторы: Иван Журавлев
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
Я долго смотрела в темноту. Тени цеплялись за нее, пытаясь ожить, а она щелкала ножницами и хихикала. Я слезла с диванчика и поползла к двери, пытаясь сдержаться и не закричать, а потом услышала ее за собой и не выдержала.
Она меня поймала. Окна, слышите, она меня поймала. Намотала волосы на кулак и заставила посмотреть себе в лицо. У нее были мои глаза.
Она отрезала мои волосы, у самых корней, швырнула на пол, долго и яростно топтала, а потом исчезла. Сквозняк холодил неожиданно беззащитную шею, ветер заглядывал в комнату. Я подползла к вороху своих русых мыслей и протянула руку. Страшно было дотрагиваться. Мне все казалось, что сейчас они, как змеи, зашипят и шарахнутся в сторону или уползут в коридор – одним призраком больше, ничего особенного.
А потом из меня начала вытекать кровь. Из каждой обрезанной пряди, из каждого волоса, как будто открыли шлюзы, как будто старуха перерезала вены, а не косы. Я физически чувствовала, как пустею, как во мне воцаряется вакуум – идеальное место обитания для смерти. Кровью пропиталась одежда, кровь заливала глаза, кровь капала на пол с кончиков пальцев. Моя кровь, яркая, теплая, живая, я теряла ее, как теряют, наверное, ребенка, а с ней все, что у меня было: несуществующее завтра, неопределенное вчера, ненастоящее сегодня. Здание устроило свой праздник, просто теперь была моя очередь захлебываться.
Утром я нашла ржавые портновские ножницы возле окна и больше ничего. Только слабость, головокружение и ржавые ножницы.
Теперь она приходит каждую ночь, и все повторяется: взгляд, ножницы, кровь. Взгляд, ножницы, кровь. Взгляд, ножницы, кровь. Кровь. Я знаю, что привыкну к этой роли. Да-да, и к этой тоже. Кому какое дело, чем живет мое естество, и живет ли вообще. Что бродит внутри меня, в паутине моих хрупких костей, в мертвой пустыне моего сердца. Оно уже почти не бьется, ему не за чем, потому что крови больше нет, и ничего больше нет, ни меня, ни моих снов, ни моих слез, ни моего страха. Кажется, я делаю вид, что живу, играю с кем-то в глупую бесконечную игру. А на самом деле я умерла, наверное, уже давно, и эта старуха приходит сама к себе. А может, это я прихожу сама к себе по ночам, потому что устала и не могу больше, и пускаю себе кровь, и смеюсь над собой, потому что слишком многое стала понимать. Слишком ко многому привыкла. Стены, не рассказывайте мне сказку о бесконечности не моего бытия. Мне больше не нужен первый этаж, мне больше не нужна открытая дверь, мне больше ничего не нужно, и я сама себе тоже не нужна. Я существую из какого-то странного упрямства, просто по привычке, не знаю.
Шел снег. Опять снег. Я брела по коридору, и мне казалось, что я движусь по кругу – за окнами все пугающе-белое, бесконечно-белое, настырно-белое, насмешливо-белое. Меня не проведешь. Я-то знаю, что это не настоящая зима, она приходит и уходит, когда ей вздумается. Она тоже ходит по кругу, вокруг Здания, как лошадь на привязи, как цепной пес. А иногда неожиданно кидается на стены в тщетной попытке выцарапать Зданию глаза. Подержит его в цепких объятиях, а потом заплачет. У нее ничего не получается. Она несчастна, оттого зла молниеносно дурнеет, чернеет, скукоживается и уползает в свою конуру. А за окном тает снег, убивая еще одну белую мудрость.
Я шла по коридору и заглядывала в открытые двери. В каждую. Это был уже, черт знает, какой этаж. Я проходила по коридору, мимо окон и дверей, спускалась на два лестничных пролета и заходила в новый коридор, к новым дверям, к новым окнам, и так до бесконечности. Я ничего не искала, я ни к чему не стремилась. Просто нужно было чем-то заняться.
Что-то зудело, настырно и неуемно, у меня в голове, какая-то мысль, которая очень хотела жить. Я отмахивалась от нее, от этой мысли, я слишком устала. Я больше не могу думать. Не могу и не хочу. Это невозможно – думать здесь. Какие мысли, какие мысли были у меня раньше, какие… Нет, не хочу думать. У меня больше нет мыслей. Я не буду плодить новых призраков. Нет. Хватит. Хватит.
Я перестала смотреть в окна. Я знаю, что увижу, каждую черточку знаю, каждое пятнышко знаю, каждую колдобину, и в снегу, и без снега, и когда туман. Это как плакаты в некоторых комнатах, они тоже никогда не меняются, сколько ни смотри.
А сегодня эта назойливая мысль не дает мне покоя, зудит, бьется в висок, сжимает голову болевым обручем. Мне больно думать. Голова пылает и кружится. Что со мной? Что со мной опять? Откуда снова этот воющий скрипичный оркестр у меня в голове? Прекрати! Прекрати немедленно!
Коридор качнулся в одну сторону, в другую, я пробрела еще пару шагов и ухватилась за грязный облупленный подоконник. Пришлось закрыть глаза – слишком уж белым был снег за окном.
Дышать было жарко, губы высохли и потрескались, а по спине гулял озноб. Все-таки – зима. Ледяное стекло, подрагивающее под ударами ветра, студило горячий лоб и таяло каплями то ли воды, то ли пота.
Стало немного легче. Прекратили гудеть скрипки, ушла назойливая мысль. Коридор больше не качался. Только дыхание, дыхание очень громкое, невыносимо.
Я открыла глаза и тупо уставилась во двор. У стены, в двух метрах от кучи ржавой арматуры стояла фигура. Глупости. Не может быть. Еще одна каверза. Или бред, что вероятнее. Здесь никого нет. Кроме меня, в Здании никого нет. Никого.
Никого. Никого. Никого!
НИКОГО!!!
А он был.
Мне показалось, что стены вокруг рушатся, но нет, просто до меня наконец-то дошло. Он стоял у стены, ворошил носком ботинка кучу хлама. Потом повернулся к стене, раскинул руки, словно хотел обнять ее. Он был живой, чуть-чуть прихрамывал, с длинными спутанными волосами, в драной куртке, виднеющейся сквозь прорехи старого одеяла. Ему, наверное, тоже было очень холодно. Я не видела его лица, но я хорошо видела его руки, очень знакомые, дающие страх и надежду. Что-то зашевелилось в недрах моей несуществующей памяти – руки, руки, темный коридор, кислый запах, паутина, много паутины. Руки, руки, большие, крепкие ладони, все в порезах и царапинах, грязные, с обломанными ногтями, в ожогах. Память, что же ты делаешь со мной?!!
Руки, руки, знакомые руки, дверь, коридор, Здание, господи, да что же это такое?!!
– Забери меня-а-а-а-а-а!!!! Забери меня отсюда!!!!!!!!
Я была на первом этаже. Здание, ну, что же ты, а?! Ну, как же это ты так?! Расслабилось! Успокоилось! Погань!
Он не слышал меня. Я колотила руками в стекло, ставшее вдруг монолитным, билась об него, как, наверное, бился когда-то давно голубь. Я просила его, умоляла: обернись, забери меня отсюда, ты же можешь, ты все можешь, я знаю, я верю, только обернись, послушай, забери меня, слышишь? Я больше не могу здесь, я не могу! Обернись, обернись, ну, обернись же! Послушай, послушай, тебе же тоже плохо, я здесь, я живая, обернись, послушай, я же здесь, я здесь, слышишь, я здесь! Я здесь!
Я кричала, срывая голос, до боли в глотке, я разбила в кровь кулаки и оставляла на стекле красные расплывчатые пятна, я боялась отойти от окна, потому что это был последний шанс. Только не упускать его из виду, только не отворачиваться ни на секунду, только не дать ему уйти. Если он уйдет, Здание раздавит меня, сведет с ума окончательно, оно не простит мне своего промаха. Что же делать, Господи, он не слышит меня, а ведь от моего отчаянного крика скоро обвалится небо. Он только мотнул один раз головой, словно назойливую муху отогнал. Ну, послушай же, обернись, неужели ты совсем не слышишь, не чувствуешь, что я здесь, что я тебя ЗНАЮ?!
Он повернулся и пошел куда-то вбок, за угол Здания.
Нет, только не так, это невозможно, только не так, нет, пожалуйста, подожди, куда же ты, я же здесь, здесь! НУ ЖЕ!
Многострадальное стекло не выдержало и с тоскливым звоном посыпалось вниз, в сугроб, выдавленное изнутри. Я ухватила пустоту, порезавшись об осколки, вскарабкалась на подоконник и спрыгнула.
– Детка, что с тобой? Врываешься, как сумасшедшая. Что-то случилось? Да на тебе лица нет! Сядь, посиди, отдышись. Хочешь молока? Еще горячее, я только вскипятила. Хочешь? А? Да ты меня не слушаешь? Что с тобой, милая? Что случилось?
Это бред. Я знаю, что это бред. Потому что иначе быть не может. Иначе было бы слишком просто. Наверное, я всего-навсего наконец-то сошла с ума. Это порождение больной фантазии, воспаленного мозга. Что случилось со мной? Такие четкие линии, страшно. Страшно и больно. Хочется плакать. Что-то происходило совсем недавно, всего несколько секунд назад… или целую вечность? Я не знаю. Только вижу, слышу, чувствую, не верю и не понимаю. Это бред. Бред.
– Ну, что же ты молчишь? Тебя кто-то обидел? Расскажи мне все. Ну вот, обидели мне девочку. Расскажи, тебе станет легче. Расскажи. Я же вижу, что-то случилось. Нельзя быть такой замкнутой. Разве тебе не нужен совет? Не молчи, пожалуйста.
Она не существует. Ничего этого не существует. Я сошла с ума. Просто сошла с ума. Сломалась. Радуйся, радуйся. Тебе этого хотелось, ведь так? И что теперь? Я ведь знаю, что ничего этого не существует. Ни этой кухни, ни стола со скатертью, ни корзины с яблоками, ни женщины у плиты, ни куклы на подоконнике. Кукла… Хороши шуточки. Обхохочешься. Ничего этого не существует. Даже табуретки, на которой я сижу, тоже не существует. Это все бред. Бред. Бред.
– Бедная моя. Ты устала, наверное. Выпей молока. Ты так похудела… От лица одни глаза остались. Ты чего-то испугалась? Скажи мне, не замыкайся. Ты же знаешь, я хочу тебе только добра, я всегда готова тебе помочь.
Нет, нет. Неправда. Бред.
– Я за тебя так беспокоюсь. У тебя слишком усталый вид. Отдыхай побольше.
Это бред. Бред!
– Все-таки выпей молока. Оно такое полезное.
БРЕД!
– Ну, давай. Держи чашку. Пока не остыло. Может, ты хочешь чего-нибудь еще?
– Я хочу яблоко.
Полегчало. Хорошо, я приму это сумасшествие. Поиграем в твою игру. Мне не трудно. Мне все равно. Мне плевать. Вот она стоит у плиты, протягивает мне чашку с молоком и не смотрит в глаза. Я не хочу молока. Давай – я буду хотеть яблоко… и куклу. Играть, так играть. Будет забавно.
– Я хочу яблоко.
– На улице холодно. У тебя вон аж губы синие. А молоко горячее. Выпей лучше молока, согреешься. Яблоки, наверное, совсем промерзли. Выпей лучше молока, оно полезнее. Правда.
– Я хочу яблоко.
– Но они же еще совсем не спелые, твердые. Наверное, кислые, как лимон. Что за странная прихоть? У тебя определенно что-то случилось. Ведь так? Не смотри на меня, как сыч. У тебя неприятности? Ну, давай. Выпей молока и расскажи мне все.
Она не смотрит мне в глаза, все время поворачивается боком, я даже не могу сказать, какое у нее лицо. А голос – голос тусклый, принужденный. Она натужно-ласкова, насильно-заботлива. И это молоко в чашке, от которого вместе с паром и теплом исходит тонюсенький, еле слышный запах плесени. Здесь что-то не так. Хотя… Да что это я, действительно, – здесь все не так, от огня газовой конфорки до куклы на подоконнике. Кукла. Да, кукла. Тупо-удивленное застывшее выражение румяного маленького лица. Светлые локоны, голубые глаза, пухлые губы. Кукла. Кукла… Да, кукла. Я сказала:
– Ей, наверное, холодно на подоконнике.
Все произошло одновременно. Я встала на ноги и шагнула к подоконнику, опрокинув чашку с ненастоящим молоком. Она еще падала на пол, когда одной рукой я коснулась яблок, сделанных из папье-маше, а другой взяла куклу за руку. Кукла качнулась и рассыпалась трухой между моими пальцами, осталась только голова, изъеденная жуками, а в горке опилок копошились белые толстые личинки. Меня начало мутить, закружилась голова, в спину дохнуло холодом. Я ухватилась за трубу отопления и обернулась. Пол под ногами таял и качался зыбким маревом. Пять секунд. Я посмотрела в лицо женщины. Глаза у нее были, как у вареной рыбы. Я знала ее. Я помнила ее. Я крикнула:
– Все равно! Все равно! Я выросла!
А она в отчаянной злобе тянула ко мне руки и принимала свой привычный облик – холодную смесь темноты, паутины и тумана. Короткий вой – и все.
Я стояла на карнизе шестнадцатого этажа, держась за ржавую водосточную трубу. Ветер трепал волосы, тянул за одежду вниз. Задохнувшись высотой, вцепилась в раму окна, перебралась в коридор. Ноги дрожали. За окном шел снег.
Я не нашла его.
* * *
Хороводы, хороводы, бесконечные хороводы. Болят руки, ноги, глаза болят, болит память, как открытая рана, в которую ткнули пальцем. За что ты мне? Ты, как любопытный злой ребенок, колешь меня прутиком страха и радуешься, когда я из последних сил дергаюсь. Так нельзя. Так нечестно. Я не твоя собственность. У меня мало чего осталось, но кое-что все-таки есть. Мысли есть, сны есть, боль. Очень много боли. Чего ты хочешь от меня? Чтоб я тебя боялась? Так я не тебя боюсь, не твоих каверз, милое, я себя боюсь, сломаться я боюсь, ясно?
Чтоб мне плохо было? Мне плохо – а что дальше? Дальше что? Мне плохо, и так уже не один день, все, как по схеме. Даже уже неинтересно. Как это скучно – предугадывать боль. Я ведь все уже знаю о тебе. Знаю каждый твой механизм, как, что и когда произойдет, и что будет потом. Знаю, больше не переключаюсь с ненависти на страх, не обрываю хриплым криком кошмары. Мне страшно… Неужели тебе все это не надоело? Помнишь – у нас с тобой всякое бывало: и будни, и праздники, и победы мои глупые временные – много чего… А сейчас… Посмотри, ведь от меня почти ничего не осталось – выжженная пустыня, и та живее во сто раз. А во мне больше ничего нет, понимаешь, ничего. Даже пустыни. Раньше была, а теперь и ее нет. Вот так.
Не знаю, наверное, это очень весело – подсунуть голодному человеку испорченные консервы, а потом наблюдать, как он корчится на полу и хватает ртом сухой воздух, пережидая спазмы. Но мне почему-то смешно не было. А еще – помнишь – во сне кто-то спрашивал: «Как тебя зовут? Скажи, как тебя зовут? Как тебя зовут?» А я не могла ответить и наутро плакала. Слезы наверняка тоже очень забавны, но это опять вне моего понимания. Теперь я знаю – нет у меня имени никакого, нет – и все, и плакать тут нечего. Но ты, ты – тебе ведь уже тогда все было известно. И что – хорошо тебе? Не верю.
А помнишь, я разговаривала сама с собой, помнишь? Ты задыхалось от злобы и беспомощности, издевалось как-то особенно тщательно, я не могла понять, почему. А теперь понимаю. Тебе тоже страшно одному, да? Если бы я тогда начала беседовать с тобой, было бы легче, правда? Да. Но только теперь мне все равно. Я сильнее тебя. Я живая. А ты всего лишь делаешь вид. Знаешь, зачем ты включаешь свет в окнах других корпусов, зачем не пускаешь меня туда, зачем дразнишь? Знаешь? Да ты посмотри на себя, ты ведь никто, ничто, жалкая пустая бесполая конструкция без сути, не одно и не другое, а что-то среднее, без мыслей, без памяти, даже без названия. Ты – сплошная имитация жизни. Все эти твои окна, краны, вода, газеты, ветер, мусор, мелкие глупые пакости – попытка имитировать жизнь. Ты ведь даже не Дом, а так – серединка на половинку, Здание, торжественное исключение из правила. Ты пьешь мои мысли, надежды, страхи, отчаяние, боль – пьешь, а использовать не умеешь. Знаешь, почему ты мне умереть не дало? Ты без меня не можешь, вот что. Тебе без меня страшно. Ты любить не умеешь, а хочешь, чтобы тебя любили, заставить пытаешься. Глупость какая, Бог ты мой, какая глупость.
Я устала от тебя.
Я все шла, шла, шла к чему-то сквозь мастерски сужаемое пространство…
Сначала к неопределенному, такому желанному «там», потом к воротам, потом поскромнела до входной двери, потом искала первый этаж, потом сузилась до скользкого, верткого слова «хотя бы»… А все-таки шла. Тебе, наверное, очень хотелось, чтобы мы шли вместе, правда? Мне действительно было очень тяжело одной. Но только так не бывает. Нет Нас. Нет Нас, понимаешь? Я есть, Ты есть, а Нас – нет. И не будет никогда. И вообще, в этих стенах слово Мы существовать не может. Потому что я живая, а ты пользуешься. Поэтому я шла мимо тебя, сквозь тебя – как угодно, но не с тобой. Только не с тобой.
И неправда, что я теперь нигде и ни с чем. Вот к усталости пришла, к равнодушию. Так можно быть всегда, вечно. Точно, теперь я никогда не умру. Потому что, чтобы умереть, нужно родиться и жить, а я просто существую, без начала и, видимо, без конца. Как будто это не я, а кто-то другой сказал – так складно и умно получилось, так язвительно. Мне тебя не жалко. И себя мне уже тоже не жалко.
Я устала от тебя.
Прости, не могу иначе.
ДОМ ПОЛНОЛУНИЯ
Часть третья
Книга видений
Но ты заходи в мой Дом за углом
Этого дня.
Мы с тобой посидим за лунным столом
И помянем меня.
Зимовье зверей.
Сегодня зима, снова зима. Кто знает, которая это зима. Еще день, и я смотрю из окна своей комнаты во двор. С белесого неба без устали валится колкая крупа, ее подхватывает ветром и швыряет на стены Дома. Земля уже укрыта ею, вечные язвы и неухоженность теперь скрыты скромным холодным саваном. Не видно куч мусора, ржавых бочек, поломанных ящиков. Только ветер гонит по двору маленькие снежные вихри. Подумать только, а ведь всего пару дней назад было тепло, даже жарко. А теперь я стою, прижимаюсь лицом к стеклу и смотрю, как Дом купается во вьюге. Надо бы что-то сделать, куда-то пойти, затеять новую жизнь или хотя бы набрать дров для костра, но я не хочу. Я, не отрываясь, смотрю на холодный танец снега. Пойду сегодня во двор, буду там бродить среди леса ржавой арматуры и битых кирпичей, а за мной будет оставаться тонкая цепочка следов. Правый-левый, правый-левый. Снежинки облепят волосы и застынут на них серебряным шлемом.
Я буду жить дальше и дальше. Что-то я забыл. Что-то очень важное я должен сделать или вспомнить. Это как будто забыл закрыть кран или дверь, или закрыл, но забыл, как это было, и теперь ходишь где-то далеко, и время от времени тебя что-то донимает, и сам не знаешь, что. А потом вдруг, как молния: кран! дверь! Вот так же и со мной, но только сильнее, и я все никак не могу вспомнить, что же я должен сделать. Знаю только, что это случится вот-вот, и никак нельзя опоздать.
Я, наконец, оторвался от оконного стекла и прошелся по комнате. Меня погубит не Дом. Меня погубит скука. Это естественный исход любого долгого одиночества и страха. Скука. Каждый день по сто тысяч раз из угла в угол и по лестницам. Этажи, этажи, коридоры и комнаты. Я привык ко всему, к чему нельзя привыкнуть, и вот пришла скука, а с ней пришла зима. Я знаю, она будет долгой, длиннее, чем раньше. На стене похрипывает радиоточка, скоро она начнет петь. Я поднял с пола топор, грациозный и тонкий. Это одна из самых красивых вещей в Доме. Диву даюсь, откуда на обдолбанном пожарном щите взялась такая красотища. Мой топор похож на балерину. У него длинная, чуть изогнутая рукоятка, тонкое, черное, злое лезвие, вечно холодное и безупречное. Мой топор. Тебе немного не повезло с хозяином. Иногда мне хочется стать таким, как ты – острым, неумолимым и решительным, но нет, мы, наверное, просто идеально дополняем друг друга. Я повертел топор в руках и вышел из комнаты. Коридор холодный и белесый, как небо, голодными ртами смотрят двери, а мимо них иду я. Трещины в известке, ветер намел на подоконнике сугробик, по краям он уже потек лужей.
Это так просто – толкнуть входную дверь и выйти наружу. Но на этом все заканчивается. Ну что ж, никто не обещал, что у этой истории будет хороший конец. Как там говорил Собеседник? Что-то я его давно не видел.
Стена не меняется никогда, ни зимой, ни гипотетическим летом. А чего ей меняться – она огромная, монолитная, гладкая… Иногда мне кажется, что весь мир состоит только из нее… Нет, что-то мне сегодня даже придумывается вяло. Скучно. Я раскинул руки, как будто хотел обнять стену, ветер трепал старое одеяло, пробираясь под одежду, и ощутимо щипал за бока. Вот он я, смотри – ничего нет у меня за душой, и души тоже нет, смешно… Не могу. Свербит затылок, как будто кто-то уставился в спину и смотрит, не отрываясь. Обычные штучки. Первый раз, что ли? Так вот, Стена. Из-за нее приходит туман, за ней, наверное, огромная паровая машина, в которой он прячется до поры до времени. А потом переливается во двор. А может, Дом – это огромный стакан, из которого кто-то пьет лекарство…
Да ну, блин, что такое сегодня! Пришлось даже головой помотать, чтобы ушел настырный звон, а еще тихий стук, как будто муха об стекло бьется. К черту. К черту всех мух, не хочу, надоело. Постоял еще немного. Тревожно. Нет, не получаются сегодня прогулки в снегу. Повернулся и пошел обратно. И вдруг – звон разбитого стекла. Повернулся резко, даже шея как-то жалобно хрустнула. Окно на первом этаже, как раз напротив того места, где я стоял, выбито, по всей видимости, изнутри. Странно, ветер бесится снаружи – неужели в коридорах такой сквозняк, что окна вылетают? Я подошел к осколкам, которые поспешно заметала белая крупа, пошевелил их носком ботинка. Стекло как стекло. Вот только… Что это – красное – кровь?
Нет, хватит с меня. Хватит.
* * *
В круговерть сна, бессвязного и непонятного, ворвался шум воды. Еще в полудреме я расшвырял барахло, которым укрывался, и скатился на пол. Осмотрелся. Под потолком покачивалась тусклая лампочка на шнуре, которую я предусмотрительно зажег вечером, в окне была темнота, оттуда тянуло ледяным сквозняком. Мой этаж наполнен шумом воды. В который раз меня постиг невидимый ночной потоп. Это происходило уже бессчетное количество раз, а я все не могу привыкнуть.
Я стоял у окна, смотрел, как растекается лужа, считал про себя вдохи-выдохи, чтобы немного успокоиться. Потом шум воды в коридоре начал стихать. Она уже не ревела и не бросалась на стены, сметая все на своем пути, а просто громко плескалась, перетекая из комнаты в комнату. Постепенно сквозь плеск я начал слышать вой ветра за окном. Да сегодня же метель, вон он как мечется. Еще через некоторое время в коридоре все стихло, и осталась только песня ветра. Тогда я подошел к двери и решительно дернул ее. Я знаю, что ничего нового в коридоре не найду, но выходить туда после каждого ночного потопа – это уже традиция, привычка, от которой мне трудно отказаться, да и не за чем.
Как я и предполагал, в коридоре было пусто и сухо. Вдалеке серело окно, за углом мигала лампа, изредка посылая оттуда снопы призрачного света. Тут краем глаза я заметил какое-то движение, резко обернулся. Внутри все оборвалось, и на секунду стало совершенно пусто. Под стеной, в нескольких шагах от моей комнаты, что-то было. Что-то серебристое, не очень большое, наверное, живое, потому что шевелилось. Оно дергалось и выгибалось, словно хотело прыгнуть всем телом, но не могло. Я оторопел, потом подошел ближе. Мокрое шлепанье сильного, ловкого тела, серый перелив плавников. На полу в коридоре билась довольно большая рыба, невесть как сюда попавшая. То есть очень даже как, ее водой сюда принесло. Она извивалась упорно и сильно, потом замирала на секунду, выгнувшись дугой, чтобы поймать немного воздуха, но ничего не выходило, и рыба снова начинала биться, негромко шлепая хвостом об пол. Определенно, долго ей так не протянуть.
В душевой, что возле моей комнаты, есть большая железная бочка, почти до верху заполненная водой. Одно время, когда Дом баловался отключением воды, я делал в этой бочке запас. Там и сейчас должно быть, причем вода не зацвела. Я подошел к рыбе и попытался ее схватить, но это было совсем не просто. Она была сильная, скользкая, легко вырывалась у меня из рук, а я боялся ей повредить. Потом рыба ослабла, стала биться тише и все чаще замирать, хватая воздух жабрами. Тут я ее и схватил. Она дернулась в ладонях, затихла, выгнувшись. Я бегом кинулся в душевую. Дверь заклинило, так что пришлось налечь на нее плечом. Бочка оказалась на месте, под дальней стеной, выложенной белым кафелем. Рыба еще шевелилась и делала слабые попытки вырваться. Я опустил ее в бочку и разжал руки. Несколько секунд ее тело было неподвижным, а потом в него вернулась жизнь. Рыба шевельнула хвостом, сначала вяло, потом увереннее, описала небольшой круг, а потом плавно шевельнула плавниками и нырнула на дно бочки, видимо, отлеживаться и успокаиваться. В отблесках флуоресцентной лампы ее тело казалось серебряным. Ничего, – сказал я рыбе, – и это мы переживем. И пошел спать, потому что завтра – сложный день, есть нечего, и надо срочно где-то найти.
Вот так появился Вильям. Имя ему я придумал на следующий день, вернее, оно само придумалось, с ударением на последнем слоге. Вильям – ну и Вильям. Наутро, после недолгого сна, в котором меня преследовал шум воды и запертые двери, я проснулся разбитым, смутно припоминая, что же там такого произошло ночью. А потом вспомнил – ах, Вильям! И побежал смотреть, есть ли он на самом деле. В окна лился желтоватый дневной свет.
Вильям оказался настоящим. Он не развоплотился, не превратился в тряпку или мятую газету, не издох от удушья в тесной бочке. Он был живехонек, даже приободрился, плавал от дна к поверхности и, когда я подошел к бочке взглянуть на него, замер и сделал «бульк», как умеют делать только рыбы. При этом он как будто посмотрел на меня. Вильям меня узнал. Я помахал ему и коснулся воды пальцем. Ты у меня будешь Вильям, – сказал я ему, а Вильям снова поднялся к поверхности и описал круг почета.
Вильям оказался рыбой типа селедки, я не очень разбираюсь. Он прекрасно прижился в пресной мутной воде из-под крана. Вильям – на редкость красивая рыба, с чешуей, отблескивающей серебром, и мощными плавниками.
В тот день я нашел еды: консервов и сухарей. Притащил в комнату, варить что-нибудь мне стало лень, и я вскрыл банку консервов, а потом растер сухарь и понес его Вильяму. Селедки, вполне возможно, едят сухари, а если даже и не едят, все равно придется, потому что больше ничего нет. Вильям все съел, так что проблема с питанием тоже разрешилась.
Зима пришла надолго. Весь двор был завален снегом, каждый вечер за окнами начиналась метель. Холодно. По коридорам гуляет ледяной сквозняк, я кутаюсь в куртку, а иногда прихватываю с собой драное одеяло. Если просунуть в дырку посредине голову, то получается вполне сносное пончо. В нем можно выходить на улицу.
Теперь я часто сижу в душевой у бочки и смотрю, как Вильям выписывает круги, а завидев меня, делает «бульк». Я слушаю, как за стеной воет ветер, как он кидается на бетонную громаду Дома, а с ним – орда снежинок. В коридорах шуршит мятая бумага, хлопают двери, дребезжат оконные стекла, и мне кажется, что я убежал от всего этого на секунду. Я закутываюсь в одеяло поплотнее и смотрю, как в прозрачной глубине шевелит плавниками Вильям. Мы похожи – у каждого своя бочка и горсть крошек. Только вот мне не на кого смотреть из-под воды и пускать пузыри, и если меня вдруг выбросит на холодный цементный пол ночного коридора, где нечем дышать, никто меня спасать не кинется. Я сижу и смотрю на Вильяма. А иногда разговариваю с ним. За стеной надрывается ветер.
* * *
Тогда вечером я ходил по комнате из угла в угол, подходил к окну и подолгу стоял, прижавшись лбом к стеклу. Ветер поднялся еще днем, а к темноте усилился, выл и дребезжал стеклами. От окна веяло холодом. Что-то я забыл. Чего-то не сделал или не услышал. Не увидел. Что-то происходит сейчас в Доме именно из-за этого, я не могу объяснить, почему так. Вот уже несколько дней мне неспокойно. Дом продолжает свои шуточки, но даже здесь что-то не так. Я где-то ошибся, я знаю, и самое страшное, что уже ничего не поделаешь. Шевелится внутри меня какое-то существо, очень похожее на совесть. Что-то я пропустил, убил. А может, помог убить. Или помогаю сейчас.
А Дом как будто отвлекся от меня в ожидании чего-то большего и изредка подбрасывал мне всякие каверзы, чтобы я не заскучал. Может быть, все дело в свете. Он кажется мне слишком ярким. Все звуки приблизились и стали невыносимо резкими. Я слышу, как в дальнем конце коридора падают капли в душевой, и, главное, я слышу ветер. Оказывается, он все время говорил со мной, только я не понимал. А сейчас почти понял. Он поет тысячей голосов. Это началось с приходом зимы. Вместе с зимой ко мне пришла тревога, почти новое чувство. Не тупое отчаяние повседневности, не ужас кошмарных снов, не безнадежность подвальных коридоров. Тревога. Странное беспокойство, скребущееся где-то в животе. Я зажигал везде свет, чтобы разогнать ночь, садился в угол и прижимал к груди топор, затравленно оглядываясь по сторонам.
Дом что-то затеял, я знаю. Все эти затихающие шаги, далекие шумы, танцы света и тьмы – неспроста они преследуют меня так настойчиво. Что-то приближается.
Мне не хотелось спать. Что-то искало меня, что-то притаилось в темных углах, вынюхивая мои следы, и теперь оно, кажется, нашло меня. Я еще не знаю, что, не знаю, есть ли оно на самом деле. Просто мне ужасно неспокойно, а по ночам страшно смотреть в окно. Кажется, что кто-то стоит снаружи и вглядывается мне в глаза. Кто-то, кто-то у дверей.
За спиной у меня раздался кашель. Появился Собеседник, полупрозрачный, но все же ощутимо в ватнике.
– Боишься? – спросил он.
– Мне неспокойно.
– Боишься.
– Что-то будет. Что-то очень плохое.
– Ну и что?
– Страшно. Это что-то необычное. Что-то совсем новое.
– Ну и что?
– Оно совсем рядом. Я чувствую, оно сильнее меня.
– Ну и что?
– Я боюсь! Просто боюсь, боюсь, боюсь! Ну, разве непонятно? – я прошелся по комнате, помахал перед ним руками. – Оно произойдет, неизбежно.
– Теперь точно произойдет.
– Знаешь, ну, как-то… Мне иногда хочется умереть раз и навсегда. Я не могу вот так, каждый день.
– Чтобы умереть, надо сначала родиться, а потом жить. А ты существуешь – без начала и, видимо, без конца. Так что толку болтать о смерти? Сам-то ты в своих проблемах разобраться не можешь, вот и ждешь, чтобы кто-то пришел и задушил тебя во сне.
– Почему во сне?
– Сам догадайся.
Собеседник направился к двери и, уже выходя, бросил через плечо:
– Хочешь свободы – спи побольше.
Но это было тогда. А сегодня, когда я вернулся после долгого похода на другие этажи, Собеседник поджидал меня в комнате, расхаживая из угла в угол и поднося поминутно к лицу сложенные в благословении пальцы. Как будто курил невидимую сигарету. Он взглянул на меня исподлобья, сел на подоконник и спросил:
– Как ты мог такое допустить? Зачем, ну, зачем тебе это, ты же сам не знаешь, с чем ты связался, а туда же.
– Куда? При чем тут? Ты что, перегрелся? Так пойди во двор, посиди, там метель, живо остынешь. Чего разорался?
Я снял с плеча пустой рюкзак и швырнул его под кровать, прислонил топор к стене. Настроение паршивое, а тут еще он раскудахтался.
– Это я тебя должен спросить, чего. Это у тебя надо узнать, какого лешего ты сидишь, руки в бока уперев, когда такое делается.