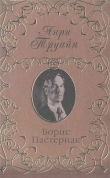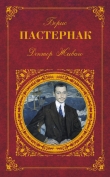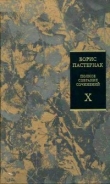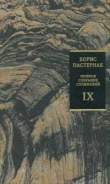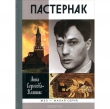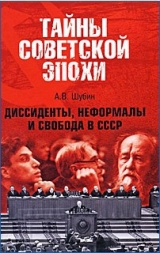
Текст книги "Диссиденты, неформалы и свобода в СССР"
Автор книги: Александр Шубин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 34 страниц)
В 1962 г., благодаря журналистcкой поддержке С. Соловейчика в «Комсомольской правде», обкомы комсомола дали инициативе «зеленый свет». В 1964 г. в Братске состоялся «Всесоюзный коммунарский сбор», в котором приняло участие около 200 делегатов. Даже без учета откровенно «дутых» организаций в коммунарство были вовлечены тысячи подростков. Но в то же время в коммунарстве нарастали противоречия.
Рассказывает В. Хилтунен: «Сима Соловейчик узнал об этом опыте году в 60–м, приехал и начал популяризировать. И участвовать. Иванов очень болезненно относился к попыткам разрушения важных для него идеалов. А у Симы была близость к либеральной среде. В коммуне усилились либерально–западнические настроения. И постепенно Сима сделал из этого всесоюзную диссидентскую организацию. Хотя и умеренную, ориентированную в первую очередь на творчество, а не на коммунализм. С мощным лабораторно–учебным центром в виде «Орленка». Он перехитрил всех, кого мог. До какой–то поры Иванову все это было понятно и интересно, потому что он думал, что это идет в развитие его основной идеи. А потом произошла аннигиляция. Соловейчика привлекала творческая составляющая коммунарства, его креативность и игривость. Поскольку она совпадала с коллективизмом, Симу это устраивало, а поскольку нет – коллективизм раздражал своей ритуальностью и круговой порукой» [1057]1057
Хилтунен В.Р. Беседа с автором.
[Закрыть].
В конечном итоге влияние Иванова упало [1058]1058
И. Иванов создал Коммуну им. Макаренко – студенческое научное общество, разрабатывавшее коммунарские идеи. Он стал противником социальной активности нового поколения педагогов, прошедших коммунарскую школу.
[Закрыть]. По выражению Р. Соколова «Буратино прогнал папу Карло. Но, прогнав его, коммуна потеряла стратегическую цель, которую Иванов не мог заявлять открыто. Движение не смогло своевременно воспроизвести социальную стратегию и было обречено на постепенное затухание со временем» [1059]1059
Соколов Р.В. Беседа с автором.
[Закрыть]. Видимо, это не совсем так. Взгляды нового поколения коммунаров все же оставались коммунистическими, хотя и не ортодоксальными. О. Мариничева вспоминает: «Мы строили свою мечту по «Туманности Андромеды» ученого и писателя Ивана Ефремова; по духу, а не букве ленинских работ. Мы отбрасывали, как отслужившие свое, все эти «диктатуры», но вычитывали у Маркса, Энгельса свое: что коммунизм – это производство развитых форм общения; что это общество, построенное по законам гармонии… И все же мы, если и боролись с системой, то именно тем, что переделывали ее изнутри. Спасала еще и внешняя общность коммунистических терминов – с той лишь разницей, что система ими лишь прикрывалась, а мы по ним жили» [1060]1060
Мариничева О. Идеалисты // Комсомольская правда. 8.11.1990. www.altruism.ru/sengine.cgi/5/22/4
[Закрыть]. Да, они жили по своим законам (можно ли их назвать коммунистическими – другой вопрос, слишком много там было жесткой традиционности и авторитарности) [1061]1061
Об общении автора с поздними коммунарами см. также Шубин А.В. Преданная демократия. С.77–79, 94–96.
[Закрыть]– но только в свободное от жизни в обществе время. Они погружались в свой виртуальный «коммунизм» время от времени, как горожанин ездит на дачу.
Размежевание с Ивановым стало проявлением более серьезного кризиса, постигшего движение в середине 60–х гг. Причины его, так и не изжитые, заключались в противоречии между коммунарством как педагогической технологией и коммунарством как социальным движением. Первоначально рассчитанное на социальную экспансию, на воздействие «вовне», движение создавало психологически комфортную среду, из которой не хотелось выходить в «застойный» мир. «Коммунары представляли собой команду, которой, конечно, было внутри себя хорошо, но на внешнее окружение, его изменение, она не работала» [1062]1062
Сумнительный К. Беседа с автором.
[Закрыть], – вспоминает К. Сумнительный. Коммунары «раскручивали» подростков, увлекали их своими «коллективными творческими делами», но затем либо интегрировали в свою среду, либо оставляли наедине со «скукой брежневских времен». Эта беда преследовала движение в течение всех 70–х гг. Она была характерна и для иных неформальных движений того времени. «Задачи защищенности и креативности приводили к тому, что страдала социальная активность. Им было хорошо друг с другом. А кому–то не удавалось творческое, креативное начало, но он пестовал форму. Креативность на высокой «точке кипения» всегда выплескивалась в социум, но можно было до этого не доводить. Коммунары били стекла в горкомах партии в Ленинграде и Салавате в 1966–1967 гг. Понимая свою ответственность за судьбу этих ребят, педагоги пытались кастрировать социальный радикализм… Сима все–таки тоже был человеком компромисса, и этому тоже хотел нас учить. Он говорил: «Выживает то, что не скандалит». Самые большие проблемы у него были не после критики, а после положительных очерков. Альтернатива страшнее критики. Всякие попытки с чем–то сражаться во всей истории человечества кончаются полной ерундой. На самом деле людям нужны модели развития» [1063]1063
Хилтунен В.Р. Беседа с автором.
[Закрыть], – подводит итог В. Хилтунен.
Обнаружив, что коммунарство – не просто педагогическая инициатива, Система потребовала от коммунаров войти в понятные рамки. В декабре 1965 г. в отделе учащейся молодежи ЦК ВЛКСМ состоялась встреча комсомольских функционеров с лидерами коммунарских объединений (Ф. Шапиро, В. Караковский, Р. Соколов и др.). «ЦК ВЛКСМ предложил нам «выбор», – рассказывает Р. Соколов, – мы можем унифицироваться по тому или иному образцу. Но унифицироваться обязательно – единая форма, единая методика и т.п. Иначе ЦК не мог взять на себя ответственность за нас перед партией. Мы отказались. Комсомольские функционеры пожали плечами и предложили решать свои проблемы на местном уровне. А там началось удушение. Не везде сразу. Но постепенно самостоятельным коммунарским группам пришлось уйти в подполье» [1064]1064
Соколов Р.В. Беседа с автором.
[Закрыть]. Официальным структурам, прежде всего ВЛКСМ, удалось взять на вооружение «технологию», аккумулировав часть движения в систему школ и «штабов» комсомольского и пионерского актива.
С. Соловейчик организовал в «Комсомолке» приложение «Алый парус», посвященное энтузиастам–педагогам. Соловейчик некоторое время рассматривал его как «новую искру», в которой новое поколение сможет почти открыто высказываться. Дети вырастали в журналистов, знавших правила «внутренней цензуры». После ухода Соловейчика из «Комсомолки» «Алый парус» стал меньше заниматься педагогикой, и сторонники коммунарства сформировали группу «Комбриг», вокруг которой сложился круг подростков и педагогов–журналистов (В. Хилтунен, О. Мариничева, Б. Минаев (в будущем – главный редактор журнала «Огонек»), В. Юмашев (в будущем – биограф Б. Ельцина и руководитель администрации президента) и др.), для которых социальных аспект неформальной педагогики был важнее коммунарской технологии. «Комбриг» организовывал коммунарские сборы, на которых журналисты тесно общались с подростками. Творческая среда коммунарского сбора рождала новых авторов и помогала журналистам мыслить свободней. По словам В. Хилтунена, «журналистика оказалась единственной формой жизни, которая позволяла между коммунарскими сборами вести жизнь, похожую на сбор – творчески мыслить, уклоняться от пирамидальных властных форм, жить в условиях самоорганизации своего производственного процесса» [1065]1065
Хилтунен В.Р. Беседа с автором.
[Закрыть]. Группа журналистов, близкая коммунарскому движению, была частью более разветвленной журналистской «мафии» 60–80–х гг., помогавшей различным педагогическим инициативам.
В 70–е гг. в коммунарском движении усилилось сектантство. «В состав коммунарской технологии входила выработка «заповедей» группы. Проходил коммунарский сбор, и по кругу шло обсуждение некоего «общественного договора» – правил жизни группы. В конце концов вырабатывалось несколько «заповедей», принимавшихся всеми. И они были освящены коллективным авторитетом. Группа существовала несколько «поколений», и устойчивые образования естественно возглавлялись стариками – «хранителями» заповедей. Их власть была велика, так как структура группы обычно была военизированной. Но потом приходили новые активные люди. Кто–то принимал «заповеди», а кто–то входил с ними в конфликт – ведь «заповеди» были актуальны в то время, когда их принимали. И в итоге «реформисты» становились «раскольниками» – они изгонялись.
В то же время наряду с такими «традиционалистскими» группами существовали группы «миссионерские». Для них главным было не воспроизводство этой структуры, их лидеры вполне были социализированы в жизни. Они ездили по стране и «несли слово Божие». Они показывали школьникам и педагогам, что нельзя жить в тихом болоте, что можно жить иначе. «Миссионеры» уезжали, все снова погружалось в гнилую тишь, но кого–то это будило. У «миссионеров», видимо, не было разработанной социальной программы, они стремились приблизить коммунизм. Но само понимание коммунизма у коммунаров этой волны было очень «широким». Где–то в 1982–1983 гг. В. Хилтунен говорил мне: «Ко мне сегодня заходил один человек, и мы с ним беседовали о раннем христианстве. Но мне кажется, что коммунистическая идея шире, чем раннее христианство». Если коммунистическая идея шире раннего христианства, то она во всяком случае шире марксизма» [1066]1066
Сумнительный К. Беседа с автором.
[Закрыть], – рассказывает К. Сумнительный. «У нас было такое объяснение, – комментирует В. Хилтунен, – которое возникло после чтения одного из детских писем: «В мире есть две идеи, которые занимают душу целиком: Бог и коммунизм». Все остальные идеи тоже хороши, но человек не может придумать третью идею такого же масштаба. Всякий человек, не имеющий этих двух идей, начинает съеживаться душевно. Эти идеи по сути не враждебны. Я объяснял, что большая часть людей, которая томится сморщенностью души, идет по религиозной тропе – эта тропинка прописана. «А идея коммунизма, – говорил я тогда ребятам, – прописана только у Ефремова и у Урсулы Легуин. По сути говоря, никакого третьего текста нигде нет, потому что другие тексты ничем не пахнут. Мы созидаем эти тексты на наших сборах. Мы проживаем ненаписанную практику коммунизма. И это может вылиться в то, что может быть описано. Мы герои, потому что по ненаписанным нотам пытаемся воспроизвести симфонию»» [1067]1067
Хилтунен В.Р. Беседа с автором.
[Закрыть].
Ортодоксальная часть коммунаров стала искать «дело», где коммунарская методика могла бы принести наибольшую пользу, очевидную и для общества, и для властей. Р. Соколов пропагандировал «культ–армейство» – создание армии, борющейся за повышение уровня культуры среди подростков. Армия должна решать нелегкие задачи – «культармейцы» принялись за трудных подростков. Клуб «Орион» (1968–1970) создал «Курсы общественных профессий», выпускники которых в 1970 г. сформировали «Дружину юных культармейцев». Вместе с кафедрой педагогики и комитетом комсомола МГПИ им. В.И. Ленина они создали «Экспериментальный педагогический отряд». Получив помещение, отряд развернул работу в досуговом центре «Форпост коллективного освоения культуры» имени С. Шацкого.
«Алый парус» поддержал это начинание. Опыт педотрядов получил поддержку коммунарской среды.
Главным актом педотряда был «десант», аналогичный коммунарскому «сбору». «Десанты» высаживались в детским домах, колониях, в селах.
От коммунаров педотряды унаследовали педагогическую технологию и организационную структуру (сборы, советы комиссаров). Но они пошли дальше. Около 10 коммунарских групп в 1972 г. объединились в Коммунарское макаренковское содружество, а затем, чтобы нормализовать отношения с ВЛКСМ, курировавшем эту сферу, – в Содружество макаренковских комсомольских педагогических отрядов. Но единую организацию создать не удалось – один из лидеров Ю. Устинов был в 1973 г. обвинен соратниками в недостойном поведении, и движение раскололось на его обличителей и защитников.
Своеобразной разновидностью педагогических отрядов стали летние «профильные» лагеря при научных учреждениях, работавшие с одаренными подростками. Эти лагеря были и рассадниками инакомыслия, иногда довольно демонстративного. Так, в столовой летнего лагеря под Красноярском висел лозунг: «На штурм вершин науки не пошлешь морскую пехоту».
В 1973 г. С. и В. Икрянниковы, лидеры «Экспериментального педагогического отряда студентов и старшеклассников» (ЭПОСС) выступили за соединение коммунарского воспитания с производительным трудом, как это делали в свое время С. Шацкий и А. Макаренко. Но советское законодательство запрещало детский труд.
Новая попытка объединения была предпринята в 1975 г., когда на слете двух десятков педотрядов на Волге был даже создан устав Содружества как самостоятельной организации. Но под давлением умеренного крыла движения от его принятия отказались. Во второй половине 70–х гг. ЦК ВЛКСМ снова усилил давление на коммунаров. «Ко мне прицепились, – рассказывает Р. Соколов, – доказывая, что мой отряд неправильный, поскольку в комсомольском положении было написано, что комиссаром отряда может быть либо коммунист, либо комсомолец. А я ни то, ни другое. Я им отвечаю: «Как же отряд неправильный, когда мы это все и начинали. Я же это все придумал!» «А это неважно, что ты это все придумал, ты теперь под постановление не подходишь. В комсомол вступать поздно, в партию – кто примет? Так что получаешься, ты – самозванец» [1068]1068
Соколов Р.В. Беседа с автором.
[Закрыть].
Под эгидой комсомола движение педотрядов «продержалось» до 80–х гг. Но кризис 60–х гг. повторился в конце 70–х. «Мы ездили, возбуждали, – вспоминает В. Хилтунен, – возникала группа молодых людей, которая спрашивала – а куда дальше идти? Ответить мы не могли. Это была только скорая помощь. «Комбриг» поставил перед нами ультиматум: «Мы не хотим заниматься социальным провокаторством. Нужно что–то новое. Тогда мы занялись семейными клубами и Загорском. Слой, который мог делать что–то реальное, был очень узким. Люди выросли и отчасти ушли в похожее на коммунарство игрище семейных клубов. Оно подобрало почти всех, кто мог быть подбираем. Часть бездетных радикалов «чегеварного» типа ушли в Загорск. Загорск был последним козырем марксизма, поскольку доказывал – сознание можно формировать извне. Здесь снималась проблема социального провокаторства, потому что этим детям можно было сделать только лучше» [1069]1069
Хилтунен В.Р. Беседа с автором.
[Закрыть]. Эксперимент в Загорске был начат еще при участии философа–марксиста Э. Ильенкова, разрабатывавшего методику формирования интеллекта практически не развивавшихся слепо–глухонемых детей с помощью организованной педагогами моторной деятельности. После гибели Ильенкова коммунары–педотрядовцы решили взять «шефство» над детдомом. Педотряд А. Савельева, А. Вакуленко и др. работал с детьми, раз в неделю устраивая коммунарский «табор» для местных детей и приезжих семей, в большинстве своем – участников движения семейных клубов. Через эти сборы прошло 11–12 тысяч человек.
Большая часть пост–коммунарского движения в конце 70–х гг. эволюционировала в семейно–педагогические клубы – ведь организаторы общественно–педагогического движения уже обзавелись семьями. Активное участие в их создании принимали семьи Хилтуненов, Соколовых, Никитиных и других неформальных педагогов.
Поскольку в школе возможность применения новых методик была ограничена консервативным контролем администрации, все большее количество родителей начинало брать дело образования в свои руки. Несмотря на то, что новое движение не было чисто коммунарским по составу, коммунары имели большой опыт самоорганизации, и новые клубы оказались под их значительным влиянием. Клубы создавались в Москве, Пущино, Ленинграде и других местах. В Северной столице клубы объединяли до тысячи человек [1070]1070
Чаплина Н. Колокола детства. М., 1985. С.39.
[Закрыть].
Проходили межгородские встречи. «Съезды семейников постоянно происходили в том же Загорске, – рассказывает В. Хилтунен. – Семейные клубы часто приезжали сюда на сборы. Горкому партии было нелегко терпеть в центре города ночные костры, но нас поддерживали некоторые московские чиновники, которые посылали письма местным властям на важных бланках, и коммунаров не трогали. Нашли дешевую гостиницу, создали неформальный университет, где участники что–то рассказывали друг другу. Однажды возникла возможность прорыть канаву отопления для Загорска, и шоссе перекрывали для этого только на сутки. Мы бросили клич, и приехал сотни людей. И все вместе копали. А в это время был какой–то религиозный съезд, и над нами шли священники самых разнообразных конфессий, заглядывали вниз и спрашивали – что здесь делается. А мы отвечали, что это свободный труд свободно собравшихся людей» [1071]1071
Хилтунен В.Р. Беседа с автором.
[Закрыть].
Клубы культивировали здоровый образ жизни – большую популярность в их среде приобрели методы закаливания, которые проповедовались Б. и Л. Никитиными, другими энтузиастами, возрождавшими традицию единения с природой, заложенную еще П. Ивановым. Закаливание влекло за собой изменение других сторон жизни семьи. Н. Чаплина пишет об этом: «Раздел ребенка, обеспечь ему возможность растрачивать энергию, двигаться, возиться. Как это сделать в малогабаритной квартире?» [1072]1072
Чаплина Н. Указ. соч. С.33.
[Закрыть]Родители выходили из положения с помощью хитроумных физкультурных приспособлений, но этот образ жизни «задыхался» в урбанистической среде. В результате увлечение педагогикой тесно переплеталось с коммуналистским движением – восстановлением общинной традиции самоуправления и взаимопомощи по месту жительства. В Ленинграде даже была предпринята попытка образовать семейную коммуну с общим жительством и воспитанием детей. Предпринимались попытки создать педагогическую общину в сельской местности, но дальше летнего отдыха дело не пошло. Устойчивая педагогическая община («Китеж») возникнет только в 1993 г. на иной основе.
* * *
Движение коммунаров продолжало воспроизводиться через ДК, дома пионеров и школы. М. Кожаринов вспоминает о начале своей коммунарской жизни в 80–е гг.: «Своими «генеалогическими» корнями наша история уходит в историю «Дозора» – педотряда коммунарского толка при АПH (лаборатория психологии подростка института психологии), где работал Лишин О.В. – руководитель объединения. В начале 80–х годов «Дозор» увлекался темой «заражения» школ с более–менее нормальными директорами коммунарством. Только на моей памяти это попытки «устроить революции» в минимум четырех школах (в школах Малаховки и Лыткарино – городов–спутников Москвы – и 91–й и 23–й в Москве)» [1073]1073
Кожаринов М. Эволюция идей во времени или История Системы. / Технология альтруизма. www.altruism.ru/sengine.cgi/5/23/2
[Закрыть]. В каждой школе ученики вовлеченные в коммунарскую деятельность «Дозора», начинали вести себя на уроках слишком вольно, и директора прекращали эксперимент.
Студенты–физики из МГПИ им. Ленина, приобщившиеся к коммунарству в «Дозоре» (М. Кожаринов, В. Соколова, И. Колеров), политизировались, выдвинули идею создания системы коммунарских организаций, преобразующих общество. Для Лишина это было слишком.
В итоге «Дозор» распался, но его осколки образовали новую общественную структуру, первоначально включавшую клуб по месту жительства «Рассвет» и педотряд «Ветер». Позднее был создан еще отряд для школьников «Стрела», и структура обрела целостность под названием РВС.
В поисках новых форм работы РВСовцы соединили коммунарское социальное моделирование и романтику, присущую таким группам, как свердловский детский клуб «Каравелла», которым руководил известный детский писатель В. Крапивин. Он «упирал» на сказочный антураж, фехтование, походы, морское дело. С использованием этого опыта один из идеологов РВС М. Кожаринов разработал метод большой ролевой игры (БРИГ): «Автор идеи совершенно логично рассуждал, что понять некие процессы – социальные, исторические, экономические – детям лучше всего в игре, причем в такой игре, о которой никто и никогда не слышал. Так появился первый БРИГ. Терминология: БРИГ – Большая Ролевая Игра. Имеется в виду игра с числом участников не менее 50 человек и с выездом на местность» [1074]1074
Батыршин Б. История Ролевого движения. // www.kulichki.com/tolkien/arhiv/fandom2/bbb.shtml
[Закрыть].
В 1986–1987 гг. в устье Нерли и в Москве прошли «феодальные бриги», моделировавшие средневековое общество [1075]1075
См. Шубин А.В. Указ. соч. С.78–79.
[Закрыть]. По замыслу коммунаров в дальнейшем можно было бы моделировать и коммунистическое общество. Однако судьба зарождавшегося ролевого движения сложилась иначе. После распада СССР оно встало на коммерческую основу и в преобладающей части стало орудием наступления фэнтези на рациональную культуру. Игры – «ролевки» так и остались преимущественно «феодальными» или основанными на сюжетах боевиков. Ролевые игры, технология которых отрабатывалась также педагогами–новаторами, продолжает использоваться как обучающее средство.
* * *
В контакте с коммунарами развивалось движение педагогов–новаторов. До Перестройки оно не имело организационной структуры. Энтузиасты обновления школы действовали самостоятельно, обменивались опытом.
У истоков движения педагогов–новаторов 70–х–80–х гг. стояли «неравнодушные» учителя, пытавшиеся, подобно известному педагогу В. Сухомлинскому, «эмоционально пробуждать разум» и оптимизировать учебно–воспитательный процесс.
Новаторов поддерживал круг журналистов–коммунаров. «Сколько я себя помню как журналиста, – вспоминает В. Хилтунен, – все время приходилось отстаивать педагогов–новаторов от ЦК и Минобра… Я, ваш покорный слуга, принадлежал, как теперь выясняется, к журналистской ”банде восьми» – вместе с Соловейчиком, Матвеевым, Мариничевой, Данилиным, Матятиным, Логиновой и Преловской. Мы работали в школьных отделах разных газет – «Учительской», «ЛГ», «Известий», «Комсомолке», ”Правды», но рабочий наш день складывался примерно одинаково: завтрак, потом нужно было ложиться на амбразуру по поводу Шаталова, обед. Потом скандал по поводу Тубельского, а до ужина нужно было еще звонить на какую–то «Запорожсталь», чтобы оттуда вовремя отгрузили какие–то болванки в адрес школьного завода ”Чайка», безуспешно пытающегося доказать, что время Макаренко еще не вышло» [1076]1076
Хилтунен В. Щетинин, который не вписывается…//«Литературная газета». 15.04.1998.
[Закрыть].
Движение педагогов–новаторов было весьма разнообразно: мастер ораторских приемов Е. Ильин и автор идеи опережающего обучения С. Лысенкова; учитель математики В. Шаталов, пытавшийся максимально оптимизировать учебный процесс, разложив его на детали, и полная противоположность – целостная педагогика директора школы (точнее – школ, так как время от времени приходилось менять место работы) М. Щетинина. Щетинин стремился преодолеть узкую специализацию и дробление учебного процесса (что вообще присуще классно–урочной системе), эстетизировать школу и таким образом приблизиться к идеалу гармонично развитой личности. «Целостность личности ребенка – целостность окружающего мира – такова взаимосвязь двух главных начал, на которых базируется исповедуемая мной и моими единомышленниками концепция школы… Мир познания превращен в изолированные друг от друга «коридоры» так, что ученику порой даже трудно поверить, что это пласты единого целого. А искусство как раз сильно тем, что синтезирует разрозненные явления, дает целостное образование и воспитание, воспитывает целостное мировоззрение… Мы формируем умение человека ввести себя в этот целостный мир с самого раннего возраста. Человека с детских лет надо растить от его корней, от его сущности. А сущность человека – это человечность» [1077]1077
Щетинин М.П. На пути к человеку. Педагогика наших дней. Краснодар, 1989. С.381–382, 385.
[Закрыть].
Как рассказывает В. Хилтунен, «Щетинин находил социальную опору в местных крепких «князьках», и когда их снимали или отправляли на повышение, вынужден был менять место работы» [1078]1078
Хилтунен В.Р. Беседа с автором.
[Закрыть]. «Сколько унижений пришлось вытерпеть ото всякий чиновников и контролеров, которые ничего в нашем деле не понимают. Сколько сил и времени на это потерял» [1079]1079
Щетинин М.П. Беседа с автором 16 августа 1998 г.
[Закрыть]– с горечью вспоминал Щетинин много лет спустя. По словам В. Хилтунена, «Мишу травили и правая, и «левая» – чиновникам не нравилось его тотальная, абсолютная независимость, коллег–новаторов смущала чрезмерная, как им казалось, любовь Щетинина к корням, к земле – он так и не полюбил города. Все свои «экспериментальные площадки» он открывал в селах, да не абы каких – а в самых глухих… После смерти Сухомлинского именно Щетинину предложили продолжить его дело в Павлоше, но Михаил Петрович отказался, сказав в том смысле, что на кладбищах, даже самых уважаемых, трудно замешивать завтрашний день, и стал директорствовать в спившемся (!) староверческом (!!) селе – не то чтобы русскоговорящем, но – выразимся так – русскоматерящемся. То, что он сделал с детьми той деревушки…, было фантастикой. Когда делегация ЭТИХ юных эльфов и фей приехала в столицу, то на них сбегались смотреть сотрудники радио и телевидения, думая, что их ловко дурят – что ТАКИХ детей уже не бывает. А сам Щетинин приставал к нам с горькой исповедью – он не знал, как быть: эти сельские дети, входившие во вкус культуры, волей–неволей начинали относиться без должного пиетета к пьющим и ничего не читающим родителям своим» [1080]1080
Хилтунен В. Щетинин, который не вписывается…
[Закрыть].
Консервативная тенденция была представлена в среде педагогической общественности и такой яркой фигурой, как преподаватель фехтования К. Раш. Однако новатором К. Раша можно назвать с большими оговорками – он выступал категорически против любых «экспериментов на детях». Несмотря на это категорическое заявление, Раш все же предлагает некоторые смелые эксперименты: «Эх, да что там говорить, из дискотеки можно было бы сделать великолепную школу этики, манер, дисциплины, галантности» [1081]1081
Раш К. приглашение к бою. М., 1984. С.61, 103.
[Закрыть].
Несмотря на то, что нетрадиционные педагогические методики не были официально одобрены, они широко расходились в учительском самиздате. Между новаторами устанавливались разветвленные контакты. У «гуру» появлялись апологеты. Эйфория охватывала и ветеранов общественно–педагогического движения. И много лет спустя С. Соловейчик, например, писал: «Ведь никакими способами, кроме шаталовских, если только не применять ремень и угрозы, не втемяшишь в эти головы греческую историю, ну невозможно это!» [1082]1082
Соловейчик С. Я учусь в Караганде.//«Новое время». 1989. № 10. С.42.
[Закрыть]Мне неоднократно доводилось наблюдать эффективное преподавание греческой истории слабым ученикам без ремня, угроз и шаталовских методов. И применение шаталовских методов без Шаталова и без эффекта – тоже. Уроки Шаталова лишний раз убеждали: в основном результат в педагогике определяется личностью учителя.
Само неравнодушие учителя, его стремление ознакомиться с методами коллеги и применить у себя то, что подходит «для местных условий», само стремление работать несмотря на мертвящие директивы, сам факт подвижничества и неформального общения учителей давал эффект и позволял надеяться, что педагогическая реформа «снизу» окажется результативной.
Устойчивые контакты между новаторами и педагогами–общественниками возникли в 1977 г., когда сотрудники М. Щетинина побывали на слете педотрядов. Некоторые коммунары работали в новаторских школах. «Здесь, безусловно, произошло взаимообогащение, – считает Р. Соколов, – Щетинин много воспринял от коммунарской методики, прежде всего коллективные творческие дела. Но это была авторская школа, как дело любого педагога–новатора, это было его детище. Это касается не только Щетинина, то же самое можно увидеть и у других новаторов, привлекавших к сотрудничеству коммунаров. Скажем, В. Караковского. Когда к директору–новатору приходили с идеей коллективной творческой деятельности, и говорили: «Сейчас на общем сборе мы спланируем, куда нам идти завтра, а завтра обсудим – куда послезавтра…», то всплывало, что коммунарство возможно здесь как локальный план в мегасистеме Автора, а коммунарское самоуправление – как Юрьев день, своего рода разовый урок демократии, после которого придется идти туда, куда скажет Автор.
Щетинин имел неосторожность приглашать коммунаров для совершенствования всего педагогического процесса, и они наивно полагали, что методом коллективного творчества они будут решать эти вопросы. Но не тут–то было – у него был свой образ, за границы которого нельзя было выходить, тем более – строем и с речевками. Я тогда часто приезжал к Щетинину, и помню такой характерный эпизод. Мною «сосватанная» в эту школу Алла Дворжицкая из Перми, которую считали «железным комиссаром», идеалом которой был Павка Корчагин, организовывала у Щетинина внешкольную работу. А надо сказать, что в этой школе, где директор начинал с совершенствования эстетического воспитания, полы были расписаны лилиями и другими замечательными цветами. И вот по этому романтическому полу маршируют коммунары с речевками: «Дряни любой давай бой…» Этот диссонанс трогательных лилий и жесткого, даже «кондового» марша показывал: союз коммунаров и новаторов обречен.
Но Щетинину нужно было общественное движение – не в этой форме, так в другой. Ему нужна была внешкольная работа, в которой общественники были сильнее новаторов. Иначе его школа оставалась островком в океане «застоя». В итоге Щетинина, как и нас, постоянно «гоняли» с места на место» [1083]1083
Соколов Р.В. Беседа с автором.
[Закрыть]. Вся альтернативная педагогика оставалась кочевой.
Просто фантастика!
Многие проблемы советского общества, мучившие его в настоящем, проистекали из того, что оно было устремлено в будущее. О будущем было положено думать идеологам ЦК КПСС. Но этому аппарату приходилось все время решать проблемы настоящего. Так что будущее оставалось на долю фантастов, считавшихся младшими братьями писателей, работавших в «серьезных» жанрах.
Отношение к фантастике в СССР долгое время было утилитарным. Она должна была популяризировать научные достижения и развлекать население – прежде всего молодежь. Допускалась фантастическая сатира, которую разделяли на две разновидности: «сатиру политическую, бичующую открытого врага – внешнего, классового, и сатиру, так сказать, домашнюю, направленную на лентяев, формалистов, трусов, ловкачей, болтунов, очковтирателей, на жадных строителей собственного гнездышка, т.е. на мещан» [1084]1084
Гуревич Г. Беседы о научной фантастике: Книга для учащихся. М., 1983. http://www.fandom.ru/about_fan/gurevich_7_05.htm#4
[Закрыть]. Со временем выяснилось, что «домашняя» сатира тоже может быть политической. Как говорилось в записке сотрудников отдела агитации и пропаганды ЦК А. Яковлева и И. Кириченко 5 марта 1966 г., «жанр научной фантастики для отдельных литераторов стал, пожалуй, наиболее удобной ширмой для проталкивания в нашу страну чуждых, а иногда и прямо враждебных идей и нравов» [1085]1085
Цит. по: История советской политической цензуры. Документы и комментарии. М., 1997. С.155–156.
[Закрыть].
Но в этом фантастика принципиально не отличалась от других жанров. Ее «изюминка» была в другом – фантастика могла заглянуть в будущее. Эта ее самая важная задача – она же и самая трудная: придумать «будущее, в котором мне хотелось бы жить», как писал фантаст С. Снегов. Братья Аркадий и Борис Стругацкие конкретизировали, что это за будущее: «Коммунизм – это мир, в котором хочется жить и работать» [1086]1086
Стругацкие А. и Б. Комментарий к пройденному. // Русская фантастика и фантастика в сети. http://sf.coast.ru/abs/books/bns–02.htm.
[Закрыть].
* * *
В начале 50–х гг. в фантастике преобладала теория «ближнего прицела». «Вдохновители этой теории видели цель научной фантастики лишь в изображении достижений науки в недалеком будущем – через несколько лет» [1087]1087
Дхингра К. Пути развития научно–фантастического жанра в советской литературе. Автореферат на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Л., 1968. http://www.fandom.ru/about_fan/dhingra_1.htm
[Закрыть]. Такие писатели – «технари», как В. Немцов, А. Казанцев и В. Охотников писали о грандиозном арктическом мосте, о подземной лодке–вездеходе и других технических идеях, которые обсуждались инженерами. «Писатели «ближнего прицела» ограничивались лишь описанием поисков технического решения задачи, не касаясь даже социального значения изобретений» [1088]1088
Дхингра К. Указ. соч.
[Закрыть]. До 1956 г. ставить социальные проблемы было просто опасно, зато можно было ваять грандиозные проекты переделки природы и возведения сверхгигантов будущих пятилеток.
В атмосфере «оттепели» и начавшейся научно–технической революции перед фантастами развернулись новые пространства. Теорию «ближнего прицела» принялись критиковать за однобокость и бескрылость. Но она не умерла. Если фантасты начнут выдумывать все, что им в голову взбредет, это будет уже не научная фантастика, а сказка (сегодня ходишь вдоль прилавков – как в воду тогда глядели).