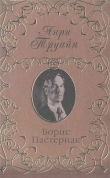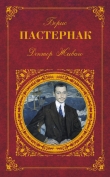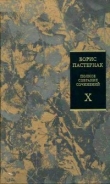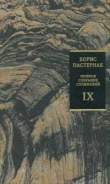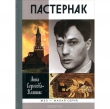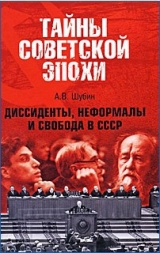
Текст книги "Диссиденты, неформалы и свобода в СССР"
Автор книги: Александр Шубин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 34 страниц)
Дружинники вспоминают: «открытые собрания в нашем маленьком штабе носили весьма своеобразный характер: спорили всегда и по каждому вопросу, часто говорили все сразу, горячо, увлеченно; и попутно у каждого входящего выясняли, где он был, из каких странствий возвратился, что видел, а потом снова возвращались к обсуждению всяких спорных, несомненно важных для каждого вопросов» [1009]1009
30 лет движения. С.25.
[Закрыть]. «Дружина была той единственной ячейкой, где можно было свободно, без напряжения общаться на любую тему…» [1010]1010
Цит. по: Яницкий О.Н. Экологическое движение в России. С.44.
[Закрыть], – вспоминает один из участников движения. Этот стиль близок «московским кухням», породившим диссидентское движение. Но в отличие от интеллигентской фронды, у неформалов было практическое дело, которому были посвящены собрания. Экологисты были не просто самостоятельны, они были самодеятельны. Поэтому здесь энергия пока находила применение и не требовала радикализации сознания и действия, которые привели многих спорщиков «кухонь» в ряды диссидентов.
Отношения дружин и официальных структур были непростыми. В доперестроечный период неформальные группы действовали «в рамках» официальных структур, то есть формально отчитывались перед ними и позволяли включать свои успехи в «отчеты о проделанной работе» этих организаций. Этот «симбиоз» не предполагал, однако, существенного контроля со стороны «вышестоящих» структур за деятельностью дружин. Разумеется, при условии их работы в рамках легальности. Материальная поддержка дружинам оказывалась как «курирующими организациями» (точнее – симпатизирующими движению руководителями), так и профсоюзными организациями. Дружинники часто ездили на свои слеты на выписанную для этого профкомом матпомощь [1011]1011
Забелин С.И. Беседа с автором 29 сентября 1996 г.
[Закрыть]. ДОПы действовали под прикрытием официальных организаций – инспекций охраны природы, ВООП и др. Дружинник мог задержать браконьера, только если имел удостоверение инспекции. Но в «курирующих» учреждениях отношение к дружинной самодеятельности было различным, иногда – враждебным (особенно опасались конкурентов организации ВООП, в которых, однако, у ДОПов были свои «агенты» [1012]1012
Яницкий О.Н. Социальные движения. С.20.
[Закрыть]). Недоверие к ДОПам было вызывано и тем, что дружинники подчинялись по службе вузовскому руководству, а не природоохранному. На месте своих «выездов» ДОПы были независимы. Но именно поэтому они не управлялись и вузовским начальством, которое было далеко от «театра военных действий». Как колобок из русской сказки: «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел». «Поначалу дружины контролировались факультетскими комсомольскими организациями. Однако чем более профессиональные задачи ставили эти дружины…, тем более этот политический контроль «сверху» становился трудноосуществимым, а потому – формальным. С другой стороны, окрепнув и наладив между собой связи, дружины начали упорную борьбу за свою автономию – организационную и идеологическую» [1013]1013
Экологическая политика и экологическое движение в России. С.17.
[Закрыть], – считает О.Н. Яницкий. Впрочем, по мнению дружинников все происходило как раз наоборот – московская дружина пыталась наладить контакт с Бюро ВЛКСМ МГУ и даже отчитаться перед ним о своей работе, но комсомольский орган не захотел общаться с неформальной структурой. Поддержку гражданской инициативе оказала парторганизация, после чего комсомолу волей–неволей пришлось признать дружину [1014]1014
30 лет движения. С.6–9.
[Закрыть].
О.Н. Яницкий даже считает, что по мере роста движение становилось более формальным, «погружалось» в социальные институты «Системы» [1015]1015
Яницкий О.Н. Экологическое движение в России. С.43.
[Закрыть]. С тезисом о формализации движения по мере расширения трудно согласиться. Во–первых, оно всегда было «погружено в институты», и приводимые О.Н. Яницким факты не свидетельствуют о чем–то новом в развитии ДОПов. Неформалы тем и отличаются от диссидентов, что действуют без оглядки на формальные грани режима и отчасти сотрудничают с ним при решении задач, представляющих «взаимный интерес». Во–вторых, впечатление о «формализации» может возникнуть при абстрактно–социологическом подходе, когда на первый план выходят формально очерченные организации, институты. Но в реальности действуют живые люди, руководствующиеся разной логикой (неформальной, официальной, смешанной в разных пропорциях), и даже при глубоком «погружении» в «институты Системы» не было ясно, кто кого контролирует, так как дружинники как правило были активнее других членов бюро ВЛКСМ и иных официальных структур. Их представители входили в комсомольские органы [1016]1016
30 лет движения. С.18.
[Закрыть], что позволяло ДОПам проводить свою линию в ВЛКСМ. Даже в «худшие времена» неформалы не вполне управляемы – в этом их качественная характеристика. Устойчивая формализация движения заметна лишь на грани 70–х и 80–х гг., но связана не с расширением и «погружением», а с давлением властей, почувствовавших неподконтрольность «зеленых».
В то же время по мнению О.Н. Яницкого «дружинное движение не носило протестного характера. Оно действовало в русле государственной политики, помогая государственным органам и официальным общественным организациям в деле охраны природы» [1017]1017
Экологическая политика и экологическое движение в России. С.17–18.
[Закрыть]. Это утверждение не совсем точно. Кампаний протеста дружины не проводили, но и в русло государственной политики не вписывались (не случайно они так и не были полностью формализованы). С. Забелин вспоминает, что «некоторые дружинники говорили в частных разговорах, что «дружина – это легальный способ критиковать советскую власть». Нередко власть оказывалась для нас не союзником, а противником» [1018]1018
Забелин С.И. Беседа с автором 9 июня 1992 г.
[Закрыть].
Начиная с 1966 г. дружины выступали с инициативами, направленными на расширение природоохранных разделов партийных документов, выступали против применения опасных технологий, на которые сделали ставку ведомства [1019]1019
30 лет движения. С.15–17.
[Закрыть]. Эти выступления предвосхищали будущие массовые экологические кампании 1981–1990 гг., направленные на изменение позиции государственных органов. Важнейшим средством работы становилось лоббирование интересов охраны природы через потоки писем и организацию статей в газетах, подготовка рекомендаций для органов власти.
Взаимоотношения с официальными структурами формировали неповторимые черты отечественных «зеленых», отличавшие их от коллег в Западных странах. «Фактически Движение Дружин продолжило и развило традиции республиканских Обществ Охраны Природы 30–40–х годов. С одной стороны, студенческие Дружины, как и другие общественные организации того времени в России, Европе и Америке, вели пропагандистскую работу, собирали конференции для обсуждения острых проблем… – рассказывает С. Забелин, – С другой, занимались непосредственной борьбой с нарушениями законодательства об охране природы, борьбой с браконьерством, выполняя функции государственных органов – и в этом аналогов им в западном мире найти невозможно.
Была и политическая «составляющая», политическая «грань» этого движения. Это была реальная всесоюзная самоуправляемая организация, независимая от КПСС и ВЛКСМ, значительная часть активности которой была связана с критикой деятельности государственных органов, школа или «остров» вольнодумства, легально существовавший в период «застоя»» [1020]1020
Забелин С. Этапы развития экологического движения в России и СССР. Архив Шубина А.В. Электронный фонд. ABOOKPER1978–1984history2.
[Закрыть]. Но в целом дружинники старались удерживаться в рамках биологической тематики. Этот био–экологизм, сформировавшийся в условиях авторитарного режима, будет характерен для большинства лидеров, прошедших школу ДОПов, и позднее.
Однако попытки работы по чисто биологическим проблемам всесоюзного масштаба неминуемо вели к постановке социальных вопросов, что было опасно. Поэтому, выступая за преодоление «узких рамок» движения, авторы заключительного документа дружинного семинара 1976 г. «Современный этап студенческого движения за охрану природы. Характер. проблемы. Задачи» (его проект составил С. Забелин) ссылались на «молодых ребят, юношеский максимализм которых не согласен на дела масштаба меньше всесоюзного» [1021]1021
30 лет движения. С.46.
[Закрыть]. Напомнив властям о своей молодости, участники семинара заявили: «Пора каждой дружине сообразить, что она – часть движения студентов за охрану природы, осмыслить свою работу как часть работы коллектива в несколько тысяч студентов» [1022]1022
Там же. С.47.
[Закрыть]. А осмыслив, бороться не только с отдельными фактами, но и с социальными явлениями: «например, борьба с браконьерством при таком рассмотрении имеет целью не столько задержание нескольких нарушителей, пусть даже злостных, сколько влияние на браконьерство как явление» [1023]1023
Там же.
[Закрыть].
Еще в 1974 г. дружинники стали разрабатывать социальные темы (в частности, анализировать браконьерство как социальное явление) [1024]1024
Там же. С.41–42.
[Закрыть]. Переход дружин к анализу социальных предпосылок экологических проблем в СССР уже привносил в движение элемент оппозиционности – значит, социальные отношения «реального социализма» способны порождать такое «негативное явление», как браконьерство. Во второй половине 70–х гг. дружины считали своей задачей «гармонизацию отношений между природой и обществом» [1025]1025
Там же. С.42.
[Закрыть](значит, «реальный социализм» не привел к такой гармонизации). Считалось, что «борьба с браконьерством способствует формированию морально–этической базы нового мировоззрения у самих дружинников» [1026]1026
Там же. С.43.
[Закрыть]. «Новое мировоззрение» могло означать что угодно, но это было нечто отличное от «старого» мировоззрения, диктуемого КПСС.
Движение, почувствовав свою силу, постепенно начинало осознавать свою оппозиционность, выражаемую пока в терминах смены поколений: «Другая важная проблема, стоящая перед нашим движением – создание собственного представления об охране природы в нашей стране… А не обосновав его, мы не можем сформулировать в доступной и конкретной форме ответа на вопрос: «Зачем мы сохраняем природу? От кого? Для кого и для чего?» Нет собственной, отличной от официальной концепции охраны природы, а официальная – не устраивает, так как создана другим поколением, с других позиций» [1027]1027
Там же. С.51.
[Закрыть]. Казалось, такое заявление должно было вывести движение на задачу создания собственной социальной программы. Но этого не произошло, возможно из опасений реакции со стороны властей, возможно – из–за специфики образования большинства дружинников. Для того, чтобы создать свою концепцию охраны природы, было признано целесообразным продолжить накопление фактического материала, прежде всего – биологического.
Несмотря на то, что большая часть дружинных программ так или иначе была связана с социальными проблемами, в 70–х – первой половине 80–х гг. в движении не возникло более или менее комплексной социальной позиции или идеологии. Вероятно, до начала Перестройки это было и невозможно. Постепенно выделяясь из среды «советского общества», дружинники пока не ставили задачи его преобразования. Они рассчитывали на то, что «в конце концов руководство жизнью страны перейдет к специалистам нашего поколения» [1028]1028
Там же. С.43.
[Закрыть] )и не учитывали, что система допускает к рычагам управления людей, адаптированных к ценностям правящего слоя (о существовании которого дружинники открыто не говорили). Смена поколений руководителей играет роль в изменении политического курса, но не настолько, чтобы изменить принципы функционирования индустриальной системы. Однако в 70–е гг. дружинники еще просто не могли прийти к такому выводу и надеялись на то, что им удастся рано или поздно оказаться у власти и изменить порочную ситуацию. Именно тогда С. Мухачев выдвинул лозунг «У природы везде должны быть свои люди» [1029]1029
Там же. С.55.
[Закрыть]. Надежды на подобную «инфильтрацию» сохранились у ветеранов «дружинного поколения» и много позднее.
Стратегические задачи дружинников были тесно связаны с педагогической работой: «ни в отечественной, ни тем более в мировой науке нет конструктивного представления о том, каким должен быть человек, чтобы желание сохранить природу в равновесии с обществом руководило его поведением в самом широком смысле этого слова… Создание же представления о человеке будущего – исключительно наша задача. Наша – потому что мы биологи и наиболее ясно представляем как потребности человека, так и нужды природы. Наша – потому что старое поколение, воспитанное в крайне неблагоприятных психологических условиях, тоже нам не поможет. Наконец, нам нельзя надеяться на конструктивную помощь из–за рубежа, так как очевидно, что необходимая модель – модель человека коммунистического общества и никакого другого» [1030]1030
Там же. С.54.
[Закрыть]. Последнее высказывание может показаться или формой камуфляжа, или проявлением того самого «юношеского максимализма», о котором дружинники говорили выше. Однако последующие события показали, что вожди дружинного движения в значительной степени сохранили приверженность социалистическому мировоззрению, так как капиталистическая система продемонстрировала недостаточную эффективность в решении экологических проблем. «Максимализм» проявляется здесь в другом – в пренебрежении идеями, возникшими в других странах (пока еще прежде всего по незнанию), в уверенности, что именно биологи (без привлечения специалистов–гуманитариев) могут создать модель «идеального человека». Забывая о том, что человек – это не только животное, юные биологи готовились к собственной педагогической работе, к «созданию человека будущего, которого мы должны воспитать из современных детей» [1031]1031
Там же. С.55.
[Закрыть]. Впрочем, больших успехов на этой ниве достичь не удалось, пересечение дружинного и педагогического движения было незначительно. Впоследствии биологический гегемонизм в экологическом движении ослаб, но полностью не исчез и поныне.
Дружины испытывали естественное стремление к объединению во всесоюзную организацию. В 1977–1979 гг. существовал координационный совет ДОП во главе с С. Забелиным. Но «курирующие» органы и даже КГБ следили за тем, чтобы в стране не возникло независимой от КПСС и ВЛКСМ всесоюзной общественной структуры. «Идея создания Союза витала в воздухе давно, выпускники студенческих Дружин по охране природы еще в 1979 году попытались как–то объединиться вне стен alma mater, но не получилось» [1032]1032
Забелин С. Указ. соч.
[Закрыть], – вспоминает С. Забелин. После этой попытки с организаторами ДОПовских конференций «органами» были проведены угрожающие беседы. Забелин предпочел после этого принять предложение уехать на работу в Туркмению, где и находился до 1986 г.
Давление «органов» привело к тому, что в конце 70–х гг. социальные мотивы в документах ДОП постепенно сводятся к минимуму, зато громче звучит апелляции к органам ВООП и ВЛКСМ [1033]1033
30 лет движения. С.79–89.
[Закрыть]. В центре внимания дружинников оказывается контроль за выполнением природоохранного законодательства [1034]1034
Там же. С.110.
[Закрыть].
Принятое 29 сентября 1982 г. на семинаре дружин примерное положение о студенческой дружине по охране природы предполагало, что дружина «организационно оформляется на базе существующих в вузе (на факультете) структур» и в своей деятельности отчитывается перед комитетом ВЛКСМ. Подтверждались централизованные, военизированные начала работы дружин: «Работа в дружине строится на началах строгой дисциплины: добровольно вступив в ее ряды, дружинник обязан беспрекословно подчиняться решениям Штаба и Командира и ответственно относиться к возложенным на него обязанностям» [1035]1035
Там же. С.122–123.
[Закрыть]. Это «диктаторство», по словам С. Забелина, было обусловлено «огромной ролью опасной оперативной работы в жизни Дружин – под дулом не дискутируют, а слушают старшего выезда или группы» [1036]1036
Забелин С.И. Беседа с автором 29 сентября 1996 г.
[Закрыть]. В 70–е гг. несколько дружинников погибло в столкновениях с браконьерами. В то же время примерное положение определяло, что дружинная работа является «видом неформального образования в области охраны природы» [1037]1037
30 лет движения. С.123.
[Закрыть]. Слово «неформальный» еще не имело того значения, которое оно получит во второй половине 80–х гг., но уже означало нечто неофициозное, самостоятельное.
В 1982 г. наметились признаки нового подъема ДОПов. Семинары стали брать на себя задачи органов единого движения (своего рода конференций). Казанский семинар 1982 г. принял решение о том, что именно этот орган или конференция могут принимать или вносить поправки в примерное положение (фактически – устав) о дружине [1038]1038
Там же. С.126.
[Закрыть]. Дружинники обратили свой взор от браконьеров на загрязнение окружающей среды [1039]1039
Там же. С.120.
[Закрыть], что означало выход на проблему, гораздо теснее связанную с глубинными пороками социально–экономической системы. В феврале 1984 г. на семинаре в Свердловске эта проблема была признана приоритетной, обогнав браконьерство [1040]1040
Там же. С.138.
[Закрыть]. А ведь загрязнения были преступлением не рядовых граждан, а администрации. Социальные мотивы снова стали звучать в заключительных документах дружинных семинаров, посвященных и более скромным проблемам, например – сохранению птиц: «Ведение оперативной работы на рынках осложняется тем, что существующий спрос любителей в настоящее время не удовлетворяется (частично или полностью) законным путем» [1041]1041
Там же. С.130.
[Закрыть]. Дружинам удавалось добиваться введения экологических рубрик в периодических изданиях, началось создание междружинной библиотеки, которая обеспечивала циркуляцию информации, не всегда выгодной властям. К 1983 г. количество дружин перевалило за 60 [1042]1042
Там же. С.127.
[Закрыть].
В августе 1985 г. была создана Группа связи выпускников, которая стала готовить создание общественной организации бывших и нынешних участников ДОП, а также всех людей, озабоченных экологической проблематикой. Из этой работы в 1987–1988 гг. вырос Социально–экологический союз [1043]1043
См. Шубин А.В. Парадоксы Перестройки. Неиспользованный шанс СССР. М., 2005. С.151–152.
[Закрыть].
* * *
В это же время новые функции стала брать на себя и официальная экологическая общественность, причем практические результаты ее деятельности не уступали «неформальным». Заместитель председателя Всероссийского общества охраны природы А. Ган рассказывал: «В середине 80–х гг., в пору ощутимого обострения экологического кризиса в нашей стране, у общества появились новые задачи, связанные с экспертизой конкретных объектов. Мы усиливали природоохранную пропаганду среди населения. Более массовыми и систематическим становятся рейды проверки природных ресурсов. ВООП мобилизовывала общественность на такие практические дела, как расчистка рек, родников и так далее. Это, кстати, продолжается до сей поры каждый год.
Калининская АЭС имеет только общественную экспертизу ВООП, государственная по ней вообще не проводилась. Благодаря общественной экспертизе, начатой в начале 80–х гг., удалось впоследствии на какое–то время законсервировать строительство одного из блоков. Мы участвовали с рядом государственных организаций в экспертизе Кавказской перевальной железной дороги, которая должна была пройти через районы Кабардино–Балкарии и Ингушетии, представляющие большую экологическую ценность. Я участвовал в совещании у зампредсовмина, выступая против этого. В 1985 г. строительство было законсервировано» [1044]1044
Ган А.А. Беседа с автором 25 марта 1994 г.
[Закрыть].
В экологическом и культурозащитном движении участвовали писатели-»деревенщики», которые привлекали к проблеме разрушения природных и культурных объектов значительное общественное внимание. Экологические последствия прогресса были наиболее ярким подтверждением консервативных идей: «Так вот, когда я приехал в Вологду, никто ничего о рыбе не писал, никто не спасал, но Вологда была рыбой завалена… Теперь каждый месяц – полоса о спасении, а рыбы нет… Я думаю, что от слов пора переходить к делу, или сначала – делать, а потом – писать. И вот пока у нас в Вологодской области защищали рыбу, рыбы не стало. А причины я вижу в том, что слишком много удобрений стали бросать на пашню… Ведь знали, к примеру, что прошлый или позапрошлый год будет дождливым и, стало быть, все удобрения будут смыты в водоемы. Так нет, все равно удобряют, потому что, согласно плану такой–то пятилетки, нужно увеличить количество удобрений в пять раз, и будьте здоровы!» [1045]1045
15 встреч в Останкино. М., 1989. С.21.
[Закрыть]– говорил В. Астафьев в 1979 г.
Союз экологистов, защитников культуры и почвенников дал жизнь наиболее мощному общественному движению кануна и начала Перестройки – движению против поворота Северных рек.
Принципиальное решение о направлении вод рек Онеги, Северной Двины, Сухоны, Печоры и Оби на юг для орошения южнорусских, украинских, и среднеазиатских земель было принято на уровне съездов КПСС и пересмотру не подлежало. С проектом переброски северных рек были связаны солидные номенклатурные интересы могущественных ведомств. Еще в 1976 г. противники проекта могли высказаться против него на страницах «Литературной газеты». Но затем было наложено табу на критику проекта в прессе. Положительные упоминания о нем появлялись даже в детской литературе. Тем не менее, в 1981 г. началась циркуляция открытых писем, критикующих проект. Наибольшую известность приобрело письмо авторитетного писателя – «деревенщика» В. Белова «Спасут ли Каспий Вожа и Лача?» Обращая внимание на узкую специализацию инженеров, разрабатывающих проект переброски рек, В. Белов призывал ученых: «Скоординировать свои знания и действия за круглым столом – нравственный долг, долг совести представителя науки» [1046]1046
Брюсова В.Г. «Антирекам» – народное НЕТ! // Экологическая альтернатива. М., 1990. С.622.
[Закрыть]. Так была заложена основная цель движения – остановка проекта путем его научной критики учеными различных направлений.
В 1981–1982 гг. противники проекта разворачивают агитацию в среде гуманитарной интеллигенции, формируется постоянное ядро движения в несколько десятков человек и лобби в АН СССР и Академии художеств. В движение были вовлечены писатели из патриотического лагеря Ю. Бондарев, В. Распутин, В. Белов и др., академики Б. Рыбаков, В. Янин, Д. Лихачев, множество ученых рангом пониже.
В 1982 г. противники проекта передали в Политбюро письмо с развернутой критикой переброски на 120 страницах, которое поддержали 12 академиков. Материалы противников проекта показывали, что ирригационное земледелие неэффективно, что оно будет сопровождаться разрушением сотен уникальных культурных и природных объектов и приведет к необратимым экологическим процессам на русском Севере и в Средней Азии, что существует возможность рационализации водоснабжения на юге СССР [1047]1047
См. Там же. С.664–668.
[Закрыть].
Почувствовав неладное, сторонники проекта «завалили» ЦК письмами в поддержку «переброски», угрожая в случае отказа от нее «замораживанием развития» Средней Азии [1048]1048
РГАНИ. Ф.5. Оп.84. Д.304. Л.18.
[Закрыть].
Казалось, противники переброски рек – вполне лояльные подданные. Но один из активных сторонников движения писатель–почвенник В. Распутин в частном письме делал из планов переброски далеко идущие выводы: «Материалы поворота меня оглушили. Никаких не может быть сомнений, что это сознательная акция, третий, четвертый или какой там по порядку решительный вслед за коллективизацией удар… Материалы сами по себе составлены настолько убедительно, так много говорят, что не понять их нельзя, значит их просто отказываются понимать, значит опять, как в споре за Байкал в свое время: или гуманитарная, или производственная сила, а допустить, чтобы взяла верх гуманитарная сила, нельзя. Мы для них хуже всякого Рейгана» [1049]1049
Цит. по. Брюсова В.Г. Указ. соч. С.679.
[Закрыть].
Конечно, основная часть активистов движения не мыслила так радикально, пытаясь просто объяснить властям гибельность проекта. В этом был реальный шанс на успех движения, залог его роста. 3 февраля 1983 г. раскололась экспертная комиссия Госплана РСФСР – часть ее выступила против проекта. А 4–5 декабря 1984 г. в ходе двухдневной «баталии» активистам движения удалось «завалить» докторскую диссертацию автора проекта А. Березнера, посвященную как раз его детищу. Идее переброски рек был нанесен мощный теоретический удар.
19 февраля 1985 г. активистка движения В. Брюсова выступила на предвыборном собрании. Ее речь против переброски рек и спаивания народа (другая идея национал–патриотов, предвосхитившая будущую антиалкагольную кампанию) повергла в замешательство работников райкома, руководивших собранием. Движение на глазах перерастало в общественно–политическое.
23 октября Ю. Бондарев встречался с членом Политбюро В. Воротниковым и долго беседовал с ним об опасности поворота рек [1050]1050
Воротников В.И. А было это так… М., 1995. С.76.
[Закрыть].
В декабре 1985 г. Съезд писателей высказался за большее внимание проблемам экологии. Несмотря на абстрактность этого требования, оно позволило противникам проекта переброски рек в дальнейшем ссылаться на резолюцию съезда.
В конце 1985 г. начался прорыв экологистов на страницы печати. Поводом стало «всенародное обсуждение» проекта основных направлений социально–экономического развития страны. По воспоминаниям С. Залыгина «противники проекта вплоть до середины 1985 года вообще не получали слова, по крайней мере в печати.
Во время всенародного обсуждения проекта Основных направлений… общественное мнение восполнило это молчание – и периодическая печать оказалась заполненной протестами против переброски. Медики предупреждали, что переброска опасна в санитарно–эпидемиологическом отношении, биологи утверждали, что пострадает флора и фауна сразу в нескольких речных бассейнах, геологи просто–напросто хватали проектировщиков за руку, поскольку они проектировали трассы каналов в заведомо неподходящих для этого грунтах, историки опасались гибели памятников нашей истории и культуры, агрономы, инженеры, экономисты, крупнейшие ученые приводили аргументы против, против, против» [1051]1051
Залыгин С.П. Поворот. М., 1987. С.17.
[Закрыть].
Выступая в «Коммунисте» в 1985 г. С. Залыгин писал: «При современной технике мы можем очень многое, но «можем» и «можно» – разные вещи. У можно есть альтернатива – «нельзя», «не следует», «не нужно», у «можем» такой альтернативы часто не бывает, оно обходится без всего того, что мы называем борьбой противоположностей, и выдает себя за необходимость: раз мы можем, значит нужно!… Ведомство всегда стремится доказать, что оно работает на высоком современном уровне, а для этого нужно обзавестись собственной наукой…» Ведомственная наука одобряет ведомственные проекты, не оценивая ни их разнообразные, ни узкоспецифические последствия. Но и «высокая наука» заражена ведомственностью, связана с ведомствами. В итоге Залыгин приходит к выводу: «И еще одна задача совершенствования проектного дела – демократизация деятельности проектных организаций» [1052]1052
Там же. С.38, 41, 48.
[Закрыть]. Под демократизацией понимался доступ общественности к обсуждению властных решений, обязательность учета «мнений со стороны». Практический опыт сделал экологистов и национал–патриотов демократами – сторонниками более широкого воздействия общества на власть. Однако после победы в 1986 г., когда переброска рек будет отменена, после успехов «демократизации» 1986–1991 гг. станет ясно, что активисты общественных движений понимают демократию по–разному, и некоторые из вариантов «демократии» разрушительно действуют на окружающую среду человека.
Педагогика будущего
Структура советской школы соответствовала стандартам индустриального общества. Тем не менее на пороге научно–технической революции все увереннее звучали требования перемен. Сколько можно штамповать работников, ведь обществу нужна и творческая личность! Индустриальное образование, стандартизирующее и атомизирующее человека, противоречило гуманистическим традициям отечественной культуры, которые в коммунистическую эпоху развивались под лозунгом формирования «разносторонне развитой личности». Эта задача, превратившаяся в пропагандистский штамп, в случае своего осуществления могла привести к качественному изменению общества. Поэтому государство как могло блокировало стремление педагогов–энтузиастов продвигаться в этом направлении, но не могло объявить им открытую борьбу как диссидентам, поскольку «водители детей» действовали строго в рамках официально провозглашаемых догматов, доставшихся власти в наследство от гуманистической традиции социалистического движения. На протяжении всей советской истории появлялись педагоги, которые с риском для карьеры пытались экспериментировать, искать новые формы преподавания и воспитания, соответствующие вечному идеалу творческой, гармоничной, гуманной и высокообразованной личности. Такая личность была нужна для Системы, но в небольших количествах, ибо в массовых масштабах творческие, гармоничные, гуманные и образованные люди разрушают индустриальное общество (даже если перечисленные качества встречаются порознь, что типично для результатов педагогических экспериментов).
Возрождение неформальной педагогики после паузы 30–50–х гг., как и других общественных движений, произошло в 50–60–е гг. В 1959 г. по инициативе И. Иванова началось движение коммунаров. В школе 50–х гг. педагогу–новатору было трудно экспериментировать. Но Иванова допустили к внешкольной работе в доме культуры. 24 марта стартовала «Коммуна юных фрунзенцев» в ДК им. Фрунзе в Ленинграде. «Иванов был человеком очень трезвым, – вспоминает Р. Соколов, – он реалистично смотрел на современное ему общество… Он был инакомыслящим, но смотрел на власть «слева». Иванов был «большим католиком, чем Папа Римский», он был коммунистом и марксистом больше, чем руководство страны. Он хотел идти не к прошлому или к Западу, а к реальному коммунизму. Он мечтал о том, что когда в созданной им педагогической коммуне вырастут коммунары, они изменят общество» [1053]1053
Соколов Р.В. Беседа с автором 17 сентября 1996 г.
[Закрыть]. По мнению В. Хилтунена «коммунарство стало инвалидной формой коммун двадцатых годов. У них сохранилась игровая форма, но был отрезан материальный базис. Коммунары 60–80–х гг. добились в игровой форме того, чего Макаренко не мог добиться в производственной коммуне, играя с материальным. Они прорвались в будущее, но оказались кроной, зависшей без самого ствола» [1054]1054
Хилтунен В.Р. Беседа с автором 17 апреля 1998 г.
[Закрыть].
Под руководством Иванова стали вырабатываться ритуалы движения, которые придали коммунарству устойчивость субкультуры и привлекательность для детей. Социальная доктрина коммунарского движения формировалась в короткие лозунги–речевки, например: «В коммуне друзья живут без я. Всем на удивление однако местоимение мы», или: «Деньги – прах, одежда – тоже, нам устав всего дороже». Это была игровая модель бессребреннического коммунизма, альтруистического общества будущего. Однако более глубокая социальная стратегия оставалась достоянием частных разговоров, а на первый план коммунарского движения вышла педагогическая технология, прежде всего «коллективные творческие дела» – мозговой штурм подростков и преподавателей, направленный на творческое решение какого–нибудь «дела» [1055]1055
См. Фролова Г.И. Организация и методика клубной работы с детьми и подростками. М., 1986. С.121.
[Закрыть]. «Закручивал цейтнот, – вспоминает о коммунарской работе К. Сумнительный, участвовавший в «постановке» «коллективных творческих дел» в начале 80–х гг., – Надо было в короткий срок выдать что–то, какой–то «номер», за который не было бы стыдно… За нами ездили педагоги, которые записывали наши действия, нашу методику в деталях. И это было бессмысленно, потому что мы импровизировали. Несмотря на то, что импровизация и технологические заготовки сочетались, попытка копировать «коллективные творческие дела» «старших товарищей» могла вести только к вырождению» [1056]1056
Сумнительный К. Беседа с автором 1 октября 1996 г.
[Закрыть].
Передовой опыт стремительно растекался по стране. Этому немало поспособствовали журналисты и прежде всего С. Соловейчик. В 1962 г. он при поддержке секретаря ЦК ВЛКСМ Л. Балясиной создал во всесоюзном пионерлагере «Орленок» отряд комсомольцев–старшеклассников из 50 человек. Его костяком стали трое вожатых и трое школьников из Фрунзенской коммуны. Они устроили «тренинг» коммунарства. Была выработана методика передачи опыта. В 1963 г. в «Орленке» 50 коммунаров работали с пятью сотнями школьников. Возвращаясь домой, «выпускники» «Орленка» инициировали новые коммунарские группы.