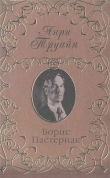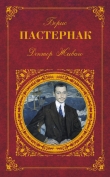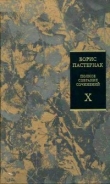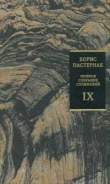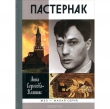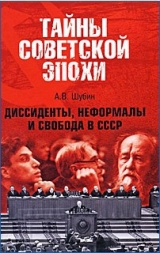
Текст книги "Диссиденты, неформалы и свобода в СССР"
Автор книги: Александр Шубин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 34 страниц)
В апреле 1983 г. в Минске прошла литературная конференция «Военная литература и ядерная эпоха», на которой Адамович, покритиковав американских империалистов, начал говорить слова, с марксистско–ленинской идеологией несовместимые: «Судьбами, жизнью и смертью человечества, всего человечества – вот чем сегодня измеряется высшее благо, добро и, соответственно, высшее зло. Там, на этой высоте, и абсолютный нравственный закон.
Не убий человечество! – ничего нет и быть не может, что этот закон ограничивало бы, сужало…
«Не убий!» – звучит все же как–то… вроде бы не из нашей оперы. Но та же проклятая Бомба многое, очень многое (и многих) заставляет (и еще заставит) поворачиваться неожиданной стороной и к неожиданным, может быть, забытым вещам» [655]655
Там же. С.48.
[Закрыть]. Поворот к библейским истинам перед лицом ядерной катастрофы означал вызов официальной идеологии, звучавший уже отнюдь не в диссидентских кругах. Такая позиция могла повлечь за собой обвинение в пацифизме, официально осуждаемом. Но Адамович, прикрываясь авторитетом Маркса, переходит и к реабилитации пацифизма: «Изначальное (о котором говорил Маркс) чувство справедливости и гуманности этого коллективного действия – маршей мира и т.п. – придает движению против атомной угрозы чрезвычайную устойчивость, несмотря на разнохарактерность сил и психологий, в нем участвующих» [656]656
Там же. С.51.
[Закрыть]. Развивая эту тему в статье «Взрыв на вершине литературы», Адамович писал: «А не пацифизм ли это? – строго спросит тот, кто не привык вдумываться в явления, анализировать, но зато точно знает, как относиться к тем или иным словам… В век ядерного оружия, когда человечество впервые в истории стоит перед угрозой тотального самоуничтожения, у коммунистов и пацифистов как бы больше точек соприкосновения» [657]657
Там же. С.81–82.
[Закрыть].
Наиболее откровенно идею советского пацифизма высказал журналист А. Пумпянский: «Атомная война – это страшнее, чем фашизм» [658]658
Цит. по: Адамович А. Указ. соч. С.24.
[Закрыть]. Тогда, конечно – страшнее, чем западная цивилизация. Так, может быть, стоит уступить в споре с ней? Такие крамольные выводы еще не делались, но сама посылка вела к ним неминуемо. А пока ревизионисты делали осторожный вывод о необходимости пересмотра некоторых классических догматов в новых условиях. По словам Г. Шахназарова, «то, что могло считаться правильным до появления и накопления тотального оружия, не обязательно должно считаться правильным после этого переломного события… Не существует политических целей, которые оправдывали бы применение такого средства, как ядерное оружие» [659]659
Шахназаров Г. Логика ядерной эры. «Век ХХ и мир», №4. 1984. С.9, 14.
[Закрыть]. Ни коммунизм, ни даже сохранение независимости СССР – никакие идеологические святыни не могут оправдать нажатия кнопки. Об этом в советском издании открыто говорилось в самый разгар Холодной войны. И это значило, что стремление к разоружению в СССР было ничуть не меньше, чем на Западе.
Гуманистическое направление мысли, отрицавшее биполярность мира, развивал и ведущий киргизский писатель Ч. Айтматов. В 1980 г. в романе «И дольше века длится день…» он показал фантастическую ситуацию сотрудничества мировых держав по поддержанию изоляции Земли от контакта с иными мирами. Две сверхдержавы в романе равно ответственны за антигуманные действия, связанные с этим. Самоизоляция мира напоминает самоизоляцию страны. Писатель продолжает эту линию, рассказывая легенду о рабах–манкуртах, изолированных от памяти, а значит – и от сознания. Связь информационной закрытости, рабства, безумия, разрыва с традицией, равная ответственность за безумное состояние мира со стороны двух «систем» не могла не остаться незамеченной. Айтматов сформулировал свои идеи достаточно осторожно и иносказательно, чтобы к ним нельзя было предъявить откровенно политических обвинений. Он просто предоставил читателю возможность домыслить. Домыслили и ортодоксы. «Вместо социального подхода, – писала «Правда», – здесь в романе Ч. Айтматова действует некий нравственный суд: «Паритетность» – как знак равновеликого вклада мировых сил в космическую акцию – отвлекается от качеств двух мировых сил, степени их исторической жизнеспособности, приближения к идеалу всечеловеческого жизнеустройства… «Паритет» не уживается с чьим–либо нравственно–гуманистическим «приоритетом» [660]660
Потапов Н. Мир человека и человек в мире. // «Правда». 16.2.1981.
[Закрыть].
Логика правдиста обоюдоостра. Отказ от «паритета» в пользу приоритета идеологически выдержан, но рискован. Как только нравственно–гуманистические мифы СССР начнут разрушаться, бойцы идеологического фронта переметнутся на сторону приоритета западных ценностей, забыв о вкладе Западной цивилизации в беды ХХ столетия. Айтматов стремится встать выше таких «приоритетов»: «Когда человек выходит за пределы своей земли, это уже не он, индивид такой–то, а все человечество вместе с ним делает шаг в Космос». Перед лицом Космоса (следующие шаги – Вечности, Бога) суетная борьба людских и государственных амбиций – ничто. Но именно она мешает людям превратиться в Человечество.
Часть III
Движения
Это – я!
Законом закованный,
Кричу Человеческий Манифест…
Юрий ГалансковКак мы видели, не только в социальном, но и в идеологическом плане советское общество давно уже не было монолитом. Общественно активные граждане объединялись не только по принципу близости взглядов. Они соединялись и ради общего дела. В СССР формировались элементы гражданского общества – движения, действовавшие по инициативе самих граждан, а не властей. Некоторые из этих движений были лояльны режиму. В подполье возникали оппозиционные группы. Более того, начиная с середины 60–х гг. в обществе существовала открытая оппозиция режиму.
Глава VIII
Подпольщики
В 50–е гг. в СССР не было открыто действующей оппозиции. В 70–е гг. – уже была. Но советское общество всегда воспроизводило людей, относящихся к режиму враждебно. В первое послевоенное десятилетие большинство из них прятало свое отношение в глубинах сознания, лишь изредка позволяя себе откровенный разговор с особо доверенными знакомыми. И по сию пору семейные предания доносят до нас весть о людях, не грустивших в день смерти Сталина. В 40–е гг. возникали редкие подпольные группы, немедленно выявлявшиеся при первой же попытке «пущать пропаганды»…
Радикализм и экстремизм
ХХ съезд придал развитию подполья новый импульс. Партия как бы вызвала людей на откровенность докладом Хрущева, а потом запретила обсуждать выводы, естественно следовавшие из того же доклада. Радикалы ушли в подполье, подпольные группы стали распространенным явлением. КГБ разоблачало группу за группой, но они постоянно воспроизводились.
В любом обществе существуют свои бунтари, смутьяны, «крамольники». Радикалы заостряют проблему, существующую в обществе, придают ей максимальное выражение. Иногда они считают необходимым применить насилие для ее решения, становясь экстремистами. При авторитарном режиме не только экстремизм, но и радикализм наказуем уголовно. Правители боятся, что смутьян может возбудить толпу. Действительно, при определенных условиях может – ведь общество не имеет навыков демократического принятия решений. Так и происходило в условиях бунтов конца 50–х – 60–х гг.
Но большинство советского общества относилось к радикалам без большой симпатии – как и в любую стабильную эпоху. Однако идейно бунтари были связаны с остальным обществом – как с широкими массами, так и с образованной элитой. Откуда черпали они свои взгляды – из народных глубин, или от интеллектуалов? Это важный вопрос – в зависимости от ответа мы сможем что–то судить о «молчаливом большинстве». Были ли «крамольники» спикерами народа? Или грубыми трансляторами рефлексий интеллектуальной элиты?
Подполье не было интеллигентским. Половина осужденных в 1957 г. состояла из рабочих. Не значит ли это, что подполье отражало истинное отношение народа к «оттепели» и хрущевской политике уже во второй половине 50–х гг.? [661]661
Таковыми видят их авторы сборника «Крамола. Инакомыслящие в СССР при Хрущеве и Брежневе». (С.17–18).
[Закрыть]
«Позитивные перемены в общественно–политической жизни страны, в частности реабилитация жертв сталинских репрессий, осуждение культа Сталина, некоторое смягчение режима в области культуры и искусства, практически находились вне сферы жизненных интересов рабочих. Новый политический курс, поддержанный интеллигенцией и студенчеством, для рабочих выразился в фактическом снижении социального статуса. Выдвижение интеллигенции как социальной группы, вызванное требованиями научно–технического прогресса, ставило под сомнение дальнейшее привилегированное положение рабочих как класса по отношению к остальным группам» [662]662
Там же. С.328. Дополнительный аргумент: «События июльского (1957 г.) Пленума ЦК КПСС, осудившего членов так называемой «антипартийной группы», оказали дополнительное влияние на усиление антихрущевских настроений в рабочей среде» (С.327). Очевидно, Э.Ю. Завадская и О.В. Эдельман имеют в виду июньский пленум ЦК КПСС 1957 г. Однако, если какая–то часть населения СССР и отнеслась с симпатией к «антипартийной группе», вряд ли на этом основании можно судить о динамике настроений в рабочей среде. «Крамольники», выступавшие в поддержку сталинских соратников, в радикальной форме выражали взгляды более широкого круга людей, но этому кругу противостоял другой, тоже широкий, и тоже выдвинувший своих радикалов, выступавших с позиций антисталинизма. К тому же на каждого обнаруженного авторами сборника «Крамола…» работягу, сочувственно отозвавшегося о Молотове, Маленкове и Кагановиче, в архивах несложно найти множество отнюдь не интеллигентов, которые предлагали, например, следующее: «Так пусть же участники антипартийной группы понесут заслуженное наказание и получат удар на свои головы тем мечом, каким наносили смертельные удары по лучшим сынам нашей Родины. Не могу больше ничего сказать, так как я человек малограмотный, беспартийный. Но клокочет мое сердце от гнева к антипартийной группе» (РГАНИ, Ф.5. Оп.33. Д.173. Л.121).
[Закрыть], – объясняют пролетарскую «крамолу» Э.Ю. Завадская и О.В. Эдельман.
Очевидно, авторы преувеличивают «привилегированность» рабочих при Сталине. Это положение было выше разве что крестьянского. А вот такие «позитивные перемены», как сокращение рабочего времени в предвыходные дни и массовое строительство явно затрагивали интересы рабочих масс. Так что до начала 60–х гг. курс партии был вполне популярен. Но это – при прочих равных. Сталкиваясь с усилением эксплуатации, бесправием, бытовой неустроенностью, устав от трудностей жизни, рабочий мог перейти на оппозиционные позиции – также как интеллигент.
Ведь и интеллигенция тоже была представлена в подполье. При этом значительная часть осужденных всех социальных страт – это молодежь. Здесь юношеский максимализм еще довлеет над классовыми факторами. Так что попытка на основании взглядов подпольщиков разделить интересы трудящихся классов и интеллигентской элиты все–таки нельзя признать обоснованной.
В 1958 г. Верховный суд обобщил материалы судебной практики по политическим делам в 1956–1957 гг. [663]663
Крамола. Инакомыслящие в СССР при Хрущеве и Брежневе. С.38–44.
[Закрыть]Это исследование, несмотря на идеологически обусловленную методику группировки осужденных, дает интересный портрет разоблаченного радикала начала оттепели.
Твердых антисоветчиков (рецидивистов) среди двух тысяч осужденных в 1957–1958 гг. было всего около 20 человек. В год разоблачалось лишь несколько десятков «антисоветчиков», которые объединялись в группы [664]664
Там же. С.39–40.
[Закрыть]. Треть осужденных распространяла листовки, что считалось преступлением практически независимо от содержания. При чем большинство из них были одиночками [665]665
Там же. С.40.
[Закрыть].
Современные либеральные историки, снова смешивая сталинскую и хрущевскую эпохи, продолжают настаивать, что в это время «власть все еще демонстрировала ветхозаветное, жестокое, осмеянное еще Салтыковым–Щедриным и расцветавшее в сталинские времена отношение к крамоле. Наказанию подлежали не только поступки, но и сам образ мысли. Полицейские же чиновники, готовые хватать людей за «неправильные мысли», явно испытывали полумистический трепет перед произнесенным Словом, каковое мифологическое сознание наделяет силой заклинания и проклятия» [666]666
Там же. С.41.
[Закрыть]. Глупая, иррациональная власть, осмеянная великим Щедриным и его эпигонами… Но вот настали 80–е гг., когда режим перестал сдерживать Слово, и волна оппозиционных митингов смыла коммунистический режим. Тогда выяснилось, что действия репрессивной машины, сдерживавшей инакомыслие, были вполне рациональны. Ничего мистического, только самозащита. Только забота о том, чтобы Слово не перешло в дело, радикальное обличение власти в радикальные действия против нее.
Чтобы представить действия власти абсурдом, подполье рисуется в виде веселых шалостей. «Эти, в сущности, безобидные затеи тем не менее привлекали внимание правоохранительных органов, видевших опасность в любых неподконтрольных объединениях молодежи и озабоченных отдельными попытками членов подобных групп раздобыть оружие» [667]667
Там же. С.320.
[Закрыть]. Ничего себе безобидные группы, если они собираются раздобыть оружие.
Масштабы акций некоторых групп были довольно внушительными. Так, в г. Сталино было распространено около 2 тысяч листовок: «Не верьте чекистам», «Не верьте коммунистам», «Голосуйте за беспартийных». Власть не без оснований опасалась такой пропаганды – в 1959 г. в СССР начнется волна социальных бунтов.
Только три ареста было произведено за распространение листовок НТС, и только два – за использование для создания листовок пишущей машинки [668]668
Там же. С.43.
[Закрыть]. Эпоха самиздата только начиналась. Но уже в 60–е гг. машинка стала главным орудием инакомыслящего.
Противники режима использовали разные пути для того, чтобы анонимно или от имени политической организации (часто состоявшей из одного человека) сообщить власти и населению о своей протестной позиции: кроме устной пропаганды можно было написать о наболевшем в газету, на бюллетене для голосования (а зачем он еще нужен?) или изготовить листовку. По статистическому наблюдению О.В. Эдельман, «грубо говоря, написанием листовок увлекались школьники и студенты, а анонимки (кстати, те только антисоветские) были любимым занятием пенсионеров» [669]669
Там же. С.229.
[Закрыть].
Подавляющее большинство радикальных групп времен «оттепели» были просто пропагандистскими, но как минимум 4 группы вынашивали планы терактов и (или восстаний). При чем террористами могли оказаться и леваки, как группа московских анархо–синдикалистов 1957–1961 гг. (идеологи А. Иванов и В. Осипов), и демократы, как минская группа 1962–1963 гг. (идеолог С. Ханженков).
12,3% осужденных высказывали террористические намерения, то есть могли считаться экстремистами в любой стране. Другое дело, что не всегда эти намерения были сопряжены с реальными приготовлениями, и в не–авторитарном режиме такие высказывания не всегда наказуемы, хотя в XXI веке – все чаще. Однако были в СССР и реальные террористы, готовившие реальные теракты.
Так, анархо–синдикалистская группа, действовавшая в движении «маяковцев» (см. Главу II), обсуждала возможность покушения на Хрущева, чтобы предотвратить начало Третьей мировой войны («Гаврила Принцип наоборот»). Подыскали место покушения и стали искать оружие. На этом этапе идея, обсуждавшаяся в кругу «маяковцев», утекла за его пределы [670]670
Н. Митрохин со слов участников событий утверждает, что о планах покушения (имея в виду отговорить инициаторов) разговорился Ю. Галансков, обсуждавший вопрос с В. Буковским и А. Щукиным. Тот поделился с Сенчаговым, сообщив, что планируется «взорвать съезд». Сенчагов после некоторых колебаний сообщил в КГБ (Анархо–синдикализм и оттепель. С.44–45.).
[Закрыть], и начались аресты. Терроризм в итоге суду доказать не удалось, так как эти намерения признал лишь идеолог группы А. Иванов, одновременно прикрывшийся психическим диагнозом. Но террористическая угроза способствовала суровым приговорам другим участникам «Маяка» уже за антисоветскую пропаганду.
Террористические намерения не были отличительной чертой экстремистов времен «оттепели». В 70–е гг. к оружию обращались националисты и «самолетчики», стремящиеся захватить самолет и улететь на Запад. Крупнейший теракт в послевоенном СССР произошел 8 января 1977 г., когда в московском метро прогремел взрыв. Через полчаса еще два взрыва произошло в центре Москвы у мест скопления людей. Погибло 7 и было ранено 37 человек. КГБ и МВД провели широкомасштабное расследование. При множестве ложных ходов, «органы» смогли выяснить, где изготовлена сумка, в которой находилась бомба. Поэтому ко времени подготовки следующей серии террактов КГБ примерно знал, кого искать. Благодаря неосторожности террористов новые терракты, подготовленные к октябрьским праздникам, сорвались, а исполнители были задержаны. Ими оказались молодой рабочий А. Степанян и художник З. Багдасарян. На квартире Степаняна были найдены детали новых бомб и материалы, которые по мнению сотрудников КГБ изобличали как руководителя группы одного из основателей подпольной Национально–объединенной партии С. Затикяна. 3 ноября 1977 г. он был арестован. Процесс 16–20 января 1979 г. был закрытым, Затикян не признал себя виновным. По мнению диссидентов это свидетельствовало о слабости позиций обвинения. В 1997 г. хроникальные кадры процесса были показаны по телевидению (ОРТ). Затикян, понимая, что исход процесса предрешен, откровенно говорил то, что думает – обличал «жидо–русскую империю». Он не считал себя виновным в терактах, потому что не считал их преступными. Власти не хотели выносить такой «сор из избы». Все трое были расстреляны [671]671
Взрыв в московском метро. ОРТ, 1997; Сахаров А. Воспоминания. Т.1. С.728–732.
[Закрыть].
Экстремизм был одним полюсом подполья. Другим было латентное негодование против правителя. 28,8% осужденных в 1957–1958 гг. клеветали на КПСС, лично Хрущева, при чем часто – нецензурно [672]672
Крамола. Инакомыслящие в СССР при Хрущеве и Брежневе. С.42.
[Закрыть]. Это не была, конечно, систематическая пропаганда, а скорее негодование. Такие люди есть в любом обществе, и при авторитарных режимах подобные действия наказуемы. С 1959 г. к этой категории недовольных стали применять профилактику, и они могли избежать наказания, если не переходили к активным действиям – будь то расклейка листовок или участие в бунте.
Все флаги
Радикалы хрущевской эпохи представляют широкий идейный спектр:
1. Демократический социализм: в СССР нет демократии и свобод, необходимо добиться их осуществления на основе социализма, что поможет установить и социальное равноправие. Здесь нередка апелляция к югославскому опыту.
2. Демократы: необходима свобода и демократия, свержение антинародного режима. Иногда близкая позиция формулировалась со ссылкой на пример Запада, ее можно характеризовать как либерально–западническую.
3. Консерваторы: необходимо вернуться к дореволюционным порядкам, можно (хотя не обязательно) – с помощью вмешательства Западного мира (такая пораженческая позиция встречается и у либералов).
4. Авторитарный социализм (включая откровенный сталинизм, более размытый эгалитаризм, защиту группы Маленкова–Молотова–Кагановича): критика Хрущева лично и его окружения за перерождение после смерти Сталина.
5. Националисты, как правило настроенные антисемитски..
6. Коммунисты – марксисты–ленинцы (включая незначительное число маоистов).
7. Анархисты.
Эти основные позиции могли смешиваться в пограничных состояниях (демократы и социалисты, авторитарно–социалистические и консервативные националисты и др.).
Пересечение демократической и экстремисткой позиции породило такую типичную для времен Перестройки психо–политическую категорию, как «демшиза», которая, однако, не могла распространиться в авторитарной системе в силу неспособности приспосабливаться к условиям и отсутствия аудитории, способной поддержать антикоммунистический разговор.
Под влиянием передач зарубежного радио в 1962 г. возникла группа НТС. Несмотря на национализм в идеологии НТС, для советских радикалов присоединение к этой антикоммунистической организации означало прежде всего солидарность с Западом.
Идейная структура подпольных кружков сохранилась в следующее десятилетие после «оттепели» [673]673
Там же. С.340–345.
[Закрыть].
Большинство осужденных в 1957–1958 гг. мыслили в рамках марксизма. Жизнь в капстранах восхваляли только 16,6% арестованных – радикальное инакомыслие (также, как и более умеренное) было преимущественно социалистическим [674]674
Там же. С.44.
[Закрыть].
8% осужденных за антисоветскую агитацию и пропаганду, вели ее «на религиозной почве» [675]675
Там же. С.42.
[Закрыть].
Из националистических групп крупнейший «поток» был украинским – 3,3% [676]676
Там же. С.44.
[Закрыть]. Были разоблачены Украинский революционный центр, Объединенная партия освобождения Украины, Украинский национальный комитет, выступавшие за независимость. Но украинский сепаратизм воспроизводился и позднее – в 1958–1961 гг. действовал Украинский рабоче–крестьянский союз. Однако эти группы были настолько малочисленны, что их вряд ли можно считать выразителями преобладающих на Украине настроений.
Идейные позиции в листовках и других подобных текстах формулировались с разной степенью радикальности, но большинство было вполне экстремистским – требовали свержения режима, насилия над руководством страны и коммунистами, иногда – интервенции Запада. Однако авторитарный режим в 50–е гг. репрессировал и за другие политические требования (если они были прямо выражены как политические).
Советские экстремисты вдохновлялись разными культурными традициями, о которых легко было узнать уже в школе. Одни заявления составлены в духе бунтовских грамот прошлых веков. Например: «Душите народ, но придет час расплаты с вами, бандитами. Вы народ гноите в сырых, грязных, темных лачугах. Сами, деспоты, заливаетесь вином, загребаете деньги десятками тысяч, ведете развратную жизнь, живете в роскошных палатах, а отношение к трудовому народу как к скотине. Придет время, народ припомнит вам. Долой убийц, да здравствует русский народ» [677]677
Там же. С.203–204.
[Закрыть].
Другие представляли собой настоящие политические платформы.
Студенты ЛГУ в 1956 г. создали «Союз Революционных Ленинистов» и написали его программу. Они критиковали отход от ленинских норм государственной и партийной жизни», который не ограничивается культом Сталина. Программа констатировала, что «в советском обществе имелись объективные условия для появления такого культа, не устраненные и до сих пор, а именно: ограничение партийной и советской демократии… Узость проводимой ЦК КПСС политики заключается в том, что борьба за устранение причин изменений норм государственной и партийной жизни подменяется поверхностным осуждением культа личности, который является всего–навсего следствием этих изменений» [678]678
Там же. С.352.
[Закрыть].
Происходит бюрократизация и загнивание партийно–государственного аппарата, а следовательно, их отрыв от масс и противопоставление трудящимся. Вот все это привело к снижению политического уровня и творческой активности широких масс трудящихся.
Чтобы исправить положение, необходимо пробудить и воспитать политическую и творческую активность трудящихся. Для этого, по образцу РСДРП начала века создается подпольный СРЛ, который призван вести пропаганду идей марксизма–ленинизма среди широких масс.
СРЛ выдвигает следующие основные программные требования:
«Чистка и значительное сокращение государственного (советского) аппарата»; предоставление свободы действий и большей исполнительной власти местным советам; чистка партии, чтобы она стала подлинно рабочей; «признание первичной организации основой партии, недопущение грубого администрирования вышестоящих партийных органов по отношению к первичной организации»; немедленное искоренение порочной практики фактического назначения руководящих партийных работников» [679]679
Там же. С.353
[Закрыть].
Как видим, перед нами произведение людей, хорошо усвоивших историю партии в ее официальном изложении. Они даже не претендуют на свержение режима. Их программа типична для взглядов радикалов 1956 г. Но они сознательно создали подпольную организацию и потому попали под каток репрессивной машины.
О.В. Эдельман считает, что выступление подпольщиков от имени партии или политической организации со звучным названием объясняется потребностью «приписать себя к какой–либо массе, узнаваемой идеологической платформе, заявка на которую давалась в названии организации («Всесоюзный демократический фронт», «Революционная социал–демократическая партия», «Социалистический союз свободы», «Партия справедливости советского народа», «Подпольная коммунистическая партия Советского Союза», «Чистая марксистско–ленинская партия», «Партия истинных коммунистов» и т.д.)», а также официальной «пропагандой романтики» революционного подполья. Приведенные названия организаций явно отсылают нас к легендарному началу революции, «ленинскому» периоду, благодаря усилиям пропаганды ставшему символом счастливой, насыщенной высоким смыслом жизни» [680]680
Там же. С.236.
[Закрыть]. В этих оценках бросается в глаза противоречие: в «легендарном начале революции» не было ни «Демократического фронта», ни «Партии справедливости советского народа».
Источником большинства названий подпольных организаций было собственное творчество их членов, учитывавших (что вполне разумно) опыт революционного движения и мирового политического процесса (где как раз можно было встретить и «Демократический фронт»). Этот опыт был мифологизирован в СССР, но в массовом сознании он мифологизирован и сейчас.
Схема, изображающая советское общество и его оппозиционеров как нечто архаическое, обращенное только в прошлое, не выдерживает проверки фактическим материалом. В мышлении советского человека был и традиционализм, и собственное творчество, и стремление в будущее. В сознании радикалов эта сложность накладывалась на максимализм и стремление к действию. Они стремились не спрятаться за массой, а организовать массу, создать ядро будущей партии. Как показал опыт Перестройки, если такие действия не пресекать, то партии одиночек превращаются в партии сотен, а некоторые – и тысяч людей.
В этом отношении люди, писавшие программы партий в 50–60–е гг., опередили время. Они, конечно, были увлечены опытом 1917 г. как грандиозного, фундаментального для советского общества события. Но организаторы «Демократического фронта» и «Партии справедливости советского народа» не собирались просто повторять старый опыт, хотя бы потому, что в итоге он привел к нежелательным результатам. Их политическая концепция проникнута модерном, конструированием небывалого. То же самое было и в Перестройку, когда политическая традиция (и попытка восстановить ее после политической монополии КПСС) переплеталась с новизной.
Революционеры и правозащитники
В 60–е гг., когда инакомыслие нашло легальные пути развития, власть уже не опасалась оппозицию так, как прежде. Теперь подпольщиков профилактировали наравне с диссидентами, а более строгие меры применяли только группам, систематически распространявшим листовки, а также к экстремистам, стремившимся к вооруженной борьбе.
Практика профилактирования, а также развитие диссидентского движения, в которое направились оппозиционно настроенные люди, сократили количество репрессированных подпольщиков, но подполье продолжало воспроизводиться. С 1967 по 1971 г. было выявлено 3096 подпольных групп и организаций, «профилактировано» 13602 их участников [681]681
Там же. С.317.
[Закрыть]. Средняя численность подпольной группы в 60–е гг. составляла 3–5 человек.
Внутренний мир подполья мало менялся с середины 50–х до середины 80–х гг. «Подпольные группы 1950—1960–х гг. часто возникали на почве личного знакомства, родства. Подпольщиков хрущевского периода обычно связывало совместное обучение в школе или институте, работа, родственные отношения» [682]682
Там же. С.319.
[Закрыть]. Это был тесный круг друзей, занятых выработкой теории и поиском возможности изменить с ее помощью страну. Приняв правила подполья, радикалы пытались соблюдать правила конспирации, вербовать новых членов. Кружки были заняты, в основном, внутренними дискуссиями. Если от решения, принятого в кружке, зависит судьба страны, то необходимо сначала детально проработать программу, чтобы потом не наделать ошибок, производя революцию. Споры велись так, будто революционеры уже стоят во главе государства. Любое разногласие могло привести к расколу. В итоге марксистско–ленинские кружки занимались самоедством вплоть до Перестройки, когда они смогли легализоваться и продолжить идейную эволюцию в обстановке свободной дискуссии с другими формированиями [683]683
См. Шубин А.В. Преданная демократия. СССР и неформалы. 1986–1989. М., 2006. С.21–36.
[Закрыть].
Подключение некоторых кружков к сети распространения самиздата и тамиздата резко ускоряло идейный поиск, одновременно, по понятным причинам, сдвигая его вектор вправо. Однако преодоление информационной закрытости вело к уходу участников в другие общественные структуры – более действенные (будь то диссиденты или прогрессисты). Заключение в лагерь также становилось для бывших подпольщиков университетом инакомыслия.
В ноябре 1965 г. были осуждены члены группы «Союз коммунаров», которые написали программу «От диктатуры бюрократии к диктатуре пролетариата», в июле и ноябре 1964 г. распространили листовки с призывами к революционной борьбе с советской бюрократией, выпустили 6 номеров рукописного журнала «Коммунар», вели переписку с единомышленниками в других городах. В общем – были крупным, но довольно типичным подпольным кружком. После освобождения из заключения идеологи группы В. Ронкин и С. Хахаев включились в идейное поле диссидентского движения, приняли участие в журнале «Поиски».
Крупнейшая подпольная организация – Всероссийский социал–христианский союз освобождения народа (ВСХСОН) – возникла уже под воздействием информации, циркулировавшей в самиздате и приходившей из–за рубежа. ВСХСОН возник в 1964 г. как подпольная «белая армия». Его лидер И. Огурцов представлял дело неофитам так, будто в организации уже состоят тысячи членов. Идеология союза, разрабатывавшаяся прежде всего Е. Вагиным и И. Огурцовым, основывалась на философии «Серебряного века», прежде всего – социал–христианских идеях Н. Бердяева, изложенных в «Новом средневековье».
Союз выступал за всенародные выборы главы государства, его подотчетность парламенту и другие общедемократические положения. «Изюминкой» конституционной программы ВСХСОН был высшей контрольный орган – Собор – из представителей духовенства. Социально–экономическая программа была сформулирована в русле «третьего пути» между «социализмом» и капитализмом. Формально запрещалась эксплуатация, допускался ограниченный наемный труд.
Ключевые отрасли предполагалось оставить в руках государства, остальные – передать рабочим коллективам, а землю – во владение частным лицам и коллективам. Подобные взгляды были популярны во время Перестройки – безо всякого влияния ВСХСОН. Просто идеи развиваются по определенным маршрутам.
Создавая подпольную «белую армию», лидеры ВСХСОН ввели строгую конспирацию с делением на «тройки». Каждый знал своего старшего по тройке и второго ее члена. Члены организации должны были вербовать новых членов, создавать новую тройку, где инициатор становился старшим.
Кроме вербовки новых членов организация добывала, размножала и распространяла запрещенную литературу (Н. Бердяева, М. Джиласа, В. Соловьева и др.). Размножение текстов шло на нескольких печатных машинках и с помощью фотоаппаратов. Так что ВСХСОН был сопоставим по «мощности» с редакциями крупнейших диссидентских изданий. Обсуждалась и возможность организации вооруженного восстания в будущем.
В феврале–марте 1967 г. было арестовано или задержано около 60 человек (в Ленинграде, Томске, Иркутске, Петрозаводске и др.). 28 человек были членами организации, а 30 – кандидатами.
В ноябре 1967 г. были осуждены основатели ВСХСОНа. И. Огурцов получил 15 лет заключения, М. Садо – 13, Е. Вагин – 8, Б. Аверичкин – 8.
В апреле 1968 г. были приговорены к различным срокам заключения остальные действительные члены организации [684]684
«Хроника текущих событий». 1968. №1; Митрохин Н. Русская партия… С.212–235.
[Закрыть].
Некоторые подпольные группы продолжали действовать автономно, даже установив контакты с диссидентами и статусными вольномыслящими, включаясь таким образом в более широкое идейно–политическое поле.
Орловский «Патриотический фронт России», существовавший в 1969–1972 гг., установил связь с Хроникой текущих событий. Подключившись к каналам распространения самиздата, радикалы–подпольщики превратились в его подсистему и потеряли самостоятельное значение. Документы «фронта» несут на себе очевидное влияние диссидентских идей и воспроизводят некоторые идеи, близкие ВСХСОН.
«Главной целью своей деятельности мы ставим коренное преобразование государственного строя на началах политической свободы и демократии. Мы требуем признания в основном государственном законе прав человека и гражданина, изложенных во «Всеобщей Декларации прав человека»».