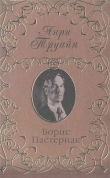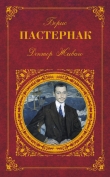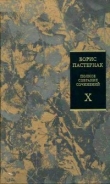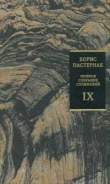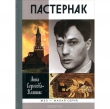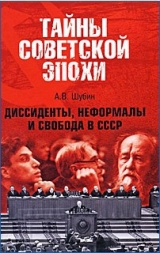
Текст книги "Диссиденты, неформалы и свобода в СССР"
Автор книги: Александр Шубин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 34 страниц)
В случае сравнения уровня «культурной продукции» 70–х и 90–х гг. (не говоря о нынешнем десятилетии) выигрыш советских образцов становится все более очевиден. Подросткам 70–х – начала 80–х гг. был предоставлен широкий выбор. Кто–то формировал свое мировоззрение, читая Стругацких. Кто–то – слушая рок. Многие совмещали эти пути приобщения к культуре с другими (включая хождение в кино и пение песен бардов под обычную гитару), что и создавало уникальную палитру культурных вкусов и мировоззрений «восьмидесятников».
Первоначально уровень культуры, поддержание которого обеспечивала значительная часть рок–музыкантов, был весьма низок:
Узнал, что где–то пьют вино,
А где–то музыка слышна.
И ты идешь туда, где пьют,
И ты берешь еще вина.
Просто хочешь ты знать,
Где и что происходит,
– пел Цой
Часто рок–музыканты в культурном отношении откровенно «играли на понижение»:
Проснулся я утром, часа в два.
И сразу понял – ты ушла от меня.
Ну и что? Ну и что, что ты ушла?
От меня?
Все равно опять напьюсь.
(«Звуки Му»).
И это – приобщение к культуре?
Такой курс значительной части рок–музыкантов определялся давлением публики. Так, «заумные» тексты группы «Странные игры» были встречены криками «Трубадуров со сцены» [965]965
Там же. С.109.
[Закрыть]. Чтобы противостоять толпе в зале, нужно было иметь действительный талант и мужество. Часто не хватало то того, то другого, то обоих сразу.
«Еще должно пройти время, прежде, чем мы поймем, что устами рок–певцов заговорила вся многомиллионная молодежь России», – считает И. Смирнов [966]966
Там же. С.60.
[Закрыть]. Боюсь, такое «понимание» не придет никогда. Рок представлял мироощущение далеко не всей молодежи страны, хотя и весьма заметной ее части. По аналогии с подобным (хотя и не молодежным) явлением XIX в. их можно назвать «лишними людьми»:
Гуляю я, один гуляю,
Что дальше делать, я не знаю,
Нет дома, никого нет дома,
Я лишний, словно куча лома у–у,
– пел В. Цой. Вечная тема «лишнего человека» в детском исполнении эпохи «реального социализма».
Культура «лишних людей» бродила среди «детей проходных дворов», к которым апеллировал Цой, превращаясь из проблемы поколений в социальное явление. Для них единственным путем к культуре и антикультуре был рок. Так же как для других – телевизор или библиотека. К культуре или антикультуре.
В роке было нечто, что отличало его от сонного царства СССР. Это было действие, в котором мог принять участие каждый. Независимо от уровня его культуры. Для человека, который не научился еще быть активным зрителем – это было ключом к вхождению не просто в культурную среду, а именно в активную культурную среду. Она была не выше средней по стране, но отличалась от нее соучастием в действии. Сюда приходили молодые люди, которые хотели знать «где и что происходит», а не искали путь по карьерной лестнице или возможности социальных преобразований.
Кто в детстве не писал стихов? Некоторые даже читали их в узком кругу знакомых. С возрастом приходило осознание несовершенства форм, появлялся профессионализм в другой области, и стихотворчество иссякало. Но подрастающее поколение «восьмидесятников» не хотело мириться с одномерностью общества и выплеснуло ему на голову несовершенство своих юношеских виршей:
Мои друзья идут по жизни маршем,
И остановки только у пивных ларьков.
А я смеюсь, хоть мне не всегда смешно,
И очень злюсь, когда мне говорят,
Что жить вот так, как я сейчас, нельзя,
Но почему? Ведь я живу,
На это не ответить никому.
Те, кто захотел быть свободным от общества, оказался в плену замкнутой субкультуры.
Сатирическая зарисовка Гребенщикова:
Гитаристы лелеют свои фотоснимки,
И поэты торчат на чужих номерах.
И сами давно звонят лишь друг другу,
Обсуждая, насколько прекрасен наш круг.
КСП–шников от аналогичного кризиса спасло появление новых людей.
Где та молодая шпана,
Что сотрет нас с лица земли?
Ее нет, нет, нет…
Став после Тбилиси–80 лидером советского песенного радикализма, Гребенщиков взялся выращивать эту «молодую шпану». Помимо музыкальных интересов круг Гребенщикова был увлечен восточной мистикой. Это модное поветрие захватило и Цоя. Но творчество оставалось главной темой общения. «19 летний Виктор Цой, один из двух сооснователей КИНО, учился у Гребенщикова, который даже участвовал в записи первого (интересного по замыслу, но запоротого технически) альбома «45», – пишет И. Смирнов. – Цой тяготел к неоромантике и одевался куда изысканнее своих коллег. Его компаньон Алексей Рыбин, напротив, сворачивал руль «влево» – в сторону чистого панк–рока. Его песня «Все мы как звери» стала гимном ленинградских агрессивных панков – ПТУшников, именовавших себя «зверями» [967]967
Там же. С.60.
[Закрыть].
Своеобразие этого направления рока вытекало из синтеза «несоединимого» – традиции хиппи и панка. Панковская община Ленинграда, насчитывавшая 20–30 человек (оптимальный размер будущих неформальных групп), превосходила Гребенщикова по степени эпатажа. Они игнорировали всякие культурные нормы. Один из панков того времени А. Рыбин вспоминал: ”тотальная безграмотность сочеталась у рокеров с постоянной агрессивностью – я имею в виду тексты песен, даже самые, на первый взгляд, безобидные» [968]968
Рыбин А. Указ. соч. С.22.
[Закрыть].
Гребенщиков, покровительствовавший панкам, сам, однако, «был абсолютно неагрессивен, он не бился в стену, не ломился в закрытую дверь, ни с кем не воевал, а спокойно отходил в сторонку, открывал другую, не видимую для сторожей дверь и выходил в нее. При этом в его неагрессивности и простоте чувствовалось гораздо больше силы, чем в диких криках и грохоте первобытных рокеров. Они хотели свободы, отчаянно боролись за нее, а Б.Г. был уже свободен, он не воевал, он просто решил и СТАЛ свободным» [969]969
Там же.
[Закрыть]. Навсегда ли?
Государство уже потеряло контроль, машина шоу–бизнеса еще не подобрала его. В начале 80–х гг. рок–движение представляло собой образец свободного неформального сообщества, в котором царил дух вольной и подчас грубоватой дискуссии, немыслимой в официальной культуре. «Да, концерт был попросту поганый», – комментировал рок–журнал «Рокси» выступление группы «Кино» [970]970
Виктор Цой. Стихи. Документы. Воспоминания. С–Пб., 1991. С.172.
[Закрыть]. Музыканты были вольны вынести на суд зрителей свое несовершенное творчество. Зрители имели возможность сказать все, что они думают о графоманах. Наиболее тактичные облекали свою критику в изящные тона. Так, например, А. Гуницкий, говоря о том же «Кино» образца 1984 г., назвал их песни «очаровательным примитивизмом» [971]971
Там же. С.173.
[Закрыть]. Но «примитивизм» находил поклонников не только в среде подростков, «не доросших» до большой поэзии, но и среди любителей жанра. Для них была важна не столько поэзия, сколько само шоу, само действие. А. Зандер комментировал: ”КИНО губительно показало, что суть живой рок–музыки – в обмене энергией с сидящими в зале… То, что Цой делал на сцене – было какое–то языческое волхование, рок–колдовство. Многие из его приемов – повторение одной и той же фразы под мерный и достаточно простой ритм, все его распевки – «а–а–а–а–а», «у–у–у–у–у» – классическое шаманство» [972]972
Там же. С.175.
[Закрыть].
Аура рок–шоу компенсировала «очаровательный примитивизм» текстов. Впрочем, как и в 50–60–е гг., сквозь толщу графомании у некоторых авторов пробивались ростки подлинного мастерства. Произвольные сочетания слов случайно обретали смысл, благо толкователи были готовы его искать. Цой объяснял смысл своих стихов: ««Камчатка» и «Алюминиевые огурцы» – это чистая фонетика и, может быть, какие–то моменты, не связанные между собой и имеющие задачу вызвать ассоциативные связи. Можно назвать это второй фантастикой» [973]973
Там же. С.176.
[Закрыть]. Но только ли фантастика в словах «Я сажаю алюминивые огурцы на брезентовом поле». Абсурдные ассоциации – лакмусовая бумажка подсознания. В абсурдной цивилизации, где даже овощи пропитаны металлом, эти слова слишком близки к реальности.
Несмотря на «восточные» искания и западные корни рока, он все дальше отходил от зарубежных образцов и встраивался в традицию русской культуры. В начале 80–х гг. в рок–музыке стала доминировать традиция, в которой, говоря словами И. Смирнова, «полностью стерты не только технологические, но и стилистические различия между рокерами и бардами: частушки Шевчука ничем не отличаются от частушек Северного… «Электрический» Розенбаум – бард. Это новый феномен «народной магнитофонной культуры» – гораздо более русский, чем рок 70–х. Процесс «русификации», начатый с гребенщиковского Иванова, получил свое логическое завершение в забойном харде ОБЛАЧНОГО КРАЯ:
Венчает землю русскую
Красой своею славная
Столица златоглавая,
Ой да матушка Москва!
Это не единичные примеры, а повсеместная тенденция, и даже те, кто ориентируются в основном на западные образцы, отдают ей должное: Ленинградская АЛИСА включает в программу 1985 года отрывки из прозы М.А. Булгакова. Рок–музыканты осознают себя наследниками не только интернациональной рок–традиции, но и отечественной культуры, ее создававшегося веками духовного потенциала. «Чтобы писать песни, – говорит Шевчук, – недостаточно смотреть видеомагнитофон. Нужно читать Ключевского» [974]974
Смирнов И. Указ. соч. С.101.
[Закрыть].
Пожалуй, наиболее емко преемственность русской культуры и отечественного рока выразил А. Башлачев:
Долго шли зноем и морозами,
Все снесли и остались вольными,
Жрали снег с кашею березовой
И росли вровень с колокольнями.
Из этой традиции беспрестанной борьбы дикости и культуры вырастает рок:
Звонари черными мозолями
Рвали нерв медного динамика.
…Но с каждым днем времена меняются.
Купола растеряли золото.
Звонари по миру слоняются.
Колокола сбиты и расколоты.
Что ж теперь?
Ходим в круг да около
На своем поле, как подпольщики.
Эй, братва, чуете печенками
Грозный смех русских колокольчиков?
Колокольчики – предтечи будущих колоколов. Рок как преддверие будущего возрождения – высокая мечта неформальных поэтов.
* * *
Завершение эпохи Брежнева не предвещало рок–движению ничего плохого. В 1983 г. прошел запланированный ранее городской рок–фестиваль в Ленинграде.
Но год Андропова ознаменовался усилением гонений на «все, что движется». «В начале 1983 года бюрократия и связанные с нею эстрадно–мафиозные круги объявляют рок–музыке войну на уничтожение, – вспоминает И. Смирнов. – Преступление нашего жанра, как мы увидим далее, заключалось не только в социальности репертуара (что тоже немаловажно), но и прежде всего в стремительно растущей популярности и влиянии на молодежь некой силы, которая принципиально не вписывалась в феодально–бюрократические структуры…»
Предприятиям, учебным заведениям и комсомолу запрещено было устраивать танцевальные вечера без специальной санкции райотдела культуры, а профсоюзным организациям – «самовольно использовать» собственную (!) звукоусилительную аппаратуру и инструменты [975]975
Там же. С.108–109. Интересное объяснение поведения музыкального официоза выдвигает Д. Кречмар: «Для советских культурных функционеров всякая развлекательная музыка, будь то рок или диско, была сама по себе чем–то «западным» или «декадентским»» (Указ. соч. С.177). Вероятно, германскому исследователю неизвестно, что 70–начало 80–х гг. было временем расцвета развлекательной музыкальной эстрады, в том числе в стиле диско и даже рок (ВИА). Приводимый здесь же аргумент о том, что рок–концерты иногда сопровождались молодежными волнениями (особенно в случае их отмены, как в 1978 г. в Ленинграде) более существенен. Но если бы это обстоятельство играло решающую роль, то властям пришлось бы сначала запрещать футбол. Волнения футбольных фанатов были регулярным явлением, но не мешали властям покровительствовать этому виду развлечения.
[Закрыть].
Министерство культуры выпустило постановление, в соответствии с которым в репертуаре любого ансамбля должно быть не менее 80% песен с авторством членов Союза композиторов. В данном случае интересы режима, начавшего опасаться неподконтрольного развития музыки, совпали с монопольно–коммерческими интересами учреждения, которое призвано было контролировать музыкальную жизнь. Группам, которые желали работать легально, пришлось пройти унизительные прослушивания в СК.
Для координации работы ВЛКСМ, горуправления культуры и других ведомств Москвы в борьбе против «несанкционированного» рока было принято постановление «О мерах по упорядочению деятельности самодеятельных эстрадно–музыкальных коллективов г. Москвы», которое учреждало «научно–методические центры», призванные контролировать «молодежное творчество» в этой области. К тем, кто выбивался из под контроля, применялись более суровые меры. С февраля 1983 г. началось наступление КГБ и ОБХСС против рок–групп. Прерывались выступления, расследовались источники финансирования. Поскольку коммерческая деятельность была практически полностью запрещена, начались аресты. В августе оказались за решеткой А. Романов и А. Арутюнов из группы «Воскресение». Начались допросы всех, кто был связан с этим делом. Арестованные признали, что работали за деньги. Это был криминал.
Первые удары привели к новому расслоению рок–движения. И. Смирнов связывает его с ренегатством так называемых «мажоров»: “”им хочется бедным в Майами или в Париж. А Уфа, Свердловск – разве это престиж?» «Мажоры» – социальный тип, так метко определенный Шевчуком, поначалу поддержал рок–движение 80–х… Однако бардовская струя оставалась ему принципиально чужда, и такие группы как ДДТ или «Облачный край» не вызывали у него своим «народничеством» ничего, кроме раздражения» [976]976
Смирнов И. Указ. соч. С.115–116.
[Закрыть].
Народники и западники – два стиля в молодежной среде, которые соответствуют и «взрослому» разделению на демократов и либералов–западников. Во время Перестройки они будут выяснять, что важнее – «социальная справедливость» или «общество потребления». Массы пойдут сначала за первыми, потом за обоими, потом за вторыми. В рок–движении размежевание проявилось очевидно в андроповский год: «По мере того, как разворачивались репрессии, становилось ясно, что разногласия наши не только эстетические. В принципе, мальчик–мажор готов был (до определенного предела) отстаивать свои представления о красивой жизни против мажора, находящегося у власти (старого и немодного). И даже идти на определенные жертвы в надежде на то, что настанет и его черед сменить папашу у руля. Но – на очень определенные, так, чтобы они не затрагивали сытого существования в окружении дорогих вещей… Как только Андропов поднял планку риска много выше допустимого для них предела, вашему покорному слуге был предъявлен ультиматум: прекратить подпольную деятельность, которая–де ставит под удар всю советскую рок–музыку, и идти на компромиссы» [977]977
Там же. С.116.
[Закрыть], – вспоминает И. Смирнов. Аналогичные трения происходили и в КСП, но без влияния «мажорства». Помимо социальных водоразделов – в Советском Союзе весьма размытых – были и психологические. Одни стремились ломать массивную дверь, другие – открыть ее, – подобрав ключи.
«Мажорами» лагерь «соглашателей» не исчерпывался. Они были поддержаны принципиальными противниками «политики». Гвоздем спора была политичность или аполитичность движения. По мнению И. Смирнова, государственная политика в 1983 г. была направлена на «полное уничтожение рок–музыки как жанра» [978]978
Там же. С.117.
[Закрыть]. Но практические действия властей это не подтверждают.
Рок–музыка полностью в подполье не ушла. Концерты продолжались. В декабре прошло выступление А. Градского в московском ДК им. Русакова (в последний момент «Аквариум» отказался от рискованного выступления) [979]979
Там же. С.113–114.
[Закрыть]. В Ленинграде контролируемые властями рок–группы продолжали работать относительно спокойно. Режим волновали не жанровые вопросы, а «идейное содержание» и источники доходов рок–музыкантов. Тем, кто пытался игнорировать правила, навязанные властью, пришлось туго.
«Весной 1984 г. пошла вторая волна атак на рок. Главным объектом ее на этот раз были не деморализованные профессиональные группы, а «самодеятельность». Наконец–то на ребят «из подполья» всерьез обратили внимание! Однако совсем не так, как им хотелось бы. Пока любительские ансамбли существовали на локальном уровне, у них были локальные проблемы. «Пленочный бум» не только прославил их, но и сделал гораздо более уязвимыми» [980]980
Троицкий А. Указ. соч. С.75.
[Закрыть]. В дискотеки ушла команда не пропускать «магиздат». Правда, она далеко не всегда исполнялась – система уже давно не была тоталитарной.
Весной 1984 г. милиция произвела образцово–показательный разгром рок–концерта, в котором участвовала молодая группа «Браво». И. Смирнов вспоминает: «Лелик, сидевший рядом со мной, слушал без особого энтузиазма: «Песенки какие–то детские.» В этот самый момент Иванна (Ж. Агузарова – А.Ш.) запела «Белый день»:
Он пропоет мне новую песню о главном,
Он не пройдет, нет, цветущий, зовущий, славный,
Мой чудный мир!
и при словах «чудный мир» из–за кулис выскочили люди в милицейской форме, и с ними один штатский с рупором: ”Всем оставаться на местах!»… Я подбежал к окну. Вокруг клуба стягивалась милицейская цепь – пригнали милицейский полк. Потрясенный народ с балконов окрестных домов наблюдал происходящее.
К дверям ДК подъезжали автобусы, газики, спецмедслужбы, какие–то запорожцы. В них бравые стражи порядка швыряли всех, кто находился в ДК, без различия пола и возраста. Видимо, ставился целью «полный охват аудитории», как при голосовании за нерушимый блок коммунистов и беспартийных» [981]981
Смирнов И. Указ. соч. С.127.
[Закрыть]. Большинство участников рок–движения было уже достаточно опытно, чтобы допросы закончились безрезультатно. Почти. «Последнее слово все же осталось не за нами. «Что ж, – сказал наш интервьюер, группа «Браво», может, и будет выступать, но без солистки».
А у солистки, надо сказать, был обнаружен чей–то чужой паспорт, в которое она вписала что–то дурацкое – вроде «Иванна Андерс, датско–подданная». Счесть это изделие документом можно было только после основательной порции циклодола. Тем не менее Иванну–Жанну в течении более чем полугода перевозили из одного застенка в другой…» [982]982
Там же.
[Закрыть]В конце концов Жанну отправили к родителям в Сибирь, где она, кстати, заняла первое место на конкурсе молодых талантов [983]983
Троицкий А. Указ. соч. С.81.
[Закрыть].
Дело было, конечно, не в том, что псевдопаспорт кто–то принял за документ. Был важен сам факт издевательства над государственной символикой. А это была уже политика. Потому сотрудник КГБ допускал возможность выступления группы «Браво». Рок сам по себе авторитарному режиму не угрожал (а вот тоталитарный режим просто не позволил бы рок–музыкантам и их поклонникам дойти до ДК). Специалистов из КГБ и МВД волновала бесконтрольность, несогласованность программы с «соответствующими» инстанциями. А сами инстанции в таком согласовании были не заинтересованы. По мнению И. Смирнова ”Детские песенки» Иванны были опасны не своим содержанием, а тем, что она нагло нарушала феодальную монополию ведомств, ответственных за «песенки», и должна была понести строгое наказание – как негр, зашедший в ресторан для белых, или крестьянин, объявивший себя дворянином. Чтобы другим неповадно было» [984]984
Смирнов И. Указ. соч. С.127.
[Закрыть]. Но к этому времени в стране «развелось» уже довольно много непослушных музыкальных крестьян, и большинство из них за решетку не попадали, хотя тоже нарушали монополию официальной песенной машины. Карательные органы имели слишком высокий статус, чтобы печься об интересах фирмы «Мелодия». Но в 1983–1984 гг. «органами» была получена команда несколько сократить сферу действия неподконтрольных движений, которые, к тому же, все откровеннее политизировались. Для этого нужен был именно образцово–показательный разгон. Конкретное содержание песен в этот момент было не важно. Группе «Браво» просто не повезло – она попалась под руку, чтобы ответить за все крамольное содержание песен, возникающих в этой субкультуре.
Удары по року носили все же избирательный характер. В том же 1984 г. официально санкционированный фестиваль открывался песней В. Цоя:
Я объявляю свой дом безъядерной зоной,
Я объявляю свой двор безъядерной зоной,
Я объявляю свой город безъядерной зоной…
Какой–то юнец объявляет свой город безъядерной зоной, берет пример с западных пацифистов, разлагающих обороноспособность своего военного блока. Крамола? Ничего, в рамках официального фестиваля дозволили. А вот несанкционированный фестиваль на Николиной горе летом 1984 г. оттеснили на дачный участок одного из участников [985]985
Виктор Цой. С.45, 147.
[Закрыть].
Наступление на неподконтрольные рок–группы велось и в провинции. «Очень тяжкая ситуация сложилась в Уфе вокруг группы ДДТ. Из любимого певца–лауреата Шевчук после альбома «Периферия» превратился в «клеветника на башкирскую деревню» и «агента Ватикана». Именно такой вывод сделала местная газета «Ленинец», изучив текст песни «Напомним небо добротой», в которой упоминалось все то же крамольное имя Христа… Шевчука выгнали с работы и потребовали подписи под «отказом от сочинения и исполнения песен». По–видимому, он ответил на эту юридическую новацию слишком резко, поскольку вскоре вечером на дороге на него напали абсолютно трезвые, с виду приличные… ну, хулиганы, что ли» [986]986
Смирнов И. Указ. соч. С.129.
[Закрыть]. Осенью был арестован свердловский рок–певец А. Новиков. За изготовление и продажу музыкальной электроники он был приговорен к 10 годам заключения.
Тем не менее, по мнению И. Смирнова «война с рок–музыкой имела результаты, сокрушительные для тех, кто ее планировал… В результате репрессий нормальные электрические концерты до конца 1985 года практически прекратились. От этого прежде всего пострадали те группы, которые занимались собственно МУЗЫКОЙ и делали ставку на профессионализм, хорошую музыку, красочное шоу. Аполитичная традиция 70–х была, таким образом добита (или перешла под контроль властей – А.Ш.) – а бардовская, напротив, усилилась… Жестокость властей привела к радикализации и консолидации рок–движения и создала авторитет как раз тем, кто был для официальных властей максимально неприемлем. Возникла героическая легенда. И даже презренные ВИА–шники… которым приходилось всячески хитрить и сопротивляться грабежу, стали чувствовать себя диссидентами» [987]987
Там же. С.137.
[Закрыть]. Движение расширялось. На арену шли К. Кинчев, П. Мамонов, Г. Сукачев, А. Башлачев. По мнению последнего удары по рок–движению только укрепляли его:
А наши беды вам не снились,
Наши думы вам не икнулись,
Вы б наверняка подавились,
А мы ничего, облизнулись.
«Так еще никто не говорил от нашего имени с недосягаемыми заокеанскими учителями» [988]988
Там же. С.138.
[Закрыть], – комментирует И. Смирнов.
Более того, под ударами властей неформальное рок–движение концентрировалось в той самой социальной нише, в которой ранее находилось «добиваемое» ныне диссидентское движение. «Подняв планку», Андропов сокрушил диссидентов, но превратил в диссидентов значительную часть неформальных музыкантов. «Мы были полностью замкнуты в своем кругу, и никто нам не был нужен, мы не видели никого, кто мог бы стать нам близким по–настоящему – по одну сторону были милицейские фуражки, по другую – так называемые шестидесятники – либералы до определенного предела» [989]989
Рыбин А. Указ. соч. С.47.
[Закрыть], – вспоминал А. Рыбин. Даже структурно рок–культура шла по пути диссидентов: ”Квартирники» в это время становятся похожи на регулярные конспиративные собрания ранних христиан: кроме обязательной музыкальной части, там обсуждаются проблемы движения, принимаются общие решения, происходит раздача записей и самиздатовской литературы» [990]990
Смирнов И. Указ. соч. С.138.
[Закрыть], – вспоминает И. Смирнов.
* * *
После прихода к власти Горбачева началась осторожная легализация рок–культуры [991]991
См. Шубин А.В. От «застоя» к реформам. СССР в 1977–1985 гг. М., 2001. С.575–579.
[Закрыть].
Underground готовился явить себя обществу и, заранее комплексуя, представлял себя гадким утенком.
Я самый ненужный, я гадость, я дрянь
Зато я умею летать, – пел П. Мамонов.
Эти дерзкие слова контрастировали с философско–меланхолическим настроем умеренных бардов:
Я до сих пор не летаю,
Видишь, стою на коленях…(Ю. Кукин).
Рок движение было готово приобщать к «искусству полетов» и других. К. Кинчев обещает идущим за ним: «Я подниму тебя вверх – я умею летать», и командует сержантским криком: «Ко мне!!!».
Рок–музыканты сделали свой прыжок в неизвестность. Им казалось, что они уже умеют летать. Но никто еще не ведал, где закончится этот полет – на горных вершинах, в уютном гнездышке или в кровавой луже на камнях.
«Я ушел от начала, но не вижу конца», – пел К. Кинчев. Движение «ушло от начала», но не могло (да и не хотело) знать, чем все это кончится. Как и кремлевские реформаторы, рок–поэты лучше знали, от чего желают уйти, чем то, к чему стремятся. Из альтернативной песенной культуры, как и из всего общественного движения первой половины 80–х гг. могло получиться высокое искусство и разложение культуры, возрождение духа и бескультурие, настоящая поэзия и грязный бизнес, восхождение и разрушение. Могло получиться и получилось.
Зеленые
Зрелое индустриальное общество, в котором население начинает думать о качестве жизни, а противоречие между экономикой и природной средой вполне проявило себя – рождается движение Зеленых. Советский Союз не был исключением. По мнению С. Забелина «Движение Дружин по охране природы почти двадцать лет было единственным реальным неформальным общественным движением. Возникнув из гениального эмбриона времен первой оттепели, оно развернулось в унисон студенческим волнениям, охватившим в 1968 году почти весь мир. И с тех пор – несмотря на кризисы – пережило «застой», «ускорение» и многие другие социальные катаклизмы, никем и никогда не зарегистрированное, официально непризнанное и тем не менее – живое, активное» [992]992
30 лет движения. Неформальное природоохранное молодежное движение в СССР. Факты и документы. Под ред. Мухачева С.Г., Забелина С.И. 1960–1992. Казань, 1993. С.3.
[Закрыть]. Несмотря на то, что движение дружин все же было далеко не единственным неформальным потоком «застойного» СССР, оно действительно показало большую эффективность и мобилизационную способность.
В 1958–1960 гг., сначала в Тарту, потом в Москве, возникли первые дружины охраны природы (ДОП) – студенческие группы, на общественных началах занимавшиеся природоохранной работой.
Дружинники относили к причинам возникновения своего движения «информационный, пропагандистский взрыв в области природоохранной тематики…, противоречие между растущей общественной активностью студенчества и возможностями самовыражения, самоутверждения, имеющимися в вузе» [993]993
Там же. С.45–46.
[Закрыть]. Впрочем, авторы упоминают и другие формы самовыражения – научную работу, стройотряды реставраторов, работу в детдомах. Дружины отличались от других формирований своей боевитостью, духом настоящего приключения. В 70–е гг. такая возможность «дорогого стоила». Романтика ДОПовской работы позволяла молодым биологам хотя бы на время «спрятаться» от упорядоченности «застоя» и при этом принести пользу обществу и природе.
Внимание общества к охране природы было привлечено кампанией статусной интеллигенции в защиту Байкала в 1966 г.
В 1968–1969 гг. дружины возникли в Ленинграде, Ереване, Томске, Харькове, Брянске. По мнению социолога О.Н. Яницкого расширение дружинного движения было результатом «распространения опыта» сверху [994]994
Яницкий О.Н. Экологическое движение в России. М., 1996. С.41.
[Закрыть]. Однако не ясно, почему эта «мультипликация» пришлась на 1968 г., когда власти осторожно относились к подобным инициативам. Более убедительной представляется версия самих дружинников, считающих, что распространение дружинного опыта шло «по горизонтали», в результате установления контактов между биологами в разных городах [995]995
Забелин С.И. Беседа с автором 9 июня 1992 г.
[Закрыть]. В 70–е гг. движение росло вширь и начало координировать свою работу на различных неформальных встречах и официально санкционированных семинарах [996]996
30 лет движения. С.40–41.
[Закрыть]. В середине 70–х гг. в 39 дружинах работало около 2,5 тысяч человек (всего дружин было более 40). Дружинники задерживали нарушителей природоохранного законодательства, публиковали статьи в прессе, вели исследовательскую работу [997]997
Там же. С.44.
[Закрыть].
О.Н. Яницкий относит к обстоятельствам, обусловившим подъем экологического движения 60–х гг. также «создание «большой химии», строительство атомных и гидроэлектростанций, освоение целинных земель Сибири» [998]998
Экологическая политика и экологическое движение в России. М., 1995. С.15.
[Закрыть]. Однако эта точка зрения переносит на 60–е гг. стереотипы экологического движения более позднего периода. Промышленные предприятия практически не были объектом кампаний природоохранного движения вплоть до конца 70–х гг. Наиболее крупный объект, против которого общественность выступала в те годы, – Байкальский целлюлозно–бумажный комбинат. Но это движение, где ДОПы не играли самостоятельной роли, потерпело фактическое поражение – предотвратить строительство не удалось.
Главным противником экологистов вплоть до конца 70–х гг. были браконьеры (особо опасные – охотники, и более массовые нарушители – порубщики елок). Столкновения с браконьерами могли привести к гибели дружинника. Нередки были и драки с порубщиками елок и другими противниками [999]999
См. 30 лет движения. С.9, 12, 34.
[Закрыть]. «Это был не кружок, не клуб, а именно дружина, сплоченная, боевая организация, участие в которой требовало личного мужества. Браконьер был всегда вооружен и со своей добычей не собирался добровольно расставаться» [1000]1000
Яницкий О.Н. Социальные движения. 100 интервью с лидерами. М., 1991. С.31.
[Закрыть], – справедливо отмечает О.Н. Яницкий. Участники движения вспоминают: «Нередки были случаи сопротивления инспекторам и даже угрозы оружием… А инспекторов не хватало. Так, на выезде в румянцевское охотничье хозяйство на Тросненское озеро Д. Кавтарадзе был вынужден послать на задержание нарушителя двух первокурсников. Нарушитель, почувствовав недоброе, взвел курки своей двустволки и «посоветовал» уйти. И они ушли, так как для А. Кубанина и С. Забелина это была их первая встреча с нарушителем. Потом им не раз и не два приходилось задерживать нарушителей всех сортов, но этот так и остался неоплаченным долгом» [1001]1001
30 лет движения. С.25.
[Закрыть].
По мнению куратора дружины МГУ В. Тихомирова, значительная часть руководителей дела охраны природы и видных ученых биологов прошла через дружинное движение [1002]1002
Яницкий О.Н. Социальные движения. С.30.
[Закрыть]. В дружину шли самые разные люди – действительно озабоченные делом охраны природы, те, кто желал почувствовать власть, любители хорошего времяпрепровождения [1003]1003
30 лет движения. С.11–12.
[Закрыть]. Иногда и сами дружинники уличались своими товарищами в браконьерстве [1004]1004
Там же. С.9.
[Закрыть].
Состав дружин был текучим, что неизбежно при студенческой жизни. О.Н. Яницкий, проанализировав свои беседы с участниками движения, пишет: «периодически возникали трения между «новыми лидерами», стремившимися все делать по–своему, и корпусом «стариков», бывших носителями дружинных традиций. Однако и эта напряженность, и даже конфликты имели в конечном итоге стимулирующий для этой организации характер. Вообще ожесточенные, до хрипоты споры, «бросание портфеля», демонстративные «уходы» были нормой жизни ДОП и чрезвычайно редко приводили к деструкции организации как таковой» [1005]1005
Яницкий О.Н. Экологическое движение в России. С.51.
[Закрыть].
Опыт этих конфликтов был учтен в принятом на одном из дружинных семинаров «Кодексе чести» лидера ДОП. Ему рекомендовалось «изучать опыт «стариков», не отбрасывая его, но и не бояться спорить с ним» [1006]1006
Цит. по: Яницкий О.Н. Длинные 70–е: гражданское общество тогда и сейчас. // «Неприкосновенный запас». №2. 2007. С.45.
[Закрыть]. В условиях текучести кадров лидер ДОП (а точнее – лидеры, так как командир, как правило опирался на группу наиболее авторитетных участников) должен был готовить себе преемника. Если во время операции «на выезде» командир имел полномочия военного начальника, то при ее планировании поощрялась коллегиальность. «Штаб ДОП – это совет, где она воспитывается. Пусть учатся принимать решения сами» [1007]1007
Там же. С.46.
[Закрыть].
О. Н. Яницкий считает, что «создание ДОП было одной из форм «политики очень малых дел», при помощи которой Система пыталась в очередной раз мобилизовать вновь создаваемые кадры молодой советской интеллигенции в своих интересах… ДОП была не только, и даже не столько «орудием борьбы» в защиту природы, сколько очень важным средством социализации, содержащим элементы игры в процессах профессионального обучения студентов и привития им определенных бойцовских качеств, абсолютно необходимых для участия в природоохранной деятельности… И сама организация, и ее активность начинались с борьбы с браконьерством и пропаганды (лекций). В сущности, это была вполне советская интерпретация охраны природы как «борьбы с нарушителями и идеологической обработки населения…» Поэтому по большому счету, Движение ДОП не играло серьезной роли в охране природы (критерии «серьезности роли» не ясны – А.Ш.), оно было механизмом обучения, школой подготовки будущих экоактивистов» [1008]1008
Яницкий О.Н. Экологическое движение в России. С.33–34.
[Закрыть]. Но и это немало для 60–х – 70–х гг., особенно если учесть агитационный эффект самого существования дружин.