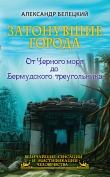Текст книги "Сокровища на дне"
Автор книги: Александр Окороков
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
Погода на Соловках в те июльские дни 1995 года явно не баловала туристов, съезжающихся со всего мира, чтобы увидеть один из величайших северных монастырей. Но нашей небольшой группе, прибывшей сюда из Москвы, явно повезло. Словно встречая старых знакомых, сияло солнце, легкий ветерок, поднимая рябь, играл бликами на волнах. Наше знакомство с Соловками действительно было давним. В 1988–1991 годах мы ныряли в водах Соловецкого архипелага, пытаясь понять секреты мастерства древних строителей, по крупицам воссоздавая одну из страниц богатой русской культуры.
Издревле эти острова привлекали человека. Их посещали, как показывают археологические находки, древние племена еще во II–I тысячелетии до н. э. В первой половине XV века на Большом Соловецком острове был основан монастырь, ставший мощной крепостью для защиты северных рубежей Московского государства. Нет необходимости повторять то, что известно о красоте величественных архитектурных памятников Соловков, по праву названных «жемчужиной Беломорья». Сложенные из многотонных валунов фундаменты, красная кирпичная, с белыми прожилками раствора кладка стен, посеребренное временем дерево на фоне темных елей и сверкающей озерной глади надолго запомнятся каждому, кому довелось побывать здесь. Но не только красотой славился монастырь. Воистину легендарной стала его хозяйственная деятельность. Братия содержала большое молочное стадо, собирала лекарственные растения, ягоды, грибы, разводила рыбу, сеяла хлеб, выращивала овощи и даже арбузы и цитрусовые. Дело велось умело и грамотно. Монастырь богател, застраивался, осваивал близлежащие острова – Анзер, Заяцкий, Муксалму.

Автор за работой
Важное место в жизни «Дома Святого Спаса и Николы» занимали морские промыслы. Монастырские суда, обеспечивающие сообщение с материком, транспортировку стройматериалов и продуктов, на протяжении нескольких столетий составляли существенную часть беломорского торгово-промыслового флота. Особое место среди «водных» сооружений Соловецкого архипелага принадлежит монастырскому доку. Построенный на рубеже XVIII–XIX веков, он вошел в число лучших гаваней русского Севера, став примером для строительства доков в России и за рубежом.
Док состоял из выложенного гранитными блоками бассейна и водораспределительной камеры, которая служила для подачи и регулирования уровня воды в основном бассейне. Вода в этот бассейн попадала самотеком из расположенного выше уровнем Святого озера по специально прорытому подземному каналу. Основной бассейн состоял из наполняемого водой резервуара, запираемого двустворчатыми шлюзовыми воротами, и собственно сухого дока-верфи – участка, возвышающегося над уровнем моря.
Принцип работы сухих доков общеизвестен, но Соловецкий имеет некоторые отличия, связанные с его устройством. Во время прилива вода наполняет док, после чего закрываются входные ворота и начинает поступать вода из водораспределительной камеры. При достаточно высоком уровне воды суда заходят в правую часть дока и устанавливаются на месте, подпираемые снизу кильблоками и с бортов подпорками, чтобы судно не заваливалось на бок. При медленном открывании ворот уровень воды постепенно понижается. И суда остаются на сухой платформе. Ворота же при этом могут оставаться открытыми, так как уровень воды значительно ниже уровня платформы. Причем наполнение дока до нужного уровня осуществлялось за полтора часа, а всем делом спуска и подъема воды управляли всего два человека. Интересна и некоторая деталь, выявленная при археологических раскопках в сухой части. Ее дно было выстелено мелкой щепой слоем в 20 см и снабжено деревянными желобами-сливами. Это позволяло сохранять рабочую площадку в чистоте и избегать заводненности.

Электрическая станция и сухой док. Открытка начала XX в.
В 1827 году в доке было построено два больших мореходных судна типа военных бригов, ставшие гордостью обители и шагом вперед всего беломорского невоенного судостроения. В 1829 году в монастырском доке ремонтировалась шхуна № 1 экспедиции М. Рейнеке, которая при выходе из Троицкой губы была «брошена на риф северного берега острова Анзерского и находилась в опасном положении». Для транспортировки поврежденного судна с места аварии монахами было найдено простое и остроумное решение: во время отлива к корпусу закрепили пустые бочки и приливная вода сняла судно с мели.
Сидя на насыпи Соловецкого дока, я вспоминал кадры фильма, снятого нашими экспедиционными кинооператорами Геннадием Чумаченко и Валерой Шайтановым.
…Аквалангист поправляет маску и спиной вываливается за борт. Уплывает наверх поросшая стенка причала, сложенная из хорошо подогнанных каменных блоков. Постепенно гаснут блики от водной ряби, зеленоватый сумрак густеет. Глубина здесь небольшая, но видимость под водой практически нулевая. Конус света подводного фонаря, пробиваясь сквозь плотную завесу взвеси, опускается вниз, касается дна и скользит по его неровностям. Вот он выхватывает контур деревянной сваи-стойки, второй, третьей… Они подпирают мощную деревянную раму, на которую уложены многотонные каменные плиты. Луч света ощупывает шпунтованную стенку между сваями. Водолаз достает нож и пытается вставить лезвие между досками. Дерево не поддается стали – пробыв под водой около ста лет, оно не потеряло своей прочности. Как строилось это фундаментальное сооружение? Описание работ соловецких мастеров найти в архивах не удалось. Но, вероятно, без собратьев по профессии, то есть водолазов XVIII–XIX веков, здесь не обошлось.
…Луч подводного фонаря замирает на каком-то круглом предмете. Аквалангист неторопливо, чтобы не всколыхнуть ил, освобождает его «из плена» и подносит к маске. Керамический сосуд. Такие горшки широко использовались в быту в XIX веке. Рядом с находкой лежат несколько овальных предметов – рыболовецкие грузила, выполненные из обожженной глины. На некоторых из них характерное клеймо Соловецкого монастыря – четырехконечный крест…
Красиво. Но наделе это выглядело несколько иначе.
Выписка из полевого дневника
21 июня. Начали работу в доке. С раннего утра паршивая погода – холодно, идет дождь. Вода мутная, ничего не видно. Часам к 17 все же выглянуло солнце, стало веселей. Но обследование дна оказалось не таким радостным занятием, как хотелось бы. Ребята вылезали из воды с чувством отвращения. Володю Барабанова чуть не вырвало. Сантиметров 50 верхнего донного слоя воды – сплошная грязь, почти масло. На дне валяется все что угодно, начиная от дохлых собак и кончая ржавым железом и детскими колготками, зацепившимися за корягу на дне. Аквалангист, наткнувшийся на них, в первый момент подумал, что это утопленник. Но, слава Богу, обошлось без трупов. Были обследованы все стенки дока, определена их конструкция, проведены необходимые обмеры. Конструкция аналогична набережной Святого озера – сваи, на сваях каменные блоки. Однако здесь сваи обшиты досками.
В 20-е и 30-е годы XIX века монастырь уже располагал двумя большими трехмачтовыми шлюпами «Во имя Святого Николая» и «Во имя преподобного Савватия», длиной по 112 футов, пятью большими лодьями, в том числе лодьей «Во имя преподобного Зосимы», построенной иждивением архимандрита Иллариона, и до десятка карбасов и шняк.
Возможно, одно из этих судов и было обнаружено в 1988 году. Его останки доживали свой век вблизи Соловецкого дока на урезе воды. В отлив ощетинившийся шпангоутами корпус этого «труженика моря» почти полностью осушался. От былого красавца сохранились только киль, шпангоуты, часть левого борта с обшивкой вгладь до стрингера и набор ахтерштевня с четырьмя металлическими коваными скобами с проушинами для крепления пера руля. Конструктивные особенности корпуса – форма шайб и шляпок крепежа, кокоры, метод топорной обтески досок, пиленные на всю длину обшивочные доски и т. д. – свидетельствовали, что судно строилось не на государственной верфи. Незначительное число железных деталей в креплении корпуса говорило о том, что при его строительстве ощущался острый дефицит железа. Форма и размеры ахтерштевня свидетельствовали, что судно имело транцевую корму. Его общая длина составляла около 50 м, осадка – 2 м. По всей видимости, оно имело две мачты и было построено на Беломорье в середине XIX – начале XX века.
Еще два деревянных судна были обнаружены водолазами экспедиции на мелководье около Сенных Луд. Длина одного из них, лежащего на глубине семи метров, составляла примерно 30 м, ширина – 6. Обшивка корпуса судна была выполнена «встык», а носовая часть имела ледовое усиление – обшивку стальными листами. Очевидно, оно несло 2 мачты и имело паровую машину.
В 1861 году обителью был приобретен у архангельского купца В. Бранта небольшой железный пароход «Волга» за 13 тысяч рублей. После переоборудования в монастырском доке он получил название «Вера». В навигацию 1862 года «Вера», отличавшаяся удобством для пассажиров, скоростью и регулярностью сообщения, совершенно отвадила богомольцев от путешествий на лодьях. Успех первой пароходной навигаций вдохновил монастырские власти на постройку силами братии, послушников и наемных людей корпуса для нового парохода. За зиму он был изготовлен под руководством богомольца из Вологодчины, бывшего комендора Коншина. В это время в Шотландии был заказан и куплен за 28 тысяч рублей паровой двигатель мощностью 60 лошадиных сил. Его доставили морем в Архангельск, и трое механиков-англичан за месяц установили его на судне. 15 августа новый пароход, нареченный «Надеждой», после торжественного богослужения отправился в первый рейс в Архангельск, где по инициативе архимандрита Порфирия было организовано катание для бедноты.
За 10 лет «Вера» и «Надежда» совершили около 200 рейсов между Соловками и Архангельском, перевезя более 50 тысяч богомольцев. К слову сказать, первенец учрежденного в 1861 году Соловецкого пароходства, пароход «Вера» оказался рекордсменом-долгожителем: в 1911 году он еще успешно бороздил просторы Беломорья.
Выгоды и удобства пароходного сообщения побудили монастырь пополнить свой флот грузопассажирскими винтовыми пароходами – построенным в 1881 году в Финляндии «Соловецким» и купленным в Швеции «Михаилом Архангелом». Очевидно, монастырские суда были лучшими среди немногих пароходов на Севере – именно их предпочитали для путешествий высокопоставленные особы, вплоть до великого князя Алексея Александровича, ходившего в 1870 году на «Вере» из Архангельска до Кеми и назад. Впрочем, и сама обстановка, царившая на монастырских судах, как нельзя лучше соответствовала настроениям их пассажиров. На них поддерживался образцовый порядок, были категорически запрещены курение, продажа, провоз и употребление спиртного. Проезд по морю богомольцев, пребывание на островах в течение 3–5 дней с проживанием и питанием, гостинец на обратный путь и пребывание на подворьях были бесплатными. Да и монастырские мореходы пользовались на Севере высоким авторитетом – экзамены на звания шкиперов и машинистов сдавались ими при Архангельском пароходстве. Так, иеромонах Александр Заборщиков командовал около 20 лет «Надеждой», а «Верой» – монах Иоанн Падорин, побывавший за 8 лет службы на всех морях и океанах. Машинист – монах Феодосий стал впоследствии игуменом.
До 1851 года монастырь сам расплачивался с владельцами лодей за каждого доставленного паломника. Все это с лихвой окупалось добровольными пожертвованиями и продажей изделий многочисленных монастырских мастерских. Так, пожертвования и отказ от платы за провоз богомольцев сторонним судовладельцам приносили монастырю ежегодный доход от 8 до 15 тысяч рублей, а банковский процент от капитала монастыря давал 22 тысячи рублей прибыли.

Останки деревянного корабля, выброшенного на Соловецкий берег
Рассказ о соловецком судостроении и мореходстве будет неполным, если не упомянуть о двух небольших паровых катерах, несших основную нагрузку по перевозке грузов и пассажиров по многочисленным каналам Большого Соловецкого острова. Их описания сохранились в одном из монастырских документов начала XX века. Катера, предположительно, английского производства, имели длину 22 фута 9 дюймов и ширину 3 фута 6 дюймов, клепаный металлический корпус и одноцилиндровые машины со стефенсоновской кулисой. Грузоподъемность катера составляла 30 пудов. Оба катера были найдены водолазами экспедиции в 1989 году. Один из них, оказавшийся на дне Банного озера, был поднят на поверхность [9]9
Работами по подъему катера руководил начальник группы экспедиции А. Ф. Архипов.
[Закрыть].
Спустя годы, листая свои экспедиционные записки, я вспоминаю, как это было.
Выписка из полевого дневника
26.06.89. Почти целый день работали на катере. С помощью военных и пожарников размывали корпус. Удалось освободить от ила кормовую часть, очистить корпус изнутри от булыжника. Вес некоторых из них достигал 20 кг.
27.06. С утра продолжаем работы по расчистке катера. К середине дня корпус свободен изнутри, с кормы и с правого борта. С левого немного прижимает, но это уже роли не играет. Завтра попробуем сдвинуть его с места.
28.06. Сутра начали подъем катера. Подготовили упор под трос, бревна-катки. Использовали лебедку «Зил-157», которую предоставил начальник пожарной команды соловецкой воинской части мичман Е. А. Березка. Завели трос за кронштейн пера руля. Поставили упор под трос для отрыва от грунта. С первой же попытки катер удалось стронуть с места. Дело пошло. Медленно вытянули его на бугорок (под водой), подсунули катки. Хорошо шел до обреза берега. Меняли направление. У берега уткнулся рулем в огромный камень под водой. Снова использовали упор. Корпус поддался вверх и вперед. Вытянули на берег и оставили стоять на катках. На этом подъем закончился. Вечером сходили к мичману и поблагодарили его за помощь.
Позже мы мечтали восстановить катер и дать ему вторую жизнь, вновь пустив по Соловецким каналам с пассажирами и грузами. Но, увы, убедить местные власти в ценности такого экологически чистого транспортного средства для туристических целей так и не смогли. Некоторое время останки катера были объектом показа туристам, а сейчас, как я слышал, от многолетнего бесхозного лежания (вернее, валяния) под открытом небом разрушились.
Кроме пассажирских, грузовых перевозок и монастырского судостроения, большое внимание уделялось гидрографической службе островов Соловецкого архипелага. Так, в 1862 году в наиболее возвышенном месте Большого Соловецкого острова, на горе Секирной, был устроен маяк-церковь, видимый с моря на 23 мили. В навигационных целях использовались и такие уникальные архитектурные памятники, как Голгофо-Анзерская церковь. Соловецкий кремль и другие, сведения о которых включены во все лоции и навигационные пособия. Эти сооружения проектировались и строились крестьянами и монахами и продолжали уже давно сложившуюся на Беломорье традицию использования религиозных строений для ориентировки мореплавателей. Повсеместно на побережье и возвышенных местах ставили приметные кресты и сигнальные колокола-вещуны. На Соловках такие колокола задолго до появления маяков были установлены на Секирной горе, на Троицком и Колгуевом мысах острова Анзер. В одном из наиболее опасных мест архипелага, при выходе из Троицкой губы острова Анзер, в 1875 году с помощью Общества спасения на водах была организована спасательная служба, на которой в навигационный период постоянно находились 12 послушников-поморов под началом монаха.
Во второй половине XIX века отмечается повышенный интерес к освоению богатств Русского Севера, их изучению и охране. В промысловые районы Северного Ледовитого океана направляются корабли российского флота, организуется несколько русских и международных экспедиций. Одно время серьезно рассматривался вопрос о создании монастырского поселения из соловецких монахов на Новой Земле. В 1869 году Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей организовало несколько экспедиций на Белое море, а в 1882 году добилось разрешения на открытие в Соловецком монастыре биологической станции. За 18 лет ее существования были проведены интереснейшие работы по изучению флоры и фауны Белого моря, подготовлены докторские и магистерские диссертации. С деятельностью станции как учебной базы нескольких университетов России связаны имена таких всемирно известных ученых, как М. Римский-Корсаков, К. Сент-Илер, К. Книпович, П. Шмидт, К. Дерюгин и другие. И еще одно имя – Александр Борисов, знаменитый полярный художник. Трудно сказать, как повернулась бы жизнь юного послушника монастыря, если бы не великий князь Владимир Александрович. Посетивший в 1885 году на клипере «Забияка» Соловки, он первым обратил внимание на талант ученика иконописной палаты Саши Борисова.

Один из Соловецких каналов. Открытка начала XX в.
Следует сказать и еще об одном уникальном памятнике, связанном с историей русского флота и располагающемся на Заяцком острове. Это рукотворная гавань XVI века. Она использовалась для разгрузки лодок и зимней стоянки небольших судов вплоть до XVII века и оставалась единственной каменной пристанью на Руси. Сведения о ее строительстве есть в «Описании Белого моря», опубликованном А. Фоминым в 1797 году. «Гавань сия не есть дело натуры, но устроение вымысла и прилежания человеческого, порожденных свободностью от всяких дел и попечений… Сказывают, выстраивал ее один черноризной монастырский отшельник, который как видно по устроению при трудолюбии и силе, обладал натуральною механикою. Под боковые ее стены как видно натура устроила две каменные гряды протягивающиеся от берега в пролив из промежутка коих выкапывал он камни для очищения берега и против онаго дна морского и взваливал их в стены… Во всей гавани более десяти их (судов. – А. О.)уберется».
Во время похода на Повенец, находящийся в губе Онежского озера, в 1702 году у Заяцкого острова останавливались корабли Петра I. В честь этого на возвышенности у гавани была построена церковь Андрея Первозванного. Именно с этим приездом Петра связывают утверждение окончательного варианта Андреевского флага.
Выписка из полевого дневника
14 июня. Вышли на Заяцкие острова. Надо осмотреть гавань XVI века. Идем всем составом. Большой Заяцкий остров известен своими легендарными лабиринтами. Они действительно впечатляют. Есть маленькие, диаметром метров десять, и большие. Ими будет заниматься команда Скворцова. Наша задача скромнее: сделать геодезическую съемку гавани, обследовать под водой участок пролива, примыкающего к ней. Гавань небольшая, метров тридцать, ограниченная со всех сторон кладкой из дикого камня. Проход в гавань узкий – метра два. На горке у гавани стоят маленькая, как игрушечная, деревянная церковь, каменно-кирпичный дом и небольшое сооружение без крыши, сложенное из валунов и кирпича. Первыми под воду идут Володя Барабанов и Сергей Литвенюк – бывший военный водолаз. Их сразу же берут в «оборот» наши кинооператоры. Да, не для печати сказано, они всех задолбали: идите сюда, идите туда, там не бегай, здесь не ныряй, скройся с глаз, пройдись по дорожке, плыви медленнее, но дальше этого камня не заплывай…
Чтобы ускорить работы, сажаем ребят «на крыло» и транспортируем их за ялом. Таким образом, сделано несколько разрезов длиной по 400 метров. Глубина пролива в этом месте около7 метров, видимость 3–4 метра. Кроме нескольких фрагментов керамики XIX века, больше ничего не обнаружено.
Вечером ходили на ранее обнаруженный миноносец «Лидер Баку». Впечатляет. Огромная куча железа. Борт высотой метров семь. Груды искореженного металла – результат «блестящего» использования героического корабля. В годы Великой Отечественной он участвовал во многих боевых операциях. В 1942 году из состава Тихоокеанского флота совершил переход на Северный. В ноябре 1942 года сопровождал конвой Q-15, получил тяжелые повреждения. В январе 1943 года эскадренный миноносец «Баку» вместе с эсминцем «Разумный» провел перехват и уничтожение конвоя противника. Затем до конца войны корабль участвовал в поисковых операциях по уничтожению подводных лодок и, наконец, в 1960-е годы использовался… увы… как мишень для корабельных стрельб.
Сейчас, по прошествии более чем десяти лет, я частенько вспоминаю наши соловецкие экспедиционные будни. Было в них и много забавных эпизодов. Один из них связан с приходом на остров гидрографического судна под многозначительным названием «Градус». Его прибытие пришлось как раз на любимый праздник всех моряков – День Военно-морского флота.
Вся наша дружная команда водолазов, естественно, не могла пропустить такое событие и направилась к собратьям по морю с дружеским визитом. Встретили нас приветливо, даже радостно, и молодой капитан, представившийся Володей, без лишних разговоров пригласил вечером на праздничный ужин. Правда, по легкой небритости, характерному блеску в глазах и некоторой помятости лиц было видно, что праздновать День ВМФ команда «Градуса» начала уже накануне. Вечером все было «по-благородному». Капитан Володя встретил нас у трапа в белоснежной морской тужурке с погонами капитан-лейтенанта, с «выглаженным» лицом и лучезарной улыбкой. Как водится у настоящих «ценителей морей», банкет затянулся до поздней ночи. Что ели, пили, припомнить невозможно, но все было замечательно. Удалось даже извлечь от встречи практическую выгоду. Володя покровительственно согласился помочь в наших исследованиях на Троицком стамике близ острова Анзер. Этот район давно привлекал нас. Далеко выдающаяся в море каменистая гряда издревле имела дурную славу среди мореходов. Нередкие упоминания о крушениях кораблей в этом гиблом месте, встречавшиеся в архивах, делали стамик перспективным объектом для подводных археологических поисков. В 1970-х годах здесь ныряли ребята из Воронежа, которые якобы обнаружили даже среди камней останки какого-то деревянного судна. Да и нам разок удалось побывать на стамике и поднять со дна корабельный блок XVIII века и несколько металлических предметов. Мы надеялись с помощью гидроакустической аппаратуры гидрографа снять план дна и определить наиболее интересные для дальнейших исследований точки.
В назначенное время мы явились на борт «Градуса». Подуставшая от затянувшихся торжеств команда отвалила от причала и направилась к острову Анзер. Правда, капитан на мостик не вышел. По словам боцмана, он отдыхал. Кроме нас, на борту были и другие пассажиры – молоденькая журналистка из Ленинграда и ее седовласый опекун, представившийся «наставником». Боцман явно забыл, чем грозит присутствие на корабле женщины.
Наш переход к Троицкому стамику занял больше времени, чем мы предполагали, – штурман не рискнул идти коротким путем между островами и обогнул Анзер с севера. Когда до интересующего нас района оставалось совсем немного, на палубе появился капитан Володя. Увидев на борту симпатичную барышню, он преобразился и, не обращая внимания на наши уговоры побыстрее достигнуть заветного места, приказал застопорить машины и спустить на воду шлюпку. Как оказалось, он захотел освежиться – немного поплавать в Белом море. Меня передернуло от такого желания. Этот год отличался особо низкой температурой воды. Мы ныряли в «сухих» костюмах, под дев под них водолазное белье из верблюжьей шерсти, да и то часто вылезали из воды баклажанового цвета и долго отпаивались горячим чаем. А здесь – освежиться… Было в этом зрелище – Володя в плавках и боцман в теплом бушлате – что-то трагикомическое. «Но дело сделано», – как говорил Сильвер в знаменитом «Острове сокровищ». Володя лихо вскочил на банку шлюпки, резко оттолкнулся и… с шумом рухнул в воду. От сильного толчка шлюпка накренилась, боцман завалился на борт, лодка черпнула воды и лишь чудом не перевернулась. Раздалась соленая морская брань, а из воды возмущенный возглас капитана: «Боцман отставить! На борту женщины».
Володя плыл сильно и красиво, но недолго. Толи замерз, то ли ногу свело, но вскоре он затормозил и начал шумно бить руками по воде. Послышался его приглушенный приказ: «Боцман, спасательный круг!» Да тот и сам видел, что дело плохо. Неуверенной рукой он схватил спасательный круг, привязанный к канату, размахнулся и, чуть не вывалившись за борт, метнул его совсем в другую сторону. Вторая попытка также не увенчалась успехом. Тогда боцман решил подогнать шлюпку поближе. Взревел мотор, шлюпка резко «прыгнула» вперед и чуть не накрыла капитана. Тот в последнюю секунду все же как-то умудрился увернуться. Круг вновь полетел в воду. На этот раз Володе удалось его подхватить, навалиться всем телом и отдать приказ: «Вперед!» Движок вновь взревел, и катер на всей скорости рванулся к кораблю, таща за собой спасательный круг с вцепившимся в него капитаном. И здесь произошел очередной конфуз. Из-за сильного рывка потоком воды с «утопающего» сорвало плавки, и швартовка шлюпки к кораблю стала более эффектной, чем предполагалась. Молодая журналистка покраснела и, стыдливо потупив взор, отошла от борта. Команда «Градуса» не позволила себе даже легкой улыбки. После этого о дальнейших планах исследования Троицкого стамика было настаивать как-то неловко, и мы вынуждены были вернуться на Большой Соловецкий.