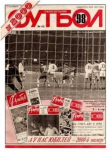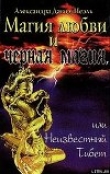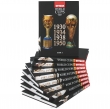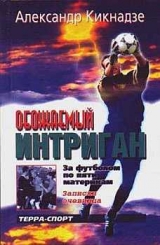
Текст книги "Обожаемый интриган. За футболом по пяти материкам."
Автор книги: Александр Кикнадзе
Жанр:
Спорт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
– Это и от нашего имени.
Но уже в следующее мгновение… Никогда раньше не доводилось мне видеть столь яркого проявления поэтической находчивости – подхватив свободной рукой помидор налету и слегка потерев о штанину, эквадорец надкусил его, изобразил блаженство и громко, на всю площадь, крикнул в мегафон:
– Грацие!
После чего продолжил свое подвывание.
– Не помнишь ли, где здесь поблизости овощная лавка? – спросил Миша. – Я бы уж подобрал для него помидор.
На заключительный банкет дон Лопес пришел с огромным альбомом. На первой его странице были две цветных фотографии: поэт в обнимку с очаровательно улыбавшейся Терезой – на одной и с лучезарно улыбавшейся Эмилией – на другой.
– Господа, сеньоры, синьоры, мистеры и товаричи, я попрошу каждого из вас вписать сюда, в эти страницы на вашем родном языке отзывы о моем поэтическом творчестве… Одним словом, о том, какое неизгладимое впечатление произвели на вас мои поэмы. И обязательно адрес, чтобы мои завистники не подумали, что я написал все это сам. Прошу вас, – с этими словами эквадорец протянул альбом журналисту из ФРГ.
– С радостью… это для меня большая честь, – изобразил смущение немец. – Только не знаю, найду ли слова, чтобы выразить все, что переполняет меня.
Не почувствовав подвоха, ответствовал пиит:
– Пусть это вас не смущает. Пишите от сердца. Сердце всегда подскажет нужные слова.
Я постарался запомнить записи на языках, более или менее доступных моему воображению.
Журналист из ФРГ написал:
«Я знал всегда, что Мексика – страна чудес, и готовился к встречам с ними. Но их забило другое чудо, которое выпало счастье не только видеть, но и слышать… слышать собственными ушами. Я буду рассказывать о нем детям и завещаю им рассказывать о том чуде своим детям. Имя чуда – дон Лопес. Ему до конца дней уготовлено место в моем сердце. Да сбудутся все мои пожелания в твой адрес, несравненный посланник небес».
«И мои – тоже», – приписал англичанин и поставил в конце фразы три восклицательных знака.
«Без таких людей мир был бы сиротлив», – отозвался чехословак.
«Когда я расскажу своим соотечественникам о том, как достопочтенный дон Лопес помог мне лучше увидеть и понять мир, меня, без сомнения, засыпят вопросами: «А не собирается ли уважаемый Поэт посетить Турцию и если да, то – когда, чтобы мы могли лучше увидеть и понять мир». Помогите мне, о мудрый и несравненный, скажите, что ответить соотечественникам?» – попросил турок.
«Древняя страна басков готова распахнуть перед Вами свои объятия. Я знаю, что это будут горячие, очень горячие объятия», – заверил потомок иберов.
«Со времен Гомера, бессмертного творца «Илиады», было немало поэтов, выражавших сокровенные устремления своей эпохи. Теперь мы узнали еще одного. Пусть дон Лопес догадывается о том, что испытываю я перед разлукой с ним… понимая, что эта разлука может быть до конца моих дней. Трудно привыкнуть к этой мысли. Плачу», – написал болгарин и, пусть не поверит мне Недоверчивый, пролил самую настоящую слезу на страницу (позже я узнал, что до того как стать журналистом, болгарин несколько лет подвизался в роли трагика на провинциальной сцене).
«А я лично просто ревом реву, не находя себе места», – вывел аккуратнейшим своим почерком Миша Какабадзе. – Теперь, только теперь понял я, что есть истинное озарение».
– О, как это мило с вашей стороны, – патетически вскинул глаза к потолку дон Лопес, вглядываясь в незнакомую грузин
скую вязь. – Какой красивый шрифт, не могли бы вы дописать еще несколько слов, сделайте одолжение.
– С удовольствием, – ответил Миша и вырисовал: «Гмерто, рамдени дарткмули адамианиа ам квеханазе!» – «Боже, сколько чокнутых людей на этом свете!»
Лопес дол го жал руку Мише. И все норовил поцеловаться с ним. А Миша как-то неловко отворачивался. В конце концов эквадорец чмокнул его в затылок.
* * *
Прошло двадцать лет. Шел чемпионат 1990 года. В римском пресс-центре журналистам раздавали сувениры: часы, вечные ручки, бумажники, брелоки. Чтобы получить их, надо было бы выстоять в очереди минут десять.
Неподалеку за кофейным столиком среди немецких коллег я увидел статного молодого человека, кого-то очень мне напоминавшего. К нему подошел увешанный аппаратами, как веригами, жердина.
– Вставай, Давид, подходит очередь, которую мы тебе заняли.
– Спасибо, Ганс, я посижу и неторопливо допью кофе.
Непонимающе глянул на него жердина.
Вдруг «любитель кофе» бросил взор в мою сторону, торопливо поднялся, подошел:
– Вы – дядя Саша? Вы Александр Кикнадзе? Узнал вас, здравствуйте.
Мы обнялись.
Кивнув на очередь, я спросил Давида Какабадзе:
– Не позволяет дворянское достоинство?
Он смутился и промолчал.
– Очень хорошо, что не позволяет, – добавил я и вспомнил такой же чемпионат двадцатилетней давности, дорогого Мишу Какабадзе и маленького мексиканца в большом сомбреро.
Но Дато вспомнил не о нем.
– Я был очень благодарен вам за телеграмму, которую вы однажды прислали мне. Я… прикрепил ее над кроватью… она первой бросается мне в глаза, когда просыпаюсь. И напоминает о том, на кого я должен быть похож.
Негодный мальчишка
Много лет назад старый знакомый Мурад Мурсапов, директор детской футбольной школы, пригласил посмотреть на его команду.
Мурсалов был убежден, что в школе растут юноши, которым суждено уже в самом близком будущем вознести к небесам славу бакинского футбола. Он хорошо понимал, какие почести воздаст исстрадавшийся город тому, кто поможет несчастной команде выкарабкаться из группы, в которой она прозябала уже несколько лет.
Сборная школы блистала новенькой формой и свысока поглядывала на одиннадцать мальчишек, одетых кто во что горазд. Это была команда какого-то завокзального форпоста. Веря в легкую победу своих молодцов, Мурсалов пригласил на игру руководителей городского отдела народного образования. По рядам бесплатно разносили лимонад и бутерброды, за которые перед началом заплатил гостеприимный директор. Ему хотелось, чтобы у всех было хорошее настроение. Судил матч близкий друг директора. И этот близкий друг не засчитал первый гол, забитый в ворота школьной команды крохотным мальчишкой в выцветшей майке, сползавшей с плеч. Судья решительно подбежал к воротам и остановился в трех метрах от них, подняв руку. Это значило: офсайд, хотя никакого офсайда на самом деле не было. Мальчишка, забивший гол, грустно посмотрел на судью и ничего не сказал, только провел руками под носом и побежал к центру поля.
Первый тайм закончился со счетом два-ноль. На бедного Мурада лучше было не смотреть. Все на этом свете стало в его представлении с ног на голову. Он ничего не мог понять. Что случилось с его красивой командой? Что случилось с его надеждами? Что будет с его школой? Кому нужна футбольная школа со своей сметой и со своими штатами, если команда этой школы проигрывает какой-то совершенно неведомой дворовой команде? Наконец, кто этот негодный и быстрый форвард в майке, спадающей с плеч? Забил оба гола, которые судья уже не мог не засчитать. Черт побери, куда девались защитники ил и их вовсе нет на поле? Ну хорошо, с самого начала они могли не обращать внимания на коротышку. Но потом-то, потом должны же были понять, что вся команда почему-то играет на него и что он умеет обводить и бить по воротам. Ведь не зря же Мурсалов отрядил к воротам своего помощника и тот кричал во все горло защитникам: не давайте ему играть, этому, как его, коротышке!
В перерыве директор поспешил к своим. Вернулся на трибуну спокойный. «Сейчас все будет в порядке», – сказал не столько другим, сколько себе.
Минут за двадцать до конца поднялся со своего места и, небрежно кивнув на прощание директору школы, ушел со стадиона специально приглашенный товарищ из гороно. И еще кто-то ушел. А директор опустил голову и не смотрел на поле. И не видел, как в его ворота влетел четвертый мяч. Его, как и три предыдущих, забил все тот же маленький форвард в большой майке с чужих плеч.
Не знаю, потому ли, что проиграла школьная команда, а может быть, и подругой, более веской причине, но футбольную школу все же прикрыли, а ее директора, «не обеспечившего руководства», перевели куда-то на низовую работу.
Между прочим, тогда, на стадионе, перед расставанием он спросил меня, знаю ли я мальчишку, забившего четыре гола? Я ответил, что не знаю.
– Это сын Артема, – без особой нежности произнес Мурсалов.
И тогда кое-что стало ясно.
* * *
Был Артем Маркаров форвардом первоклассным, входил в сборную Закавказья, участвовал в нечастых в ту пору международных матчах, в Скандинавию выезжал. Не его вина, что играл он в команде средней – служил ей верой и правдой; сколько было матчей, в которых показывал он, на что способен форвард, владеющий секретом финта и умеющий видеть поле.
Ну как не вспомнить снова матч «Темпа» с ленинградским «Электриком», когда Маркаров обвел одного за другим двух или трех защитников, выманил вратаря, обвел и его, остановил мяч на самой линии ворот, положил руки на бедра и на мгновенье замер?
Шутка мастера, который только и имел право на такую шутку. Ничего подобного больше видеть не приходилось.
Мальчишке, испортившему жизнь директору футбольной школы, шел четырнадцатый год. А давали ему еще меньше, потому что Эдик не вышел ростом.
И именно потому, что он не вышел ростом, и именно потому, что ему очень хотелось стать футболистом, тренировался он куда усерднее других. Его не принимали в футбольные секции и школы как малорослого, а следовательно, малоперспективного.
Так бы и ходил он в бесперспективных, если бы в конце пятидесятых годов не приехал в Баку Борис Андреевич Аркадьев. Он считал, что сила футболиста не столько в его ногах, сколько в голове, и думающих, самобытных игроков привечал, и не спускал с них глаз, и старался внушить им убеждение, что хорошим мастером можно стать и не имея роста в сто восемьдесят сантиметров, которые пленяли и в то, и в наше время иных селекционеров.
Живет в Италии один всезнайка – футболовед по имени Ботгони. Он ведет свою особую статистику футбола. Эта статистика не в голах, а в сантиметрах и килограммах. Он задался целью вылепить идеальную фигуру футболиста и ради этого не поленился завести карточки на тысячу самых знаменитых игроков разных времен. Заложил карточки в компьютер и получил портрет «идеального футболиста»: рост метр семьдесят, вес шестьдесят девять килограммов, возраст от двадцати четырех до двадцати семи лет. Не очень дальновидные предшественники Аркадьева, которые закрывали перед Маркаровым дорогу в футбол, еще не знали, что скоро появятся Пеле, Мюллер, Гарринча, которые будут такого же роста, как Маркаров.
Б. Аркадьев писал об Э. Маркарове: «Я его заметил, когда работал тренером «Нефтяника», в одной из городских команд и сразу же увидел, что он великолепный дриблер, мастер обводки». Об одном из скромности умалчивает тренер. О том, что это он помог дриблеру стать за короткий срок ведущим игроком клуба, выступавшего в классе «А», и что только с приходом этого форварда «Нефтяник» заявил о себе на всесоюзной арене и дослужился до бронзовых медалей. Аркадьев смог не только найти и развить его талант. Он смог сделать все, чтобы этому таланту жилось уютно в коллективе, ибо сам тренер хорошо знал, какой бывает подчас несладкой жизнь самобытного человека. Немало лет спустя мудро писал Аркадьев: «Нужно, чтобы товарищи его (речь идет о солисте в футбольном ансамбле) поняли, что такая индивидуальная игра нужна для команды и не служит ради славы и аплодисментов одному солисту. Может возникнуть к нему зависть, но ей надо что-то противопоставить, в команде вообще сложные отношения».
Манерой игры младший Маркаров напоминал отца. Так же владел мячом, также выбирал место, так же чувствовал дистанцию между собой и защитником и владел таким же набором разнообразных финтов, которые помогали ему, не повторяясь, обыгрывать опекунов. А еще Маркаров каким-то особым «панорамным» зрением видел все, что происходит на поле. Он осязал мяч и почти никогда не удостаивал его взглядом. Глаза были нужны для другого: чтобы знать, кого и как перехитрить, ибо к этой простой задаче сводятся, в конце концов, все усилия такого форварда, как Маркаров. Сперва он подыгрывал другим. Потом начали подыгрывать ему. И он стал главным форвардом страны. В шестьдесят шестом, незадолго до чемпионата мира я написал в «Неделе» о Маркарове:
«Понаблюдайте за этим невысоким, юрким и всевидящим игроком, когда он с мячом, и постарайтесь ответить на вопрос: как он поступит? Угадать так же мало шансов у вас, как у самого искушенного защитника. Кажется, чего проще – вот открылся, ушел от опекуна Туаев, отдай ему мяч, ты имеешь великолепную возможность (которую так ценят иные форварды!) нехитрым пасом освободиться от мяча и от ответственности. Беки противника тоже видят эту возможность и поэтому очертя голову кидаются наперерез Туаеву. А Маркаров продолжает двигаться вперед: он, как воробей, видит все, что происходит и слева, и справа, и сзади. Он выманивает на себя защитников, обыгрывает их ложными нетрафаретными движениями корпуса и с хирургической точностью откидывает мяч в ту точку поля, где раньше окажется его партнер, откуда можно бить по воротам или развивать атаку.
Когда это удается один раз, можно сказать – случайность. Когда пять, десять, пятнадцать раз за матч – мастерство. Власть над мячом перерастает во власть над противником. Превыше всего этот мастер презирает штамп и очевидное развитие событий и больше всего ценит импровизацию, сопряженную с риском, остроконфликтные завязки и темп.
Говорят, что Маркаров не вышел ростом, что он на десять-двенадцать сантиметров ниже того идеального форварда, которого тренеры видят в мечтах. На это можно ответить лишь одним – будь Маркаров массивнее и тяжелее, он вряд ли смог бы показать всею, что он показывает на поле».
Маркарова взяли в Лондон, на чемпионат мира. Но там… Какое задание получил там Эдуард и что из этого вышло, я рассказал в одной из первых глав.
Прошло пять лет.
Человек «с таким ростом» стал играть в команде «Арарат». Новый тренер понял, как нужен динамичной восходящей команде подобный игрок, и пригласил его. Через несколько месяцев один обозреватель писал: «Можно подумать, что Маркаров всю свою жизнь провел в «Арарате», так слился с командой».
Первого июля 1973 года лидер чемпионата СССР «Арарат» играл в Москве с другим лидером «Динамо». Незадолго до того динамовцы по всем правилам положили на лопатки футболистов ЦСКА, находившихся на самом верху турнирной таблицы. Забили три гола, не пропустили ни одного и вышли на игру с ере ваннами, полные честолюбивых желаний.
За Маркаровым следили в четыре глаза. Он падал не то восемь, не то десять раз. Поднимался. Продолжал играть. Дождался своего мгновения! Мяч шел справа. Маркаров опередил, обманул, обыграл двух защитников и с лета послал такой мяч в ворота, что стадион застонал – от горя и восторга.
Когда в 1973 году «Арарат» выиграл звание чемпионата и Кубок СССР, я радовался не просто за молодую талантливую команду и ее первоклассного тренера Никиту Симоняна… Радовался и тому, что она помогла раскрыть редкий талант футболиста, в которого верил давно.
Месхи
Тбилисское «Динамо» проигрывало. Рослые невозмутимые защитники ташкентской команды держались стойко, форварды динамовцев были надежно прикрыты.
– Не кажется ли тебе, что задачи ташкентских защитников облегчены тем, что э… э… – Борис Пайчадзе подыскивал слово, – тем, что наши форварды стали похожи один на другого?
– Разве они похожи?
– Приглядись внимательнее. Стали какими-то откровенными, что ли? Даже с трибуны можно определить, кто в какой момент как себя поведет. Мы, кажется, начинаем постепенно забывать, что такое неожиданная ситуация, что такое обводка на скорости, наконец, что такое риск…
– …И что такое порох в атаке? – вспомнил я старый очерк о тбилисском «Динамо».
– Если хочешь, и порох. Вот игра, которой нужен свой Месхи…
До конца матча еще было время, а зрители начали покидать трибуны.
– Разве они виноваты? – Пайчадзе показал головой на уходивших. – И в других городах так. Можешь объяснить почему? Команды стали похожи друг на друга. Забьют гол, и готово – все вместе, как при аврале, в оборону. А у тех, кто нападает, кто мечтает забить свой гол, много желания, да не так уж много умения. Смотрю с трибуны на незнакомую команду – защитников запоминаю сразу. А форвардов по цвету волос да по номерам на майке.
– Потому, что похожи манерой?
– Потому, что похожи. Нет, это неправда, что из-за телевидения все меньше i ирода на стадионе.
Разговор как-то незаметно перешел на то, что такое похожесть и непохожесть в спорте и в жизни… Так ли уж это хорошо – «иметь свое лицо» и свой взгляд на вещи… И всегда ли удобен такой игрок тренеру… Легко ли ему живется?
– Должно быть, не всегда легко, – ответил Пайчадзе. И снова вспомнил Михаила Месхи.
* * *
У Месхи были черты, которые мы начинаем ценить тем выше, чем больше времени уходит с той поры, когда расстался с футболом левый крайний тбилисского «Динамо». Невольно вспоминаю переселения зрителей в перерывах между таймами на тбилисских стадионах – шли поближе к тому месту, где будет играть Месхи. Он выходил на поле словно бы для того, чтобы показать – вот как много скрыто в этом самом футболе, вот как непрост этот мяч и что можно делать с ним. Было в футбольном форварде что-то и от жонглера высшего класса, и от бесшабашного юнца-задиры, вышедшего погонять мяч в каком-нибудь кривом и тихом тбилисском переулке, и от мудрого бойца, который знает, как следят за каждым его движением и чего ждут от него.
Написать, что у него был мяч «как на ниточке»? О скольких уже писали так! Месхи ни на кого не похож. Он даже сам на себя бывал не похож.
Те матчи, в которых все с самого начала получалось, когда он вырастал в своих глазах, но превыше всего в глазах соперника, будут помниться, пока под горой Мтацминда останется хоть один ценитель футбола. Но разве не был о игр, в которых мы вдруг переставали узнавать Месхи – что стряслось с ним? – и старались оправдать его и говорили, что это человек настроения, что делать, бывают у него и взлеты, и спады, если бы все всегда одинаково безошибочно играли в футбол, было бы в нем еще больше нулевых ничьих, избавь нас от такой благодати!
С какой первой, если можно так сказать, ближней целью выходил он на каждую игру, что считал для себя главным в самом начале? Он считал своей принципиальной задачей огорошить и унизить прикрепленного к нему защитника. Выкинуть какую-нибудь хитрую штуку, оставить его за спиной, пусть тяжело дышит и ловит на себе осуждающие взгляды товарищей, играть он после этого будет хуже, чем может.
Иногда это получалось сразу. Иногда не сразу. Бывали матчи, когда это не получалось вообще.
Со стороны казалось: Месхи шел на рожон – делал вторую, третью попытку. И только тогда находил свою игру, когда, в конце концов, брал верх в этом бессловесном поединке. Во имя этой «его игры» ему прощали и зрители, и товарищи по команде, отучившиеся всплескивать руками, и тренеры – прощали то, чего не простили бы, наверное, никому другому.
Был в Ленинграде прекрасный, рано ушедший из жизни вратарь Виктор Набутов. Он признался как-то:
– Видишь ли, мне совсем не безразлично, как ко мне отнесется зритель: будет ли аплодировать или свистеть. И я с самого начала матча старался сделать его своим союзником – на каком бы поле игра ни проходила: на своем или чужом, в конце концов, хороший футбол ценят везде одинаково.
Бывало, Набутов в красивом броске брал не слишком трудный мяч, иногда ради красивой игры шел (так считали) на неоправданный риск. А делал-то он это для того, чтобы команда знала – игра у вратаря пошла, он чувствует себя уверенно – можем и мы играть уверенно, не слишком озираясь на тылы.
Для Месхи зрителя не существовало. Существовали только один или два (как бывало нередко) прикрепленных к нему защитника. Месхи имел в своем распоряжении такой арсенал приемов для победы над защитниками, какой имели немногие форварды.
В лаборатории фотокорреспондента газеты «Лело» Михаила Заргаряна, истинного профессора непростого репортерского дела (его и называли в Тбилиси «профессор»), висела панорама из шести кадров: «финт Месхи». Вот левый крайний идет на защитника с мячом, вот делает ложный выпад в сторону – противник бросается в ту же сторону, а Месхи подкручивает мяч, посылает его левой ногой из-под правой за спину защитника и, словно на вираже склонив тело, обходит его, имея открытый путь к воротам.
Одному его точному пасу, закончившемуся голом (Париж, финальный матч на первенство Европы), жить долго в памяти тех, кто помнит высший успех сборной СССР за все годы ее существования.
Тренер команды Испании Хосе Вильялонга говорил в 1965 году, что, что мечтал бы заполучить та кого игрока, как Месхи. Другой не менее известный специалист футбола, завсегдатай тбилисского стадиона, знакомый трибунам как «Амбако из Сабуртало», заявил в те же примерно дни, что, если еще будут выставлять на игры Месхи, он перестанет ходить на стадион. («Покупаю билеты на футбол, а мне показывают балет, если бы я хотел смотреть балет, я ходил бы в театр».) Как видим, уже в ту пору на игру Месхи было два полярно противоположных взгляда. Некоторые считают, что это удел любого талантливого человека.
* * *
Месхи возглавил школу. Сперва это была школа Месхи. Потом ей придумали более доходчивое имя: «Специализированная детская футбольная школа при Грузинском комитете по физической культуре и спорту».
На первых порах самое трудное было связано не со строительством базы, не с приобретением инвентаря, не с подбором преподавателей и работников.
Самое трудное было в отборе ребят. Желающих – шестьсот, мест увы, всего сто. Среди тысячи двухсот тридцати пап и мам едва ли не половину составляли близкие или дальние знакомые Месхи или близкие или дальние знакомые его родственников и знакомых. К Месхи приходили послы, делегаты, ходатаи, советчики, но вместе со своим помощником и старым другом мастером спорта Михаилом Петровичем Минаевым он решил презреть на какой-то срок все обычаи и условности. Не жалели времени, старались понять, что тот или иной мальчишка может делать сегодня, и представить, что от него можно будет ждать завтра. Сказал и себе: «Никого по блату!» – и выдержали характер. И все же в школе было не сто, как предусмотрено штатным расписанием, а сто пятьдесят мальчишек, значит, на каждого тренера падала большая нагрузка, но ни один из них ни разу не посетовал на это.
Размышлял Месхи:
– Говорят, на свете нет двух одинаковых характеров. Приглядываюсь к ребятам, с которыми занимаюсь, и все больше убеждаюсь в справедливости этого. Один быстро все схватывает, он вспыльчив, а порой опрометчив, хорошо владеет мячом и самолюбив (не знаю как в других школах, у нас преобладает этот психологический тип… между прочим, мы, тренеры, об этом ничуть не жалеем). Другой обстоятелен, готов заниматься до седьмого пота, даже самое скучное упражнение выполняет на совесть – надо так надо!.. Третий чувствителен к поражениям – сникает, а четвертого неудача только подстегивает, злее и решительнее становится – с таким одно удовольствие иметь дело… Так разве все эти характеры могут предусмотреть люди, составляющие учебную программу! Эта программа – хорошая вещь, но если слепо выполнять ее – немного пользы будет. Вспоминаю некоторых своих тренеров – объявляли: сегодня кросс. Это значило, что все должны были бежать кросс. Георгий Сичинава любил длинные дистанции – для него такой бег одно удовольствие, а я сколько ни заставлял себя, никак не мог понять – для чего мне этот длинный бег?.. Левому крайнему полезнее заниматься спринтом, овладевать секретом стартового рывка, я говорю об этом тренеру, а он смотрит мимо меня и изрекает ледяным тоном, что инструкция не предусматривает никаких исключений. Я говорю, что в два раза больше сил потрачу, а он спрашивает, кто это может проверить… Но, конечно, и другие тренеры были – среди них Михаил Якушин и Гавриил Качалин, – которые на это иначе смотрели, понимали, кто на что способен и кому что надо… Эти люди и дали мне многое и как игроку, и как тренеру.
– А вообще мы хотим, чтобы каждый молодой футболист, который выйдет из нашей школы, имел бы свое собственное лицо, – вступил в разговор Михаил Минаев. – Есть ребята ничего.
– Почему говоришь «ничего», Петрович? Такие мальчишки приходят. С ума сойдешь.
Это «с ума сойдешь», быть может, лучше всего говорит, что такое для Месхи его школа. Знали о ней в самых дальних уголках Грузии. Привозили своих детей родители из Чиатуры, Гагры, Казбеги и, если надо, оставляли сына у родственников или знакомых в Тбилиси, пусть растет, учится, готовится сменить тех, кто в «Динамо».
Был у одного известного тбилисского тренера пятнадцатилетний футболист Онисе Циклаури, горец с быстрыми и сильными ногами. Играл года два, да так и не «показался» тренеру, и тот однажды бесхитростно и не зло посоветовал юноше выбрать какой-нибудь другой вид спорта: «Долго думал, говорить тебе или нет, а потом решил, что это надо сделать для твоей же пользы. Не сердись и не принимай близко к сердцу, что услышал, когда-нибудь скажешь мне спасибо».
Онисе пришел к Месхи. Новые тренеры сошлись на том, что в молодом человеке что-то есть, только надо помочь ему выбрать иное амплуа. Старательность, скромность и уживчивость парня из Казбеги привлекли и учителей, и товарищей по школе. Через год Онисе включили в юношескую сборную Грузии, посмотрел на него в игре старый тренер и чуть не заплакал от обиды – такого футболиста проглядел.
Что искал Месхи, к чему стремился? Он хотел, чтобы его ученики играли лучше, чем когда-то играл он сам.
…Футбол шел вперед, развивался, обогащался. Месхи знал: тех, кто годится ему в сыновья, ждут испытания особого свойства, когда они придут в Большую Игру.
Ему, рано ушедшему из жизни, к счастью, не было дано узнать, что ждало на самом деле грузинское юношество.