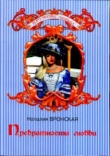Текст книги "Средняя степень небытия (СИ)"
Автор книги: Александр Сорокин
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)
Приближался канун одного из самых необузданных русских праздников. Русские именовали его масленицей. По улицам бродили толпы пьяных. Свистки и дудки скоморохов мешались с отчаянными криками ловивших карманников городовых. С диким ржанием дыбились лошади от шарахающихся меж копытами сбежавших цыганских медведей. Искрясь багрянцем в тумане газовых фонарей, освещавших место около себя, но не вырывавших из толпы, запрудившей тротуары, ни единой фигуры, непрерывные нити ледяной капели свисали с неба. Погружённая, растворённая в атмосфере большого города, Софья шла с той частью людей, направление движения которых совпадало с её собственным. Перед глазами шагали очертания бобровых воротников, поднятых воротов пальто, дамских шляпок. На миг возникало из толпы и всполохом в огне витрины проплывало чьё-нибудь лицо из того человеческого потока, что шёл не вместе с ней, а на встречу. Лица выражали безразличие, стыд, разочарование, страх, иногда стремление к неведомой цели или почти болезненное веселье, никогда в них не было гордости, умеренного достоинства или сознания собственной чести. Софья давно привыкла к обликам прохожих, она не вглядывалась в них. Она опускала глаза к мостовой, где бились о брусчатку каблуки и каблучки, ступали галоши, перепрыгивали через лужи туфли, плюхались вразвалку валенки, потом смотрела в мокрые спины шинелей, рединготов и плащей, поднимала глаза к небу, где было не видно не зги, а в ауре фонарей кружили капли дождя, смешанные со снегом. Софья предпочитала слушать. Она слышала удары обуви, скрип снега, глухие всплески воды под колёсами экипажей, далёкий шум реки, невнятный говор толпы, общавшейся будто на иностранном, резкие крики медведей, которых, наконец, поймали, и теперь вели по ту сторону Аничкого моста. Ещё Софья обоняла запахи. Сгусток людского аромата застыл в улице, безветрие и влага не давали ему рассеяться, он складывался из табака, дорогих и дешёвых духов, мускуса, аммиака, спирта, одеколона, газа, пота, лошадиного навоза. От звуков, запахов, пассивного движения, когда не можешь не опередить идущих, не замедлить шаг, но вынужден идти со всеми, с их скоростью, в их направлении, тупела голова, обрывки разрозненных, кажущихся своими, но известных всем мыслей пролетали, едва задержавшись до осознания. Здесь терялась воля. Некто неизвестный, неподдающийся описанию, непостижимый уму, непохожий ни чем на человека, не состоящий ни из одного элемента, известного ближайшей природе, расставил невидимые насосы по углам города и большими качками опустошал его желания, страсти и сам смысл. Всё мельчало, рассыпалось, человеческие проявления становились гномическими, гомерически смешными. Со звёзд, высоты мысленных насосов, пылинка, населённая антропоидами, превращалась в единую ужимку несуществующего существа. Тем труднее в галактическом снегу русской зимы было разыскать женщине мужество, в котором сейчас она наиболее нуждалась. Впрочем, она ощущала в себе достаточно мужества, воли, стремления, того чего не находила в других людях и за что презирала их. Но именно эти мужество, воля и стремление не придавали ей силы, а лишали её последней. Её ноги увязали в тяжёлом снегу, сапоги разъезжались на гололёде, а рукам мешала доха, распространённая петербургская шуба. Софья боролась с самой природой, немо объявившей инертность, покой, максимальное сопротивление, своими первыми законами. Но внутренняя её природа только продолжала не её – внешнюю, неподвластную и безразличную, чуждую этике и скорее антиэстетичную, чем склонную к красоте. Страстно желая, но не добившись достаточной мужественности, она лишила себя женственности, превратившись в некий асексуальный, бисексуальный, никакой не сексуальный, бесполый продукт, который их всех млекопитающих и даже хордовых, способен сформировать в себе разумом исключительно человек. Не веря, смеясь над религией, законами, частными привычками и общественными институтами, она представляла образец универсального солдата, подчинённого не командиру и даже не себе, а сочинённой в ожесточённых спорах и так до конца не утверждённой программе, в истине которой она сомневалась, но вот уже два дня казавшиеся неумолимым обстоятельства отодвинули колебания на задник той внутренней сцены, что то гордо, то насмешливо именуется людской душой. Ни по случайностям рождения, ни по воспитанию и среде ничто не способствовало стать ей машиной для убийств, но она стала ей, как последняя капля уже больше чем капля, а скорее пролитая чаша, заливая огонь или проливающаяся на пальцы. И теперь развитая грудь и высокие столбиками сосцы, скрытые одеждой, служили не для того, чтобы когда-либо кормить младенцев, а чтобы привлекать отвратительных самцов, самцов – врагов, тех, кого надо обмануть, обольстить обманчивой слабостью, прежде чем убить. Той же цели полагались миловидное личико, идеальный рост, развитые бёдра и белый цвет волос, загадочно привлекавший самцов больше, чем чёрный. В своём теле её индивидуальное сознание чувствовало себя равнодействующей коллективного сознания засадного полка, скрытого ветвями кустарника и глубиной оврага, но готового к смертельному прыжку, чтобы убивать, резать, вскрывать утробы, заливать глотки свинцом, потому что в атаке не думают, а выполняют что придумано раньше, кроме сиюминутных думок, как лучше убить или избежать, чтобы тебя убили. Глобальная стратегия нападения или отказа от него не решается на поле брани, бой ещё не наступил, но ощущение приближения сражения висело в сумрачном, пронизанном водяной дисперсностью воздухе. Арифметически равномерное падение геометрически правильных снежинок не могло предвещать ничего хорошего. Гармония и безопасность склонны к хаосу и кривизне, а вокруг стоял строгий порядок линейных форм, серых, похожих одно на другое зданий, арочных мостов, однообразных по глубине, ширине и облицовке каналов и совершенно сводящих с ума, бесконечных, прямых как стрела, сверкающих огнями, как лезвия ножей или сталь пистолетов, улиц и проспектов.
Да, она была военным кораблём, фрегатом, засадным полком, соединявшим скрытность и угрозу, ловушку и обман, приманку и яд; прекрасное молодое тело её походило на великолепный южноамериканский цветок, захлопывающий лепестки, пожиравший насекомых, в поисках нектара усевшихся на пестик. Она сомневалась, где находится мозговой центр, руководивший ею, в фибрах сердца или глубоко в мозгу, в шишковидной железе, гипоталамусе, лобных долях, но она твёрдо знала, что такой центр есть, он, собственно говоря, и есть она. Этот центр управления не вне её, он в её теле, ибо тело – атрибут его, центра, тело выполнит, что прикажет сознание, как корабль повернёт туда, куда направит командирская рубка. Центр управления не растворён в теле, ибо тогда, если отрезать руку или ногу, его становились бы меньше, он локализован и всё-таки чувствуется, что расположен скорее в голове, чем в сердце. И если глаза, кожа, грудь, бёдра и лоно – для привлечения, мышцы на плечах для борьбы, то бомба, взрывное устройство, что она придерживала через карман дохи, была уже для абсолютного убийства или самоуничтожения, или совмещения того и другого. Говорят, что сознание подобно функции одновременно материально и нет, как свет – частица и волна, так вот бомба уже не являлась неопределенной, она была конкретна, вещественна, но не самодостаточна. Как паразит, бомба нуждалась в человеке, в данном случае в Софье, которая могла и хотела в нужный момент привести её в действие, подложить, снять предохранитель или метнуть. И ещё, мир вокруг Софьи не содержал красок. На зло или во славу в тот день с чёрного неба удивительно белый снег. Крупные до боли правильные хлопья как акробаты, спиралью скользили по нитям дождя, падали в свинцовую воду канала, но не окрашивали её желтизну, белое медленно погружалось, растворялось в чёрном. Не жёлтый, но раскалённо-белый свет излучали фонари. Парапеты и дома, ограждавшие дома, мешались перспективы, сливались в единый барьер и рисовались серыми, как переход от света к тени. Софья тронула гранит парапета и замерла. Пальцы без перчаток не ощущали холода, под ладонью лежала, будто писчая бумага, гладкая, невесомая и странно до отвратительного раздражения сухая, что хочется намочить или, пока никто не заметил послюнявить пальцы. Софья дотронулась до дохи. Она видела, что та мокрая, лил дождь со снегом, но ощущения сделались как от парапета – через чур гладко и сухо. Тогда она подумала, но ведь и парапет мокрый, хотя кажется сухим. Бомба под дохой качнулась. Софья чуть не выронила её. Она подхватила её правой рукой, ощутила металл, холод, мокроту и вязкость. Бомба состояла будто из ртути. Что же положил в неё Кибальчич? – подумала Софья, поймав себя на мысли, что бомба, возможно единственно мокрый предмет, в мире вокруг, и что ощущение её будет последним, перед тем как… Мысль заменила чувства.
В тумане испарений, поднимавшихся от воды и расползавшихся в обе стороны тротуаров, маячили фигуры сообщников. С поднятыми воротниками, в тёмных застёгнутых до горла пальто, серых шляпах, они проявлялись из белёсо-молочной мглы и вновь растворялись в ней. Каждый из сообщников под пальто, подмышкой, в свёртке, в руках прижал точно такую же бомбу, что сжимала через карман Софья. Крупные животные ходят тропами, не в разные стороны, по направлениям летают птицы, узкими тропками скачут друг за другом насекомые, вглядитесь, есть дороги, где их много, а есть, где почти никого. На непротоптанных путях обычно и подстерегает опасность. Если Невский шумел, гудел, периодически разражался возгласами, в которых расшифровывались если не слова, то звуки и буквы, толпы человеческих существ и самих разнообразных транспортов бились и пульсировали, как поток, зажатый меж домами в очередном наводнении, то над каналом словно выключили звук, невидимый жонглёр оставил там минимальное количество марионеток. Софья догадывалась, кто делал это. Это делал тот же, кто расставлял мысленные насосы, убирал из мира краски, выключал звук, внушал пальцам, что бомба из ртути. Неприятный вкус во рту, как от чрезмерного курения вчера или кровоточащей десны, заставил Софью подойти ближе к парапету. Хотелось окунуться, насквозь промыться в ледяной, чистой воде, загасить жар и неподатливую ломоту суставов, стряхнуть дурноту и отупелую невозмутимость восприятия, заменить супербодростью жадного поглощения жизни. Самый важный русский вопрос, не «кто виноват», не « что делать», не « кому на Руси…», а « когда всё это кончится», поглощал другие вопросы, стирал как ластиком само начало проявлявшихся ответов. Софья подняла от воды глаза. На той стороне канала в тёмном пальто и шляпке стояла Геля. Из-под вуалетки её близорукие глаза коротко взглянули на Софью. Взгляды встретились. « А Гелька то дрейфует» – судила Софья по бледному лицу, на миг вырванному из хаоса действительности и приближенному вниманием на крупный план. И тут же рабочая мысль: «Куда она смотрит? Зачем она сюда смотрит, вдруг появится Он, а она Его проглядит».
Топот рассекающих гололедицу копыт раздался со стороны Михайловского дворца. Неожиданно мановением волшебной палочки крепкие груди шести белых коней раздвинули мутную пелену снега и дождя, бескрылыми серафимами понеслись вдоль домов. В такт коням обрывки мыслей заскакали в голове: «Бросай! Бросай! Он сейчас повернёт!». И тогда тот первый бросил.
Ослепительно белый шар вспыхнул и закрыл карету. Тёмное тело бомбометателя подпрыгнуло и неловко распроставшись прилепилось к шару. Несколько мгновений человек висел в воздухе. Если бы шар покатился, человек перевернулся бы через голову, но шар не двинулся, а начал обрастать чёрным дымом и рассеиваться, открывая бешено бьющихся пятерых лошадей, шестая агонизировала, лакированную карету и эскорт всадников, пытавшихся усидеть в сёдлах. Бомбометатель повернулся и упал на бок. Дверца кареты открылась, и на мостовую ступил Он, упырь, кровосос, в глазах одних враг народа, во мнении других, наибольший защитник. Софья считала Его худшим врагом, ибо слишком умело маскировался Он под друга и сумел обмануть многих. Главное, он был вором. Он воровал мысли и идеи окружавших Его, да и живших далеко людей, приписывал себе, если открывал их популярность. Он и Его клика беззастенчиво рылась в Программе Софьи и её товарищей и уже на две трети объявила её своей. Самое страшное, что Он обманывал, а люди ему верили. Пройдёт совсем мало времени, и софьину Программу люди сочтут придуманной Им, и Он так и останется править. Глупые аборигены не понимали, что Ему всё равно, какая Программа, лишь бы править, владеть той собственностью, что Он уже владел и жить той жизнью, что он давно вёл.
В чёрно-белом полотне впервые появился иной цвет – красный. Красное кровяное новоаброзование излилось из бомбометателя. Вышедший из кареты Человек в шинели и кепке направился к нему. Вцепившись в камень, ногти Софьи крошились о парапет. Она вся превратилась в зрение, слух, обоняние. Как хотелось бы ей быть там, чтобы самой сделать это, но слишком часто Он менял маршруты, и ей снова не повезло. Теперь всё зависело от второго бомбометателя, а в случае его неудачи, от Гели.
Царь склонился над бомбистом и молча разглядывал его раздробленное бедро. Конечности упавшего чуть подрагивали, багровое от волнения лицо быстро сменялось мёртвенной бледностью. Второй бомбист, явно колеблясь, не взглянув, а зыркнув в сторону, как норовистая лошадь перед барьером, не поймав, но, почувствовав напряжённые глаза Софьи, медленно двинулся к накренившейся от первого взрыва карете. Перед лицом Софьи известный её Невский менял чёрно-белые диапозитивы. Вот убийца ещё далеко, вот близко, вот поднялась рука со смертоносным свёртком, не от плеча, а от живота свёрток полетел, разорвалась мостовая, рядом с Софьей упало и рассыпалось выскочившее от сотрясения стекло, два разноголосых крика соединились в один: « Убит и пойман». Теперь Софья видела, что гвардейцы и редкий народ подтянулись к первому, поверженному покусителю, его уже подняли, и он стоял пошатываясь, лежавшему лишившемуся ног Государю и мертвому, убийце c колеблющейся на ветру полой пальто, съехавшей с головы шляпой и отклеившейся углом смоляной бородой. Геля развернулась и с клетчатым платком, где пряталась ещё одна бомба, пошла прочь. Хотела пойти и Софья, но быстро сознала ошибку и не двинулась с места. Чтобы остаться незамеченной, надо было делать, что все, в данный момент, подойти ближе и сочувствовать. Увидев движение Софьи, вернулась и Геля, со свертком в муфте она протиснулась к лежавшему без сознания Государю. Через мост туда же пробралась и Софья. Если Он не убит окончательно, думала она, надо будет бросить бомбу, чтобы уничтожить и убийцу, в верности которого она сомневалась, и добить Царя. Софья и Геля стояли в толпе пока Государя не увезли. Цвета, осязание, обоняние, другие чувства, притуплённые опасностью, начинали возвращаться к Софье. Коротко она глянула на то место на канале, где так долго стояла. Теперь там находилась какая-то женщина, и взгляд Софьи сначала невольно, потом с нарастающим удивлением, а затем ужасом потянулся к ней. С того места, откуда она наблюдала трагедию, на неё глядели спокойные, безучастные, уверенные в непреложной силе глаза смерти. Эти глаза не выражали не угрозы, ни неистовства, ни осуждения, единственно – ожидание, так безразлично вневременно, не зовя, зовёт смерть всех, кого жизнь не спросясь выставила на биологическое поле. На женщине на той стороне была та же тёмная доха, чёрная шляпка, сапоги. Она была стройна и красива, одна рука в перчатке держалась за парапет, другая через карман пальто сжимала, возможно
тоже, что и Софья. Гротескное порождение дневных петербургских туманов отделилось от жёлтых домов, окунулось в молочно– сизое марево, собралось, сфокусировалось под белым светом фонарей и резко очерченного диска солнца и дало картину, способную воссоздать только зеркало, воткнутое в середину канала и поднятое до небес. Но если это зеркало, то должны были отразиться, помимо Софьи, Геля, прохожие, зеваки собравшиеся на звук взрыва, группками судачившие и уже расходившиеся, а так же приехавшие на пролётке сыщики в серых одинаковых полупальто, гороховых плисовых панталонах и шляпах-котелках. А если б это было не зеркало, а стекло, картина сделалась бы вообще замечательной: одна половина канала вместе с людьми, пролёткой, лошадьми двойной экспозицией легла на противоположную, и незнакомка смотрела бы на всё через всё. Однако в зеркальной плоскости отражалась исключительно Софья. Софья двинулась к Невскому, и двойник пошёл за ней, синхронно колебались за парапетом их тени в чёрной воде. Геля тоже постаралась уклониться от вопросов сыщиков и свернула к Сенной площади. Навязчивая мысль буравила мозг Софьи, почему горят фонари, ведь сейчас день. Сама себе она отвечала, оттого, что праздник.
Он сразу заметил, что пропал пистолет. Как он мог этого не заметить, когда вот уже несколько лет он вешал его вместе с портупеей на толи гвоздь, то ли штырь, то ли остатки крючка, выпиравшего в зале, рядом с подвешенным велосипедом. Не нужно было быть сыщиком или оперуполномоченным, как сейчас называется, чтобы увидеть изменения в привычной картине. Это даже не как в игре, найди семь отличий, это просто что называется, ввели в квартиру слона, вернее увели слона с самого заметного места, но не из зоопарка, где слонов много и отсутствие одного действительно долго могут не заметить. Он пошёл принять душ, как всегда делал, когда приходил домой пообедать, а обедать он приходил каждый день. Прохладная вода текла по начинавшему терять форму, но ещё мускулистому телу, он слушал прерывистый шум душа, разглядывал белый кафель, хотел расслабиться. Не торопясь, с удовольствием вытерся большим махровым полотенцем, подаренным тёщей, сунул ноги в шлёпанцы и вышел, обвязавшись до пояса тем же полотенцем, в зал. Пистолета на стене не было. На столе дымилась тарелка с сосисками и рисом, дверь спальни дрожала от сквозняка, с лестничной клетки доносились гулкие непонятные слова, урчанье лифта. Незапертая входная дверь раскрылась. Сквозняк гулял по квартире, переворачивая страницы брошенного на пол журнала.
Стремительно одевшись, он выскочил на улицу. Последнее время он не оставлял её денег, поэтому она наверняка нырнёт в метро, если не затаится в парке или бесцельно не побредёт по городу. Впрочем, она способна на всё что угодно. В действительности, она была способна не на всё что угодно, но он не понимал её и ему казалось, что в её голове хаос, и она послушна не осознанной цели, а переменчивым преобладающим в данный миг желаниям. Ему, привыкшему решать головоломки, правда, всегда составленных из материальных устремлений людей, уже вычерчивалась в массе идущих её белая голова. Он настигал её, но в двух шагах обнаруживал, что ошибся. Иногда возбуждённый темперамент изображал почти разительное сходство. Он равнялся с незнакомкой, почти хватал её за плечо, когда наконец осознавал свою ошибку. Когда это случалось слишком близко, женщина боковым зрением вдруг замечала его лицо, нависшее над её, не успевала разглядеть, от невнятности происходящего, рождавшего страх, шарахалась в сторону, налетала на других прохожих, ему же приходилось извиняться и лететь дальше. Самое страшное, что информация переполняла его готовый разорваться от напряжения мозг. Инстинкт гончей, заставлял всматриваться в каждое лицо, что проплывало мимо. Рот, ухо, глаз, подбородок, осанка или рост, вырванные из человеческой массы, заставляли против воли сравнивать с фотороботом, показанным когда-либо в отделении, карточкой преступника, находившегося в розыске, физиономией бандита, наркомана, бомжа или потерпевшего. Он не проплывал мимо человеческих единиц, но фиксировался на каждом людском атоме, обладая, если уместно подобное сравнение, неким квантовым сознанием, как вспышкой вырывавшим из мглы, суеты и хаоса, то или иное лицо и вновь погружавшим в ночь невнимания, чтобы потом всегда возрождать его в памяти для сравнения. Перепрыгивая через две ступеньки, он вбежал в подземку.
На платформе, как подсолнечники поворачиваются в сторону солнца, повернулись в направлении ожидаемой электрички люди. Они ещё напоминали сурков, что встав на задние лапки всегда глядят одинаково. Ему некогда было проводить аналогии, но преследуемая и не понятая им жена их лихорадочно проводила. Из-за плеч и голов стоявших, которых она безжалостно раздвигала, летели к нему отчаянные её взгляды. Она хотела броситься к эскалатору второго выхода, но передумала, заколебалась и вдруг ринулась с платформы в тоннель, где ходили поезда. Кто-то из нестоявших спиной пассажиров, увидел и закричал. Загремел, заверещал, послал длинный гудок приближающийся поезд. Оттолкнув кричавшего, он спрыгнул с платформы следом за ней.
Рельсы гудели от напряжения давившего на них поезда, от множества поездов, что шли впереди, и множества, что настигали или ждали своей очереди сзади. Факел света из-за спины бросал гротескные тени от его фигуры и фигуры женщины перед ним. Она бросила куртку, достала пистолет. Теперь тень её руки заканчивалась смертоносным треугольником. Он лихорадочно думал, сняла ли она пистолет с предохранителя, пока не понял, конечно же, сняла, он её сам учил, как это делается. Первая пуля ударилась о стенку, отскочила и залязгала по рельсу, словно гальку бросили вдоль воды. Он прижался к тоннелю и чувствовал дрожь и пульсацию электрических кабелей. Выводок вспугнутых крыс прошуршал под ногами, и тут же раздался усиленный гул поезда. Машинист не расслышал крика единственного человека заметившего его прыжок, её прыжок не заметил никто. Машинист пустил электричку. Он и она, преследователь и беглец, прижались к тоннелю, желая распластаться, а то и раствориться в его стенах. Два глаза окон и шестиглазье фар раздвинули темноту, почва содрогнулась, цунами горячего воздуха под поршнем идущего поезда двинулось на них. Грязная длинная паутина высветилась и закачалась с боков и на потолке тоннеля, а за электричкой качались над опустевшей платформой круглые шары ламп. Поезд издал гудок и мимо него и неё понеслись вагоны с гражданскими солдатиками, сидевшими, стоявшими, вцепившимися в поручни не державшимися не за что, читавшими, бездумно галдевшими, болтавшими и не совершавшими ни чего, каждый из которых скорей ехал куда-то, имел цель, чем просто катался, но все вмести они неслись чёрт знает куда, в этот бред, что назывался конечной остановкой. При всей своей свободе воли ехавшие должны были либо где-то сойти, либо доехать до конечной. Если бы они не сделали ни того, ни другого, в конце дня их неминуемо выгнал бы дежурный по станции. Огонь окон вырывал из тьмы его и её лицо, и он думал, надо остановиться, я схожу с ума, а она? Поезд прошёл, и вот уже вторая пуля зашевелила волосы на его голове. « Ты сошла с ума! » – закричал он, бросаясь к ней и хватая воздетую вверх руку с пистолетом, и эхом ему отдалось: – « Я тебя ненавижу! Ненавижу! ». Горькая слюна той женщины, что он любил, обожгла ему лицо. Она истерически рыдала. Плач переходил в смех. Плечи, ключицы поднимались и опускались, будто она прыгала на детской скакалке тогда, когда ещё всё впереди. Он поднял брошенный пистолет, обнял её за плечи, она не сопротивлялась, повёл к выходу, но не к тому, первому, он стеснялся людей, видевших его прыжок в тоннель, если они не, не уехали, а к дальнему. Мимо проносились поезда. В них везли отрешённых, поражённых некоей духовной чумой человеков, лишённых восприятия, не замечающих идущих вдоль рельс людей, несомых в никуда безжалостной последовательностью времени.
Он выпрыгнул на платформу, протянул ей руку, вытащил её. К ним подошли, у него потребовали документы. Глаз видеокамеры над платформой фиксировал происходящее. Он показал удостоверение, их отпустили. Но на этом не закончилось.
Квартира была открыта, причём он не мог вспомнить, закрывал ли он её. Кто-то воспользовавшись их отсутствием, изуродовал мебель, разорвал снизу до верху обои, сорвал, бросил на пол шторы. Посередине исцарапанных большими когтями обоев в зале вызывающе распласталось с человеческий рост кровяное пятно, смешанное с шерстью и раздавленными внутренностями. Пахло мочой. Неуместившаяся, набранная через чур крупным шрифтом надпись « Чтобы ты зна…» выплывала и убегала с экрана компьютера. Он вошёл в спальню. На кровати, вытянув лапы, лежал убитый черный пудель. Жена за его спиной сильно, в голос зарыдала: « Теперь ты понимаешь! Теперь ты понимаешь! ». Входная дверь хлопнула, словно от сквозняка или кто-то выбежал из квартиры. Он бросился на лестничную клетку. Там было пусто. Грохоча и полязгивая вниз опувкася лифт. Он сбежал по ступенькам. Лифт открылся, из него вышла соседка с собакой. Не ответив на её приветствие, он выскочил во двор. Там тоже ничего подозрительного. Не загазовала и с бешеным визгом тормозов не унеслась прочь не одна машина. Он вернулся в подъезд, но лифт уже уехал и ему показалось, что он вечность стоит, ожидая, когда тот вернётся. Не дождавшись, перепрыгивая через две ступеньки, он побежал домой.
Жена опустилась на пол, сидела в неловкой позе, плечи ходили ходуном, слышалось утомлённое попискиванье, какое издаёт мышь под каблуком. Он сел перед ней на корточки, взяв за виски, ладонями развернул лицо. « Я боюсь!» – сказала она, снова зарыдав. Он тяжело вздохнул, ушёл к дверям, сорвал с антресолей спортивную сумку, понёс в спальню. Он поднял пуделя, тот быстро холодел, но ещё оставался мягким, похожим на спящего, а не мёртвого, положил его в сумку, пудель как раз уместился. Зажужжала молния. Край сорочки попал между зубцами. Он вырвал сорочку, оставив часть ткани в замке. « Ты уже не вернёшься?» – спросила жена. Он сгрёб выпачканную в кровь пуделя супружескую постель, бросил кучей в стиральную машину, включил. В мойке горой лежала немытая посуда. На столе стояли две жирные тарелки. Он набрал воды из-под крана, крупными глотками выпил из чайной чашки. Взвалил на плечи сумку с мёртвой собакой, направился к выходу, по дороге налетел на черенок садовых грабель, выпавших из стенного шкафа, выругался. « Оставишь меня?!» – спросила жена. «Закройся!» – бросил он, хлопнув дверью.
Он ехал в трамвае. Вокруг толкались люди, контролёры проверяли билеты. Никому не было дела, что у него за плечами труп. Он сошёл за Троицким мостом, решив закопать собаку, в скверике у Марсова поля.
В парке было достаточно многолюдно, и ему пришлось долго блуждать, делая вид, что гуляет. Впрочем, со стороны сомнительно сходил он за гуляющего: огромная спортивная сумка за плечами, блуждающий, озирающийся взгляд, обыкновенный в поисках добычи бомж, а то и похуже. Прогуливающиеся пожилые женщины старательно обходили его, потом смотрели вслед. Собаки рвали поводки, заливались бешеным лаем, чуя совместный его с дохлым пуделем запах. Без привязи и намордника поджарый доберман подскочил, встал на задние лапы и тщательно вынюхал сумку. Он замер, терпеливо ожидая, когда хозяин заберёт хозяин. Доберман жалобно завыл, отбежал, лёг жёлтым брюхом в подтаявшую прошлогоднюю листву. Владелец до побелевших пальцев натянул повод, чтобы заставить собаку встать. Оставшись, наконец, в обманчивом уединении, он достал из сумки маленькую садовую лопатку, принялся остервенело, торопясь пока никого нет, долбить промёрзлую землю. Почва подавалась плохо. За четверть часа он едва продвинулся на полметра. Ему чудились неопределённые силуэты за безлистными кустами. Вытащив мёртвую собаку, он положил её на край ямы, когда зазвонил мобильный.
– Да, я слушаю.
– Куда пропал? Тебе не дозвониться.
– Я сразу взял.
– Смотри, сразу!
Прижав плечом телефон к уху, он сбросил пуделя в яму. Орудуя лопатой, принялся быстро засыпать труп землёй и замороженными листьями.
– На Грибоедовском два трупа.… Лети пулей!
– Что там?
– Увидишь. Похоже на заказ.
Он закопал собаку, воткнул сверху лопатку. Мелькнула мысль, поставить крест или палку, чтобы заметить место. Он схватил ветку кустарника, попытался сломать. Ветка гнулась, расщепилась, облезая корой, на две части до середины, но не подавалась.
– Что там у тебя трещит? Жрёшь что ли?
– Нет.
Сзади шумел кустарник, кто-то приближался.
– В воскресенье на рыбалку едешь?
– Конечно.
– Не передумал?
– С чего?
– Мало ли что. Я поводки новые купил и мормышки классные.
Он встал. Из кустов вышли двое подростков. Они остановились, смотрели. Стряхнув землю, убрав лопатку, он пошёл с сумкой прочь. Оглянувшись, увидел, как подростки склонились над разрытой землёй. « Выроют пса, сволочи», – тупо подумал он.
До канала было рукой подать. Скорее добежать, чем ловить такси. Появился трамвай, он впрыгнул в него. Не садясь, держась за поручень, он всматривался в прохожих скользивших по тротуарам. Гул трамвая покрывал голоса, а он инстинктом ищейки, как в криминалистической фототеке, ловил лица, поворачивал в фас и профиль, выглядывая потерпевших, убийц, истцов и ответчиков. Но не только он, и они – марионетки, разноцветные самодвижущиеся куклы, инстинкт жизни которых заставляет жить, в беспросветной повседневности борьбы за поиск маленьких радостей. Умственная жвачка опять попыталась захватить его.
– Папа?
Он вздрогнул. Голос прошептал за спиной. Три женщины смотрели на него.
– Я не узнаю,– пробормотал он.
Программу сбили. С работы надо было срочно переключаться на семью. С жертв, маньяков и заказных киллеров на выводок жён, дочерей, бабье царство, что хвостом таскал он по жизни.
Красивая статная молодая девушка с волосами чуть обесцвеченными «пёрышками» дружелюбно улыбалась и упорно смотрела на него. Он никогда не видел её, но по другой женщине, рядом, тоже улыбавшейся, догадался, что обратившаяся претендует на его отцовство.
– Вы…в Питере?!– разведчиком осторожно спросил он.
– Мы уже давно здесь, – ответила за дочь, по-видимому, мама.
Ретушь её глаз пожирала бывшего мужа. Она сильно постарела, расползлась. По провинциальному неумеренно красилась, волосы вылезли от частых перекрашиваний. Сейчас она носила каштановое каре.
– Я закончила историко-архивный в Москве. Восьмой месяц работаю в Эрмитаже. Мама ко мне в гости приехала. А это моя подруга, вместе со мной работает, – трещала девушка, по-видимому, всё-таки дочь.
Симпатичная девушка, очень похожая на дочь, такими вероятно делает одно поколение возраст, общая среда, подумал он, чуть наклонила голову: