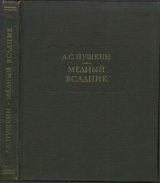
Текст книги "Медный всадник"
Автор книги: Александр Пушкин
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
Текст «Медного Всадника» во всех изданиях, начиная с «Современника» 1837 г. и до настоящего времени (кроме четырех изданий, редактированных П. Е. Щеголевым, о которых будет сказано дальше), печатается на основании писарской копии (ПК) со всеми поправками стилистического и смыслового порядка, внесенными в нее Пушкиным. К этому, помимо инерции, порожденной первопечатным текстом, побуждают веские текстологические соображения: художественные поправки, внесенные Пушкиным в ПК летом 1836 г., несомненно являются последним (по хронологии) выражением авторской воли н отменяют предшествующий текст Цензурного автографа. Дополнительным основанием служит то, что одна, и притом серьезная, переработка была сделана поэтом еще до отдачи Цензурного автографа в переписку и внесена переписчиком в процессе составления ПК – очевидно, с особого, теперь неизвестного автографа. Мы имеем в виду новую редакцию четырех стихов, заключающих Вступление в поэму, после слов: «Была ужасная пора» (присутствующих в Болдинском и Цензурном автографах):
Была ужасная пора…
Об ней свежо воспоминанье…
Об ней, друзья мои, для вас
Начну свое повествованье.
Печален будет мой рассказ.
Это обстоятельство – едва ли не самый веский аргумент для признания писарской копии, а не Цензурного автографа источником дефинитивного текста поэмы.
Было, однако, еще одно обстоятельство, осложнявшее этот, казалось бы, ясный вопрос. Внося стилистические и смысловые поправки в писарскую копию – независимые от цензорских указаний Николая I и потому входящие теперь в текст «Медного Всадника», – Пушкин стал перерабатывать размышления своего героя (стихи 40-62 Первой части по нумерации академического издания, стихи 136-158 по общей нумерации поэмы). [499]Он тщательно переправил первые восемь стихов этого текста, сделав из них семь (от «Что служит он всего два года» до «Дни на два, на три разлучен»), и зачеркнул (очевидно, по ошибке) последние два («Тут он разнежился сердечно И размечтался как поэт»). Вместе с тем он вычеркнул тремя вертикальными линиями весь остальной текст мечтаний Евгения – всего 15 стихов, от «Жениться? что ж? зачем же нет?» до «И внуки нас похоронят…». Так как эти стихи не были ничем заменены, то их опустил в посмертных изданиях Жуковский, опускали и все последующие редакторы «Медного Всадника» (кроме П. Е. Щеголева, о чем будет сказано ниже) до публикации его в академическом издании в 1948 г. Изъятие этих стихов образовало в тексте поэмы пробел: исчезли мечтания Евгения о будущем семейном счастье и был явно обеднен его образ. Это положение смущало многих текстологов – редакторов Пушкина. Иные пытались мотивировать исключение этих 15 стихов тем, что, как писала Т. Г. Зенгер (Цявловская), Пушкин, пересматривая текст ПК, «выбрасывал длинноты, ослаблявшие цельность драматического нарастания». [500]Другие (большинство), печатая текст ПК без зачеркнутых в нем 15 стихов, восполняли этот ущерб тем, что давали зачеркнутый Пушкиным отрывок либо в сноске к тексту, [501]либо в приложении после текста. [502]То и другое решения были, конечно, компромиссными, но введение в текст вычеркнутых Пушкиным стихов было противно элементарным правилам текстологии – даже примитивной текстологии XIX в.
С этим явным, но неисправимым, как казалось, дефектом «Медный Всадник» издавался более ста лет, т. е. уже после того, как все автоцензурные переработки Пушкина (не говоря уже о цензурных переделках Жуковского) были устранены из его текста.
Нарушением этого принципа явилось вышедшее в 1923 г. отдельное издание поэмы, отредактированное П. Е. Щеголевым. На этом издании следует остановиться подробнее. В нем редактор, ломая 80-летнюю традицию и отвергая писарскую копию (ПК) как источник печатного текста, в особой статье дал подробную мотивировку своего решения. Вместо ПК он предложил Цензурный автограф как законченное выражение «последней авторской воли» Пушкина. «Текст „Медного Всадника“, – писал П. Е. Щеголев, – в этом автографе представляет ту дефинитивную, окончательнуюредакцию, в которой Пушкин хотел видеть свою повесть в печати». «Эта именно редакция – плод свободного творчества поэта <…> Нет двух ответов на вопрос: ежели бы в момент прекращения работы по оцензурению „Медного Всадника“ (т. е. по внесению Пушкиным поправок всякого рода в ПК, – Н. И.) Пушкина спросили, какой текст „Медного Всадника“ он хочет видеть в печати – тот, который находится в автографе <ЦА>, или тот, который дает исправленная писарская копия, то ответ мог быть только один, голос его был бы подан за текст автографа <ЦА>. Текст же посмертной редакции <ПК> является как раз таким, какого Пушкин не хотел видеть опубликованным, какого Пушкин не пустил в печать». [503]
Заключение Щеголева было бы неоспоримо, если бы ПК содержала только «автоцензурные» поправки Пушкина и позднейшие переделки Жуковского. Их было бы легко снять и вернуться таким образом к тексту ЦА. Но дело обстоит не так, и здесь перед нами встает во всей своей сложности вопрос о «последней авторской воле» и о выборе дефинитивного текста – основного текста для издания.
В 1836 г., замыслив публикацию своей поэмы – очевидно, в «Современнике», – Пушкин заказал переписчику копию с ЦА. Но текст последнего уже не во всем удовлетворял его, и прежде всего, как мы уже видели, не удовлетворяли заключительные стихи Вступления, которые переписаны в ПК в существенно новой редакции – очевидно, с особого, позднее затерянного и нам неизвестного автографа. На это обстоятельство Щеголев не обратил должного внимания и лишь отметил его, поместив на с. 65 тексты обеих редакций. Но именно эта переработка, бывшая несомненно плодом «свободного творчества», показывает, что через два с половиной года после завершения поэмы Пушкин не считал ее текст в ЦА окончательным и неприкосновенным: этим узакониваются, как новый этап в творческой истории «Медного Всадника», и внесенные в ПК остальные поправки (исключая, разумеется, цензурные). Между тем Щеголев почти во всех случаях считает их «неокончательными» и даже неудачными, ухудшающими текст. Так, сопоставив две редакции (или, вернее, два варианта) отрывка, говорящего о безумном Евгении, которого «нередко кучерские плети <…> стегали» и т. д. (стихи 369-374), он замечает, что они в ПК «совершенно неудачно выправлены», что «исправления <…> значительно искажают смысл», а одно исправление «внесло прозаизм в текст повести: оглушен шумом внутренней тревоги», отчего «сразу оскудело содержание» этих стихов. Отсюда следует вопрос: «Можно ли считать такое исправление совершенным и окончательным?». [504]
Вопрос о том, «совершенна или несовершенна» поправка, внесенная в текст автором, выходит за пределы текстологии. Такая субъективно-эстетическая оценка вполне законна в критическом отзыве, но недопустима в текстологическом исследовании, в истории текста. Насколько спорны субъективно-эстетические оценки Щеголева и насколько неправомерны основанные на них текстологические выводы, видно из того, что С. М. Бонди, рассматривая те же стилистические и смысловые поправки Пушкина в ПК, считает (не делая, разумеется, из этого каких-либо текстологических выводов), что «текст „Медного Всадника“ 1836 года совершеннее текста 1833 года»: «В 1836 году Пушкин все не вполне точные или недостаточно выразительные слова и обороты заменяет яркими, сильными и образными». [505]С этим мнением авторитетного специалиста-текстолога необходимо согласиться. [506]
Но в одном и очень важном случае П. Е. Щеголев был безусловно прав: речь идет о вычеркнутых в ПК без замены «мечтаниях» Евгения, исключавшихся во всех изданиях поэмы, о чем мы уже говорили выше.
«При исключении мечтаний Евгения в посмертной редакции (т. е. в ПК, – Н. И.), – писал Щеголев, – совсем неуместным оказался неисправленный стих 159 —
Так он мечтал.
Как раз ничего такого, что можно было бы охарактеризовать как мечтания, не осталось в предшествующих, явившихся результатом исправления стихах посмертной редакции. Ясное доказательство, что исправления, сделанные <…> Пушкиным, не были доведены до конца и не подлежали введению в окончательный текст». [507]
Аргументация Щеголева вызвала позднее возражения, основывающиеся на понимании слова «мечты, мечтать» (в стихе «Так он мечтал»). «Это положение исследователя (Щеголева, – Н. И.), – писала Т. Г. Зенгер (Цявловская) в 1934 г., – является недоразумением. Слово мечты, мечтатьв поэтическом употреблении сто лет назад не было синонимом слов грезы, грезить,не разумело непременно чего-то приятного, желаемого. Это слово было синонимом раздумья, мыслей, дум». Приведя ряд примеров из «Евгения Онегина», «Полтавы» и др., исследовательница заключает: «Это доказательство Щеголева <…> казалось – самое сильное <…> А между тем мы видим, что оно ошибочно. И все построение Щеголева рушится». [508]Позднее и С. М. Бонди в цитированной выше статье (1950 г.) замечал, что «слова „мечты“, „мечтать“ у Пушкина имели не только то значение, в каком мы их употребляем (думать о чем-то желательном); нередко эти выражения обозначают просто мысли (не обязательно приятные), окрашенные сильным чувством». [509]Указания эти в общей форме справедливы. Но именно в данном случае рассуждение Щеголева имеет серьезные основания. В самом деле, Пушкин в стихах 125-159 дает ясно выраженный переход от размышлений Евгения к мечтаниям, с существенной разницей в содержании и стиле тех и других. В ЦА и ПК (до внесения поправок) мы читаем о пришедшем домой Евгении:
<125>… Долго он заснуть не мог
В волненьи разных размышлений.
О чем же думал он?
И за этим следуют прозаические, даже деловые раздумья его о своей бедности, о службе и о погоде. Последнее – два-три дня разлуки с Парашей из-за подъема воды и разводки мостов на Неве – приводит его к мысли о любимой девушке:
<143>Тут он разнежился сердечно
И размечтался как поэт.
Выражение «размечтался как поэт» (пусть и содержащее некоторую долю иронии) подчеркивает разницу между предшествующими прозаическими, деловыми размышлениями и поэтическими мечтами, т. е. в полном смысле представлениями о будущем и желаемом, рисующими его маленькое, даже мещанское счастье. При окончательной правке (о которой сказано будет ниже) слова «Тут он разнежился сердечно» были изменены на «Евгений тут вздохнул сердечно», и соответственно этому следующий за мечтами о семейном счастье стих
Так он мечтал. Но грустно было
(противопоставление приятному, разнеженному состоянию) изменен на
Так он мечтал. И грустно было, —
стих, связанный с грустным «вздохнул». Подобные изменения показывают, насколько прав был Щеголев, придавая важное значение исключению из текста мечтаний Евгения и видя в их изъятии признак недоработанности ПК. Вместе с тем замена оборота «Но грустно было» оборотом «И грустно было» показывает ту глубокую и тончайшую смысловую и стилистическую продуманность каждой, даже на вид мелкой поправки, которая характерна для всей работы Пушкина над его последней и самой совершенной поэмой.
Чутье текстолога не обмануло Щеголева: мечты Евгения были зачеркнуты Пушкиным в ПК лишь для того, чтобы заменить зачеркнутый текст новым, более сжатым. В 1947 г. в Библиотеке им. В. И. Ленина был обнаружен листок (теперь ПД 968), ускользнувший ранее от внимания пушкинистов, на котором поэт написал новый, переработанный текст. [510]Этот текст, обследованный и описанный С. М. Бонди, еще удалось ввести в академическое издание. [511]Но известное затруднение заключается в том, что этот автограф, содержащий всего 13 стихов, перерабатывался Пушкиным, и переработка не была закончена, почему он дает две редакции, из которых редактору «Медного Всадника» надо выбирать одну, причем каждая из них по своей незаконченности требует в большей или меньшей степени применения редакторской конъектуры. Приведем ту и другую редакции, имея при этом в виду, что первая из них напечатана С. М. Бонди в «большом» академическом издании, а вторая введена Б. В. Томашевским в редактированные им «малые» академические издания в 10 томах (1949, 1956-1957, 1963) и в некоторые другие. Такое, в сущности ненормальное, положение продолжается до сих пор. [512]
Даем текст, вошедший в «большое» академическое издание (V, 139), отмечая отличия от него в публикациях Б. В. Томашевского подстрочными сносками. [513]
143 (47)Евгений тут вздохнул сердечно
И размечтался как поэт:
Жениться? Ну… Зачем же нет? [514]
Оно и тяжело, конечно,
Но что ж, он молод и здоров. [515]
Трудиться день и ночь готов;
Он кое-как себе устроит [516]
150 (54)Приют смиренный и простой
И в нем Парашу успокоит [517]
«Пройдет, быть может, год другой – [518]
Местечко получу, Параше
Препоручу хозяйство наше [519]
И воспитание ребят…
И станем жить – и так до гроба
Рука с рукой дойдем мы оба
158 (62)И внуки нас похоронят…»
На этом заканчивается или, вернее, обрывается история публикации «Медного Всадника» – история, длящаяся около 140 лет (если считать от попытки самого Пушкина подготовить издание поэмы в 1836 г.), история сложная и мучительная, не законченная по существу до сих пор. Не закончена она и потому, что не решен вопрос о тексте «мечтаний» Евгения, заполнившем после находки 1947 г. пустое место, смущавшее редакторов поэмы в течение многих десятилетий, и потому, что интересная и смелая попытка П. Е. Щеголева – отказаться от ПК как основного источника текста поэмы и вернуться к тексту 1833 г., т. е. к ЦА, хотя и оказалась необоснованной и была оставлена после смерти ее инициатора, но находит и сейчас сторонников, видящих в «редакции» 1833 г. (ЦА) больше цельности и законченности, чем в «редакции» 1836 г. (ПК). Однако помещенная в нашем издании (с. 83-85) таблица разночтений этих двух текстов показывает, что они не представляют собою двух «редакций», отражающихся на плане, композиции, идейно-художественной системе поэмы, но дают лишь частные различия в пределах одной и той же композиции и системы. И выражением последней авторской воли является текст, выработанный в 1836 г. и отменяющий в ряде мест текст 1833 г.
7
Во всем творческом наследии Пушкина, будь то произведения в стихах или в прозе, лирические, повествовательные или драматические, нет другого, которое за сто сорок лет последующего изучения вызвало бы такую обширную литературу и такое множество разноречивых, часто противоположных мнений и толкований, как «Медный Всадник».
В этом обилии и этой разноречивости отзывов о поэме сказываются и сложность ее композиции при внешней простоте, и глубина историко-философской проблематики, и ощущаемая всеми, кто писал о ней, острота и своеобразная злободневность «Петербургской повести», по-своему воспринимаемая каждой исторической эпохой.
Сложность и кажущаяся противоречивость композиции поэмы заключаются в чередовании и сплетении двух основных тем: «петровской» темы, посвященной «мощному властелину судьбы», создателю «юного града», и темы «ничтожного героя» – Евгения, с его личной драмой, порожденной слепой стихией. Эти две темы чередуются и сплетаются, объединенные образом города, ставшего символом новой России, ее величия и ее страданий. Образ Петербурга проходит через всю поэму – от первых строк Вступления, где «на берегу пустынных волн» думает о великом будущем городе его основатель, до заключительных строк об «острове малом» на взморье, где находит свою могилу «ничтожный герой», освобожденный смертью от страданий.
Отсюда вытекает несоответствие – опять-таки преднамеренное – между случайным и частным характером сюжета и глубиной и сложностью вложенной в поэму историко-философской и историко-социальной проблематики.
Наконец, представляется немотивированным сочетание подчеркнуто сниженной реалистичности повествования о личности и жизни «ничтожного героя», о наводнении и о дальнейшей судьбе Евгения с фантастическим, призрачным характером кульминационной сцены поэмы – между Евгением и «кумиром», «всадником медным», – сцены, выходящей за пределы реальной жизни и позволяющей (если не заставляющей) видеть в поэме двуплановое произведение, содержащее некую тайну, облеченную в своего рода мифологические формы.
На последнем представлении следует остановиться.
Петербург – «Северная Пальмира», великолепный, пышный и вместе бедный город, созданный «волей роковой» и гениальной мыслью одного человека, возникший в сказочно быстрое время «из тьмы лесов, из топи блат», – этот город едва ли не с первых дней его необыкновенной жизни вызывал представление о чем-то сверхъестественном, находящемся на грани между миром реальным и миром фантастическим. Петербург с самого начала вызывал к себе двойственное отношение. Приверженцы царя-реформатора видели в «юном граде» воплощение новой России, преображенной, по выражению Н. М. Языкова, «железной волею Петра», и в этом находили оправдание тем огромным жертвам, которые принес русский народ ради его создания. Сторонники же сохранения московской старины, старообрядцы, крестьяне, согнанные на постройку города и своими костями устилавшие болота, на которых он возводился, видели в новом городе создание дьявола, а в его основателе – воплощение антихриста, врага и губителя человеческого рода. Подобное двойственное отношение к Петру и его творению оставалось жить и позднее, меняя свои формы, но сохраняя свои главные черты.
Отсюда, естественно, происходит тот легендарный, мифологический фон, который окружает и сопровождает всю историю Петербурга, начиная с античного образа орла, взвившегося, по официозной легенде, над головою Петра в тот момент, когда он 16 мая 1703 г. закладывал первый камень будущего города. [520]
Подобные же легенды сопровождают дальнейшую историю Петербурга в XVIII – начале XIX в. Одна из них, наиболее интересная и, возможно, имеющая отношение к созданию «Медного Всадника», приведена П. И. Бартеневым в статье о сооружении памятника Петру Великому, написанной на материале переписки Фальконе с Екатериной II. Издатель «Русского архива» так излагает это предание: «Мысль о „Медном Всаднике“ пришла Пушкину вследствие следующего рассказа, который был ему передан известным графом М. Ю. Виельгорским. В 1812 году, когда опасность вторжения грозила и Петербургу, государь Александр Павлович предполагал увезти статую Петра Великого, и на этот предмет статс-секретарю Молчанову было отпущено несколько тысяч р<ублей>. В приемную к кн. А. Н. Голицыну, масону и духовидцу, повадился ходить какой-то майор Батурин. Он добился свидания с князем (другом царевым) и передал ему, что его, Батурина, преследует один и тот же сон. Он видит себя на Сенатской площади. Лик Петра поворачивается. Всадник съезжает со скалы своей и направляется по петербургским улицам к Каменному острову, где жил тогда Александр Павлович. Батурин, влекомый какою-то чудною силою, несется за ним и слышит топот меди по мостовой. Всадник въезжает на двор Каменно-островского дворца, из которого выходит к нему навстречу задумчивый и озабоченный государь. „Молодой человек, до чего довел ты мою Россию?“, – говорит ему Петр Великий. – „Но покамест я на месте, моему городу нечего опасаться!». Затем всадник поворачивает назад, и снова раздается тяжело-звонкое скаканье. Пораженный рассказом Батурина, князь Голицын, сам сновидец, передает сновиденье государю, и в то время как многие государственные сокровища и учреждения перевозятся во внутрь России, статуя Петра Великого оставлена в покое». [521]Здесь, таким образом, Петр Великий предстает еще раз как бог-покровитель созданного им города, на античный, греко-римский лад.
Легенды о Петербурге, его основателе и его судьбе, связанные отчасти с впечатлениями от наводнения 1824 г., живут многие годы и десятилетия, принимая разные формы.
Из приведенных выше журнальных и иных сообщений о наводнении 7 ноября 1824 г. видно, что бедствие, постигшее город, вызвало сильно преувеличенные рассказы в Москве и по всей стране и тревогу в самом Петербурге при мысли о возможном повторении наводнения, против которого город по существу беззащитен, и «нежелательные» толки о том, правильно ли поступил Петр, создавая на Неве, «под морем», новую столицу, и не следует ли перенести ее обратно в Москву. Для противодействия подобным толкам статьи Булгарина – Берха, Аллера и других включают сведения о наводнениях, случавшихся в Петербурге с его основания (и даже до него – вообще в этой местности с 1691 г.) и все же не мешавших его развитию, о наводнениях, бывающих в других странах Европы, о разрушениях, причиняемых извержениями вулканов и иными стихийными явлениями. Все это делается с целью прекратить толки, показать правоту основателя города и неколебимость его создания.
Смерть Александра I почти ровно через год после наводнения, 19 ноября 1825 г., подала повод к новым сопоставлениям с наводнением 10 сентября 1777 г., случившимся за три месяца до его рождения.
В годы, последовавшие за наводнением, возникло немало произведений, частью безымянных и далеко не полностью дошедших до нас, где событие 1824 г. послужило отправной точкой для «предсказаний» грядущей гибели Петербурга – символа и оплота русского самодержавия. Значительный подбор документальных и «фольклорных» материалов о наводнении дан в статье Г. М. Ленобля «К истории создания „Медного Всадника“». [522]Среди перечисленных здесь произведений можно назвать поэму В. С. Печерина «Торжество смерти», написанную в конце 1833 г., т. е. примерно одновременно с «Петербургской повестью» Пушкина; стихотворение неизвестного автора (которым считался при первой публикации Лермонтов, а позднее – декабрист А. И. Одоевский), дошедшее до нас не полностью, где наводнение, угрожающее царскому дворцу, представлено как возмездие за разгром и казнь декабристов; несохранившиеся стихотворения А. И. Одоевского, известные лишь по неблагожелательному упоминанию другого бывшего декабриста – Д. И. Завалишина; опубликованное Н. П. Огаревым в его известном сборнике «потаенной русской литературы» «Лютня» стихотворение «Подводный город», автор которого неизвестен; [523]в нем говорится о городе, некогда богатом и знатном, но потопленном морскими волнами в наказание за то, что «себе ковал он злато, а железо для других», и теперь виден из воды лишь «шпиль от колокольни», т. е. от Петропавловского собора. Имя же городу
было… да чужое!
Позабытое давно!
Оттого, что не родное
И непамятно оно! „фольклор“ <…> должен был иметь весьма широкое хождение <…> Мы вправе были бы заключить, что Пушкин знал этот „фольклор“, даже если бы об этом не свидетельствовали некоторые детали черновиков „Медного Всадника“» (Ленобль Г. М. К истории создания «Медного Всадника», с. 384-385). Какие «детали черновиков» имеет в виду Г. М. Ленобль – к сожалению, неясно; мы, со своей стороны, не могли бы их указать (анекдоты о В. В. Толстом, о часовом у сада и проч. сюда не относятся). Но несомненно, что на общую концепцию поэмы и в особенности на сцепу столкновения Евгения с памятником (стихи 390-455) образовавшийся вокруг наводнения «фольклор» фантастического содержания оказал существенное влияние.">[524]
К собранным Г. М. Леноблем материалам следует присоединить одно из наиболее замечательных отражений в русской революционно-демократической поэзии образа наводнения, сокрушающего власть самодержцев, воплощенную в двух памятниках – Петра I и Николая I. Это – широко известное стихотворение Н. П. Огарева «Памяти Рылеева», последняя строфа которого читается:
Взойдет гроза на небосклоне,
И волны на берег с утра
Нахлынут с бешенством погони,
И слягут бронзовые кони
И Николая и Петра.
Но образ смерти благородной
Не смоет грозная вода,
И будет подвиг твой свободный
Святыней в памяти народной
На все грядущие года. [525]
Наряду с произведениями, в которых наводнение показывалось как предзнаменование грядущих политических потрясений и падения самодержавия, было немало и таких, где оно воспринималось как доказательство неколебимости города, охраняемого своим гением-покровителем – Медным Всадником, в котором воплотились воля и «дух» Петра Великого; как свидетельство бессилия морской стихии и устойчивости города перед ее натиском (что, однако, не исключало возможности в будущем новых «грозных приступов» «финских волн», колеблющих «гранит подножия Петра»).
Воззрение на Петербург как на город, сочетающий в себе самую строгую, даже прозаическую реальность с элементами мифа, символики, своего рода «призрачности», проходит через всю русскую литературу с середины XVIII по начало XX в. – от Сумарокова и Державина через Пушкина, Гоголя, Достоевского до Андрея Белого («Петербург») и Александра Блока («Двенадцать»). Истолкованию этой сложной двойственной сущности города в его прошлом и настоящем посвящены труды некоторых русских и западных исследователей, – труды, самые заглавия которых в этом смысле характерны. Таковы книги Н. П. Анциферова «Душа Петербурга» (Пб., 1922), представляющая обстоятельный обзор и тонкий анализ последовательных отражений «петербургской» темы в русской литературе от Сумарокова и Ломоносова до Блока и Анны Ахматовой, и «Быль и миф Петербурга» (Пг., 1924) – подробно развернутая программа экскурсии по Петербургу-Ленинграду, где в центре внимания автора Медный Всадник, памятник основателю города, и посвященная ему поэма Пушкина, в их исторической реальности и как предметы творчества.
Понятия «мифа», «мифологизма», «символики» оказываются прочно прикрепленными к Петербургу, к его создателю, к его истории и к самой поэме Пушкина, посвященной «строителю чудотворному», его борьбе с восставшей стихией и восстанию против него «ничтожного героя».
В 1926 г. Д. Д. Благой печатает статью о «Медном Всаднике» под заглавием «Миф Пушкина о декабристах». [526]Через несколько лет, в 1933 г., Иннокентий Оксенов опубликовал обзор современных истолкований поэмы Пушкина, озаглавленный «О символике „Медного Всадника“». [527]
В 1960 г. известный итальянский ученый-славист Этторе Ло Гатто издал свое большое исследование – «Миф Петербурга. История, легенда, поэзия». [528]В нем прослеживается история философско-политических теорий в России, от выработанной в XV-XVI вв. московскими книжниками концепции «Москва – третий Рим» до сменившей ее в начале XVIII в. другой теории – «Петербург – окно в Европу», возникновение которой определяется петровскими преобразованиями, повлиявшими на весь дальнейший ход русской истории и русской культуры и нашедшими самое полное выражение в основании Петербурга. Различные модификации тезиса «Петербург – окно в Европу» рассматриваются автором в их отражениях в русской литературе и русской истории, в легендах и своеобразном мифотворчестве, от начала XVIII в. до преддверия Октябрьской революции. Отдельные главы книги посвящены рассмотрению таких вопросов, как «Царь-антихрист и строитель-чудотворец» (Петр I); «Окно в Европу» и «Северная Пальмира» (основание и строительство Петербурга до начала XIX в.); «Медный Всадник» Пушкина и «Невский проспект» Гоголя; Москва и Петербург; физиология Петербурга (Некрасов); «Белые ночи» Достоевского; видоизменения мифа об «окне, открытом в Европу».
Такие труды, отправляющиеся в большей или меньшей степени от «Медного Всадника», как книги Н. П. Анциферова и Этторе Ло Гатто, закономерно приводят нас к историко-литературной проблеме воздействия пушкинской поэмы на последующую русскую литературу, от 40-х годов XIX в. до нашей современности. Развернутого исследования этой проблемы до сих пор, к сожалению, не существует, а труды, указанные выше, его не заменяют. Нет возможности дать подобное исследование и в настоящей работе. Но еще в 1941 г. основные элементы и направление такого исследования были определены Б. В. Томашевским, [529]указавшим, что «„Медный Всадник“ вызвал в русской поэзии явное тяготение к мотивам большого города в противоположность старой традиции, считавшей свойственной поэзии только сельскую природу <…> Это течение в поэзии, впоследствии окрещенное неуклюжим термином „урбанизм“, все сильнее и сильнее получало свое выражение. В начале XX в. „урбанистическая поэзия“ была уже господствующей формой <…> Помимо городских тем вообще, Пушкин своей поэмой ввел в русскую литературу тему Петербурга. Конечно, о Петербурге писали и до Пушкина <…> Но узаконил эту тему, конечно, Пушкин. Равно узаконил он тему Медного Всадника». [530]По словам Томашевского, Пушкин «утвердил за художественными образами Петербурга и Медного Всадника новое синтетическое значение»: «Образы „Медного Всадника“ были неразрывно связаны с своеобразной философией истории, характерной для первой половины XIX в.» (речь идет о «проблемах исторического значения петровских реформ»). [531]
«Переклички с поэмой Пушкина мы встречаем на протяжении всего XIX в.», – говорит далее Б. В. Томашевский, считая, что, «конечно, и в прозе тема Петербурга подготовлена Пушкиным». Как характерные отражения поэмы Пушкина в русской прозе и поэзии исследователь называет «Белые ночи» и «Преступление и наказание» Достоевского, поэмы Огарева «Юмор» и Некрасова «Несчастные», стихотворение Я. П. Полонского «Миазм» (1862), стихотворения А. А. Блока, написанные в преддверии и во время первой русской революции («Он спит, пока закат румян…» – 1904, «Вися над городом всемирным…» – 1905), а также обращение к «неуловимому» городу во второй главе поэмы «Возмездие», стихотворение Инн. Анненского «Петербург» и, наконец, роман Андрея Белого «Петербург», в котором «Медный Всадник» отразился «более всего» и где «эпизоды пушкинской поэмы приобретают характер лейтмотивов». Это краткое перечисление показывает, что в начале XX в. поэма Пушкина находила наиболее частые отражения в творчестве символистов, поэтов и прозаиков, но, как отмечает Томашевский, «образы, взятые у Пушкина, не адекватны тому, чем они были у самого Пушкина». [532]
Наблюдения, приведенные в статье Б. В. Томашевского, намечают пути исследования проблемы, но, конечно, дают далеко не полную картину воздействия «Медного Всадника» на дальнейшее развитие русской литературы. В дополнение можно было бы напомнить такие явления, как «петербургские» повести Гоголя «Невский проспект», «Нос» и в особенности «Шинель»; как повести Достоевского, написанные в 1846-1848 гг., т. е. до его ссылки (не говоря о позднейших, названных выше), – «Двойник» (носящая даже подзаголовок, как будто указывающий на близость к «Медному Всаднику» – «Петербургская поэма»), «Хозяйка» и проч.; как двадцать вторая глава повести Тургенева «Призраки» (1867), и др.
Что касается поэтов позднейшего времени – начала XX в., то характерное воздействие «Медного Всадника» как высшего образца урбанистической поэзии, связанной с петербургской темой, можно видеть в поэзии Блока «Двенадцать» и в особенности у Анны Ахматовой, творчество которой в этом отношении проходит «под знаком» пушкинской «Петербургской повести», начиная с цикла «Стихов о Петербурге» (1913 г.) и кончая многими стихами последних лет.
Интересные, хотя и не вполне систематизированные наблюдения, касающиеся отражений и воздействий «Петербургской повести» Пушкина в литературе (главным образом в поэзии) начала XX в. и Советской эпохи, содержатся в статье А. Н. Лурье «Поэма А. С. Пушкина „Медный Всадник“ и советская поэзия 20-х годов». [533]Материал, охватываемый статьей, выходит за пределы этого заглавия, относясь не только к 20-м годам, но и к предреволюционному периоду (Мережковский, Брюсов, Ин. Анненский, Блок, П. Ф. Якубович, Ахматова) и к позднейшим годам (Маяковский, Есенин, Светлов, Асеев, Пастернак, Антокольский, Волошин, Сельвинский, Луговской, «поздняя» Ахматова и др.); кроме того, наряду с поэзией автор рассматривает также прозу Ю. Тынянова и ранние обращения к теме Петра у А. Н. Толстого.








