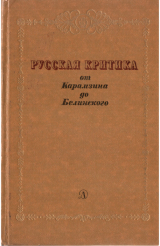
Текст книги "Русская критика от Карамзина до Белинского"
Автор книги: Александр Пушкин
Соавторы: Николай Гоголь,Александр Грибоедов,Николай Карамзин,Василий Жуковский,Орест Сомов,Николай Полевой,Александр Бестужев-Марлинский,Петр Вяземский,Дмитрий Веневитинов,Петр Плетнев
Жанры:
Критика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 29 страниц)
К. Ф. РЫЛЕЕВ
1795—1826
О личности и поэтическом творчестве Кондратия Федоровича Рылеева, крупнейшего из поэтов-декабристов, одного из руководителей тайного Северного общества и восстания 14 декабря 1825 года на Сенатской площади Петербурга, вы прочитаете ниже в нашем сборнике, в статье Н. А. Бестужева «Воспоминание о Рылееве».
Рылеев был и видным критиком. Лучшая из его статей – «Несколько мыслей о поэзии», напечатанная в журнале «Сын отечества», 1825, № 22. Взгляд Рылеева на литературное развитие очень самобытен: по его убеждению, ни классицизма, ни романтизма в чистом виде не существовало и не существует, но есть лишь различные исторические, зависящие от «духа времени» формы поэзии. Рылеев не соглашался с распространенным взглядом, что романтизм восторжествовал над классицизмом. Но подобно другим декабристам, он бичевал подражательность, доказывал необходимость национально-самобытной литературы, связанной с борьбой за свободу.
Несколько мыслей о поэзии
(Отрывок из письма к NN.)
Спор о романтической и классической поэзиях давно уже занимает всю просвещенную Европу, а недавно начался и у нас. Жар, с которым спор сей продолжается, не только от времени не простывает, но еще более и более увеличивается. Несмотря, однако ж, на это, ни романтики, ни классики не могут похвалиться победою. Причины сему, мне кажется, те, что обе стороны спорят, как обыкновенно случается, более о словах, нежели о существе предмета, придают слишком много важности формам, и что на самом деле нет ни классической, ни романтической поэзии, а была, есть и будет одна истинная самобытная поэзия, которой правила всегда были и будут одни и те же.
Приступим к делу.
В средние века, когда заря просвещения уже начала заниматься в Европе, некоторые ученые люди избранных ими авторов для чтения в классах и образца ученикам назвали классическими, то есть образцовыми. Таким образом Гомер, Софокл*, Вергилий*, Гораций* и другие древние поэты наименованы поэтами классическими. Учители и ученики от души верили, что, только слепо подражая древним и в формах, и в духе поэзии их, можно достигнуть до той высоты, до которой они достигли, и сие-то несчастное предубеждение, сделавшееся общим, было причиною ничтожности произведений большей части новейших поэтов. Образцовые творения древних, долженствовавшие служить только поощрением для поэтов нашего времени, заменяли у них самые идеалы поэзии. Подражатели никогда не могли сравниться с образцами, и, кроме того, они сами лишали себя сил своих и оригинальности, а если и производили что-либо превосходное, то, так сказать, случайно и всегда почти только тогда, когда предметы творений их взяты были из древней истории и преимущественно из греческой, ибо тут подражание древнему заменяло изучение духа времени, просвещения века, гражданственности и местности страны того события, которое поэт желал представить в своем сочинении... Когда же явилось несколько таких поэтов, которые, следуя внушению своего
гения, не подражая ни духу, ни формам древней поэзии, подарили Европу своими оригинальными произведениями, тогда потребовалось классическую поэзию отличить от новейшей, и немцы назвали сию последнюю поэзиею романтическою, вместо того чтобы назвать просто новою поэзиею. Дант, Тасс*, Шекспир, Ариост*, Кальдерон*, Шиллер*, Гете* – наименованы романтиками. К сему прибавить должно, что самое название романтический взято из того наречия, на котором явились первые оригинальные произведения трубадуров. Сии певцы не подражали и не могли подражать древним, ибо тогда уже от смешения с разными варварскими языками язык греческий был искажен, латинский разветвился, и литература обоих сделалась мертвою для народов Европы. Таким образом поэзиею романтическою назвали поэзию оригинальную, самобытную, а в этом смысле Гомер, Эсхил*, Пиндар*, словом, все лучшие греческие поэты – романтики, равно как и превосходнейшие произведения новейших поэтов, написанные по правилам древних, но предметы коих взяты не из древней истории, суть произведения романтические, хотя ни тех, ни других и не признают таковыми. Из всего вышесказанного не выходит ли, что ни романтической, ни классической поэзии не существует? Истинная поэзия в существе своем всегда была одна и та же, равно как и правила оной. Она различается только по существу и формам, которые в разных веках приданы ей духом времени, степенью просвещения и местностью той страны, где она появлялась. Вообще можно разделить поэзию на древнюю и на новую. Это будет основательнее. Наша поэзия более содержательная, нежели вещественная: вот почему у нас более мыслей, у древних более картин; у нас более общего, у них частностей...
Я сказал выше, что формам поэзии вообще придают слишком много важности. Это также важная причина сбивчивости понятий нашего времени о поэзии вообще. Те, которые почитают себя классиками, требуют слепого подражания древним и утверждают, что всякое отступление от форм их есть непростительная ошибка. Например, три единства в сочинении драматическом у них есть непременный закон, нарушение коего ничем не может быть оправдано. Романтики, напротив, отвергая сие условие, как стесняющее свободу гения, полагают достаточным для драмы единство цели. Романтики в этом случае имеют некоторое основание. Формы древней драмы, точно как формы древних республик, нам не впору. Для Афин, для Спарты и других республик древнего мира чистое народоправление было удобно, ибо в оном все граждане без изъятия могли участвовать. И сия форма правления их не нарочно была выдумана, не насильно введена, а проистекала из природы вещей, была необходимостью того положения, в каком находились тогда гражданские общества. Точно таким же образом три единства греческой драмы в тех творениях, где оные встречаются, не изобретены нарочно древними поэтами, а были естественным последствием существа предметов их творений. Все почти деяния происходили тогда в одном городе или в одном месте; это самое определяло и быстроту, и единство действия. Многолюдность и неизмеримость государств новых, степень просвещения народов, дух времени, словом, все физические и нравственные обстоятельства нового мира определяют и в политике и в поэзии поприще более обширное. В драме три единства уже не должны и не могут быть для нас непременным законом, ибо театром деяний наших служит не один город, а все государство, и по большей части так, что в одном месте бывает начало деяния, в другом продолжение, а в третьем видят конец его. Я не хочу этим сказать, что мы вовсе должны изгнать три единства из драм своих. Когда событие, которое поэт хочет представить в своем творении, без всяких усилий вливается в форму древней драмы, то разумеется, что и три единства не только тогда не лишнее, но иногда даже необходимое условие. Нарочно только не надобно искажать исторического события для соблюдения трех единств, ибо в сем случае всякая вероятность нарушается. В таком быту наших гражданских обществ нам остается полная свобода, смотря по свойству предмета, соблюдать три единства или довольствоваться одним, то есть единством происшествия или цели... Заметим, однако ж, что свобода сия, точно как наша гражданская свобода, налагает на нас обязанности труднейшие тех, которых требовали от древних три единства. Труднее соединить в одно целое разные происшествия так, чтобы они гармонировали в стремлении к цели и составляли совершенную драму, нежели писать драму с соблюдением трех единств, разумеется, с предметами, равномерно благодарными. Много также вредит поэзии суетное желание сделать определение оной, и мне кажется, что те справедливы, которые утверждают, что поэзии вообще не должно определять...
Итак, будем почитать высоко поэзию, а не жрецов ее, оставив бесполезный спор о романтизме и классицизме, будем стараться уничтожить дух рабского подражания и, обратясь к источнику истинной поэзии, употребим все усилия осуществить в своих писаниях идеалы высоких чувств, мыслей и вечных истин, всегда близко к человеку и всегда не довольно ему известных.
Н. А. БЕСТУЖЕВ
1791—1855
Николай Александрович Бестужев – старший брат Александра Бестужева, офицер флота, художник и литератор, видный декабрист. Приговоренный к 20 годам каторги, он не оставил в Сибири литературных занятий, каторга не сломила его.
Очерк «Воспоминание о Рылееве», написанный Бестужевым в начале 1830-х годов в Петровском каземате, предназначался только для чтения в кругу ссыльных, и в нем открыто звучала ненависть к царскому самодержавию. «Воспоминание» ценно не только как убедительный разбор поэзии Рылеева, оно своеобразный литературный памятник, характеризующий настроения и взгляды декабристов, не изменивших своим идеалам после поражения восстания.
Его впервые напечатал Герцен в VII книге «Полярной звезды», альманаха, который он издавал совместно с Огаревым за границей, в Лондоне и Женеве, и который назвал в память декабристского альманаха (1861).
Воспоминание о Рылееве
Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа,—
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной —
Я это чувствую, я знаю...
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благославляю.
«Исповедь Наливайки»
Когда Рылеев писал исповедь Наливайки, у него жил больной брат мой Михаил Бестужев. Однажды он сидел в своей комнате и читал, Рылеев работал в кабинете и оканчивал эти стихи. Дописав, он принес их брату и прочел. Пророческий дух отрывка невольно поразил Михаила.
– Знаешь ли,– сказал он,– какое предсказание написал ты самому себе и нам с тобою. Ты как будто хочешь указать на будущий свой жребий в этих стихах.
– Неужели ты думаешь, что я сомневался хоть минуту в своем назначении? – сказал Рылеев.– Верь мне, что каждый день убеждает меня в необходимости моих действий, в будущей погибели, которою мы должны купить нашу первую попытку для свободы России, и вместе с тем в необходимости примера для пробуждения спящих россиян.
Почти в каждом сочинении Рылеева выливается из его души подобное предвещание. Мысль быть орудием или жертвою начатков свободы наполняла все его существование, составляла единственную цель его жизни. Освобождение отечества или мученичество за свободу для примера будущих поколений были ежеминутным его помышлением; это самоотвержение не было вдохновением одной минуты, подобно решимости древнего Курция* или новейшего Винкельрида*, но постоянно возрастало вместе с любовью к отечеству, которая, наконец, перешла в страсть – в высокое, восторженное чувствование...
Все действия жизни Рылеева ознаменованы были печатью любви к отечеству; она появлялась в разных видах: сперва сыновнею привязанностью к родине, потом негодованием к злоупотреблениям и, наконец, развернулась совершенно в желании ему свободы. В «Думах» его мы видим жаркое желание внушить в других ту же любовь к своей земле, ко всему народному; привязать внимание к деяниям старины, показать, что и Россия богата примерами для подражания, что сии примеры могут равняться с великими образцами древности.
В «Сатире на временщика» открывается все презрение к почестям и власти человека, который прихотям деспота жертвует счастием своих сограждан. В том положении, в каком была и есть Россия, никто еще не достигал столь высокой степени силы и власти, как Аракчеев, не имея другого определенного звания, кроме принятого им титла верного царского слуги; этот приближенный вельможа под личиной скромности, устраняя всякую власть, один, незримый никем, без всякой явной должности, в тайне кабинета, вращал всею тягостью дел государственных, злобная, подозрительная его политика лазутчески вкрадывалась во все отрасли правления.
Не было министерства, звания, дела, которое не зависело бы или оставалось бы неизвестно ему, сему невидимому Протею* – министру, политику, царедворцу; не было места, куда бы не проник его хитрый подсмотр; не было происшествия, которое бы не отозвалось в этом Дионисиевом ухе[19]19
Дионѝсиево ухо – особый свод в тюрьме, позволяющий подслушивать речи заключенных; изобретение сиракузского тирана Дионисия Старшего (IV век до н. э.).
[Закрыть]. Где деспотизм управляет, там утеснение – закон: малые угнетаются средними, средние большими, сии еще высшими; но над теми и другими притеснителями, равно как и над притесненными, была одна гроза: временщик. Одни карались за угнетения, другие за жалобы. Все государство трепетало под железною рукою любимца-правителя. Никто не смел жаловаться: едва возникал малейший ропот – и навечно исчезал в пустынях Сибири или в смрадных склепах крепостей.
В таком положении была Россия, когда Рылеев громко и всенародно вызвал временщика на суд истины; когда назвал его деяния, определил им цену и смело предал проклятию потомства слепую или умышленную покорность вельможи для подавления отечества.
Нельзя представить изумления, ужаса, даже, можно сказать, оцепенения, каким поражены были жители столицы при сих неслыханных звуках правды и укоризны, при сей борьбе младенца с великаном. Все думали, что кары грянут, истребят и дерзновенного поэта и тех, которые внимали ему; но изображение было слишком верно, очень близко, чтобы обиженному вельможе осмелиться узнать себя в сатире.
Он постыдился признаться явно, туча пронеслась мимо; оковы оцепенения пали, мало-помалу расторглись, и глухой шепот одобрения был наградою юного правдивого стихотворца. Это был первый удар, нанесенный Рылеевым самовластию.
Многие не видят нравственных последствий его сатиры, но она научила и показала, что можно говорить истину, не опасаясь; можно судить о действиях власти и вызывать сильных на суд народный.
С этого стихотворения началось политическое поприще Рылеева. Пылкость юношеской души, порывы благородного негодования и меткие удары сатиры, безбоязненно нанесенные такому сопернику, обратили общее внимание.
Уже в России начинали чувствовать тягость деспотизма, видеть бедствия, угнетающие отечество, и помышлять о средствах для введения нового, лучшего порядка вещей.
Тайное общество, составленное из нескольких друзей человечества, существовало, и Рылеев, взысканный общим уважением за свои заслуги перед человечеством, увенчанный заслуженными похвалами за поэтические дарования, с полной доверенностью к его характеру и мнениям был принят в это общество. Здесь порывы его души, болезнь сердца о несчастиях родины и неясные понятия о желании лучшего получили надлежащее направление. Отсюда мы видим уже в нем новый порядок идей, другие действия, иные поступки. Пылкий юноша созрел постоянным и осторожным мужем; раздраженный смельчак переменился в скрытного и предприимчивого заговорщика; дерзновенный поэт – в обдуманного стихотворца, который уже не гремел проклятиями на площадях против эфемерных любимцев, но в сочинениях своих желал направлять умы соотчичей с единственной целью – к благородной свободе народов...
Обратимся к его поэзии: многие находят, что он не поэт и что стихи его принадлежат более к области ума, нежели воображения. У всякого свой образ мыслей, свой образ воззрения на предметы. Я согласен, что стихи Рылеева с механической стороны не могут назваться образцовыми, но чтобы согласиться с последним, должно наперед сказать, что я почитаю поэзиею, и потом дать свое мнение о творениях этого человека.
По-моему, всякий благородный поступок, каждая высокая мысль, каждое нежное ощущение и все, что выходит из обыкновенного ряда наших обыкновенных действий, есть поэзия. Все, что может трогать сердце, наполнять и возвышать душу, есть поэзия. Любовь, гнев, ненависть суть страсти, но и религия, но и любовь к отечеству – также страсти, и ежели стихи заставляют трепетать ту струну нашего сердца, которую сочинитель намеревался тронуть, в таком случае, каков бы ни был наружный вид стихов, они – поэзия. Я пойду далее. Часто случается, что вещи, простые сами по себе, в применении к случаю и обстоятельствам делаются поэтическими; так, например, известная швейцарская ария горных пастухов, не заключающая в себе ничего особенного, музыкального и слышимая ежедневно швейцарами в их родине, не производит на них никакого впечатления, но если тот же швейцар слышит ее вдалеке от своего отечества, тогда она становится для него совершенно поэтическою. Мне случилось быть свидетелем восторга моих соотчичей, когда, однажды, посетив Гибралтар и осматривая исполинские подвиги англичан, пробивших эту поднебесную гору галереями во всю ее высоту, мы под облаками, на отдаленнейшем краю Европы, вдали от родины, вдруг услыхали голос и слова русской песни. Нельзя изъяснить этого чувствования. Теперь обратимся к стихам Рылеева.
Единственная мысль, постоянная его идея была пробудить в душах своих соотечественников чувствования любви к отечеству, зажечь желание свободы. Такое намерение уже само по себе носит отпечаток поэзии, где бы оно ни было приведено в исполнение, но становится совершенно поэтическим, когда, окруженные шпионами деспотизма, посреди рабских похвал, посреди боязливой лести и трусливого подобострастия, посреди целой империи, стенящей под игом тяжкого самоуправства, мы вдруг внимаем голосу поэта, возвещающего нам высокие истины, впервые нами слышимые, но знакомые нашему сердцу. Сама природа влагает в нас понятие о свободе, и это понятие, этот слух сердца так верны, что как бы ни заглушали их, они отзовутся при первом воззвании. В чем же другом заключается поэзия, как не в побуждении отголоска на песни ее в нашем сердце?
Я говорил о мысли, теперь скажу о исполнении. Вообще Рылеев там везде хорош, везде высок, где он говорит от чувства, но вообще описания его слабы, драматическая часть также. Доказательством тому служить может, что многие описания суть подражания, а драма часто взята целиком из других авторов... Достоинство Рылеева состоит в силе чувствований, в жаре душевном...
Когда Рылеев напечатал «Войнаровского» и послал Пушкину экземпляр, прося сказать о нем свое мнение, Пушкин прислал ему назад со сделанными на полях замечаниями и противу стихов, истинно поэтических, истинно прекрасных, как, например, когда после рассказа пленного казака:
Мазепа горько улыбнулся,
Прилег безмолвный на траву
И в плащ широкий завернулся.
Или когда Мазепа говорит племяннику:
Но чувств твоих я не унижу,
Сказав, что родину мою
Я более, чем ты, люблю.
Как должно юному герою,
Любя страну своих отцов,
Женой, детями и собою
Ты ей пожертвовать готов.
Но я – но я, пылая местью,
Ее спасая от оков:
Я жертвовать готов ей честью.
После сих и многих других прекрасных мест, или вовсе не замеченных, или едва отмеченных, мнение Пушкина выражено, тогда как при изображении палача, где Рылеев сказал:
Вот засучил он рукава...
Пушкин вымарал это место и написал на поле: «Продай мне этот стих!»
Новые сочинения, начатые Рылеевым, носили на себе печать зрелейшего таланта. Можно было надеяться, что опытность на литературном поприще, очищенные понятия и большая разборчивость подарили бы нас произведениями совершеннейшими. Жалею, что слабая моя память не может представить ясного тому доказательства из начатков о Мазепе и Хмельницком. Из первого некоторые отрывки напечатаны, другой еще был, так сказать, в пеленах, но ужа рождение его обещало впереди возмужалость-таланта. Во всех публично изданных сочинениях, как-то: «Думах», «Войнаровском», «Гражданском мужестве» и других, цель Рылеева обнаруживается в приноровлении, которое может сделать сам читатель, но его другие сочинения, писанные для ходу в рукописи, слишком явны и сколь ни бездельны кажутся в литературном отношении с первого взгляда (особенно песни, составленные им с Александром Бестужевым на голос народных подблюдных[20]20
Подблюдный – связанный с святочным гаданием.
[Закрыть] припевов), но намерение, с которым писаны, и влияние, ими произведенное в короткое время, слишком значительны. Хотя правительство всеми мерами старалось истребить сии песни, где только могли находить их, но они были сделаны в простонародном духе, были слишком близки его состоянию, чтобы можно было вытеснить их из памяти простолюдинов, которые видели в них верное изображение своего настоящего положения и возможность улучшения в будущем. С другой стороны, одного преследования, без всякого внутреннего достоинства, достаточно было для заманчивости сих легких творений, чтобы образованные люди пожелали сохранить их. Рабство народа, тяжесть притеснения, несчастная солдатская жизнь изображались в них простыми словами, но верными красками.
Удаленным от света нельзя положительно сказать, что они теперь в ходу, но зная людей, зная, что однажды приобретенные ими понятия, подобно дереву, которому садовник, желая сообщить произвольную форму, как ни сгибает сучья, как ни обстригает ветви, но оно следует природному порядку и пускает вверх свои отрасли, кажется, трудно поверить, чтобы этот катехизис[21]21
Катехѝзис – простейшее изложение вероучения.
[Закрыть] простого народа не распространялся более и более. В самый тот день, когда исполнена была над нами сентенция[22]22
Сентéнция – здесь: приговор.
[Закрыть], и нас, морских офицеров, возили для того в Кронштадт, бывший с нами унтер-офицер морской артиллерии сказывал нам наизусть все запрещенные стихи и песни Рылеева, прибавя, что у них нет канонира, который, умея грамоте, не имел бы переписанных этого рода сочинений и особенно песен Рылеева.
Мне пришла теперь на память одна мало известная пиэса, написанная Рылеевым в последнее время для юношества высшего сословия русского, вот она:
Я ль буду в роковое время
Позорить гражданина сан
И подражать тебе, изнеженное племя
Переродившихся славян.
Нет, не способен я в объятьях сладострастья,
В постыдной праздности влачить свой век младой
И изнывать кипящею душой
Под тяжким игом самовластья.
Пусть юноши, не разгадав судьбы,
Постигнуть не хотят предназначенья века
И не готовятся для будущей борьбы
За угнетенную свободу человека.
Пусть с хладнокровием бросают хладный взор
На бедствия страдающей отчизны
И не читают в них грядущий свой позор
И справедливые потомков укоризны.
Они раскаются, когда народ, восстав,
Застанет их в объятьях праздной неги
И, в бурном мятеже ища свободных прав,
В них не найдет ни Брута*, ни Риэги*.
В этих стихах лучше всего изображаются все достоинства и недостатки поэзии Рылеева. Со всем тем кто не скажет, что это стихотворение может стать на ряду с лучшими ирландскими мелодиями Мура?..*








