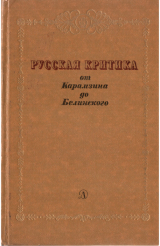
Текст книги "Русская критика от Карамзина до Белинского"
Автор книги: Александр Пушкин
Соавторы: Николай Гоголь,Александр Грибоедов,Николай Карамзин,Василий Жуковский,Орест Сомов,Николай Полевой,Александр Бестужев-Марлинский,Петр Вяземский,Дмитрий Веневитинов,Петр Плетнев
Жанры:
Критика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 29 страниц)
Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души»
Мы нисколько не берем на себя важного труда отдать отчет в этом новом великом произведении Гоголя, уже ставшего высоко предыдущими созданиями; мы считаем нужным сказать несколько слов, чтобы указать на точку зрения, с какой, нам кажется, надобно смотреть на его поэму.
Многим, если почти не всякому, должна показаться странною его поэма; явление ее так важно, так глубоко и вместе так ново-неожиданно, что она не может быть доступною с первого раза. Эстетическое чувство давно уже не испытывало такого рода впечатления, мир искусства давно не видал такого создания, и недоумение должно было быть у многих, если не у всех, первым, хотя и минутным, ощущением: мы говорим о людях, более или менее одаренных чувством изящного.
Так глубоко значение, являющееся нам в «Мертвых душах» Гоголя! Пред нами возникает новый характер создания, является оправдание целой сферы поэзии, сферы, давно унижаемой; древний эпос восстает пред нами. Объяснимся.
Древний эпос, основанный на глубоком простом созерцании, обнимал собою целый определенный мир во всей неразрывной связи его явлений; и в нем, при этом созерцании все обхватывающем, столь зорком и все видящем, представляются все образы природы и человека, заключенные в созерцаемом мире, и, соединенные чудно, глубоко и истинно, шумят волны, несется корабль, враждуют и действуют люди; ни одно явление не выпадает и всякое занимает свое место, на все устремлен художнический, ровный и спокойный, бесстрастный взор, переносящий в область искусства всякий предмет с его правами и, чудным творчеством, переносящий его туда, каждый, с полною тайною его жизни: будь это человек великий, или море, или шум дождя, бьющего по листьям. Всемирно-исторический интерес, великое событие, эпоха становится содержанием эпоса; единство духа – та внутренняя связь, которая связует все его явления. (Мы говорим здесь про этот элемент эпоса, про необходимый объективный его характер, не входя подробно в разбор его; дальнейшему развитию не противоречат слова наши.) Этот древний эпос, перенесенный из Греции, на Запад, мелел постепенно... Все более и более выдвигалось происшествие, уже мелкое и мелеющее с каждым шагом, и, наконец, сосредоточило на себе все внимание; весь интерес устремился на происшествие, на анекдот, который становился хитрее, замысловатее, занимал любопытство, заменившее эстетическое наслаждение; так снизошел эпос до романов и, наконец, до крайней степени своего унижения, до французской повести.– Мы потеряли, мы забыли эпическое наслаждение; наш интерес сделался интересом интриги, завязки: чем кончится, как объяснится такая-то запутанность, что из этого выйдет? Загадка, шарада стала, наконец, нашим интересом, содержанием эпической сферы, повестей и романов, унизивших и унижающих, за исключением светлых мест, древний эпический характер.
И вдруг среди этого времени возникает древний эпос со своею глубиною и простым величием – является поэма Гоголя. Тот же глубокопроникающий и всевидящий эпический взор, то же всеобъемлющее эпическое созерцание. Как понятно, что мы, избалованные в нашем эстетическом чувстве в продолжение веков, мы с недоумением, не понимая, смотрим сначала на это явление; мы ищем: в чем же дело, перебираем листы, желая видеть анекдот, спешим добраться до нити завязки романа, увидеть уже знакомого незнакомца, таинственную, часто понятную загадку, думаем, нет ли здесь, в этом большом сочинении, какой-нибудь интриги помудренее; но на это на все молчит его поэма; она представляет вам целую сферу жизни, целый мир, где опять, как у Гомера, свободно шумят и блещут воды, всходит солнце, красуется вся природа и живет человек,– мир, являющий нам глубокое целое, глубокое, внутри лежащее содержание общей жизни, связующей единым духом все свои явления. Но нам не того надо: нам нужно внешнего содержания, анекдота, шарады,– и дичится давно избалованное эстетическое чувство, как ребенок, которого сажают за дело. В поэме Гоголя является нам тот древний, Гомеровский эпос; в ней возникает вновь его важный характер, его достоинство и широко-объемлющий размер. Мы знаем, как дико зазвучат во многих ушах имена Гомера и Гоголя, поставленные рядом; но пусть принимают, как хотят, сказанное нами теперь твердым голосом; впрочем, мы хотим предупредить здесь одно недоразуменее: только неблагонамеренные люди могут сказать, что мы «Мертвые души» называем «Илиадой»; мы не то говорим: мы видим разницу в содержании поэм; в «Илиаде» является Греция со своим миром, со своею эпохою и, следовательно, содержание само уже кладет здесь разницу[82]82
Кто знает, впрочем, как раскроется содержание «Мертвых душ». (Примеч. К. С. Аксакова.)
[Закрыть]; конечно, «Илиада» именно, эпос, так исключительно некогда обнявший все, не может повториться; но эпическое созерцание, это говорим мы прямо, эпическое созерцание Гоголя – древнее, истинное, то же, какое и у Гомера; и только у одного Гоголя видим мы это содержание, только он обладает им, только с Гоголем, у него, из-под его творческой руки, восстает, наконец, древний, истинный эпос, надолго оставлявший мир,– самобытный, полный вечно свежей, спокойной жизни, без всякого излишества. Чудное, чудное явление! К новому художественному наслаждению призывает оно нас, новое глубокое чувство изящного будит оно в нас, и невольно открывается впереди прекрасная даль...
Некоторым может показаться странным, что лица у Гоголя сменяются без особенной причины; это им скучно; но основание упрека лежит опять в избалованности эстетического чувства, у кого оно есть. Именно эпическое созерцание допускает это спокойное появление одного лица за другим без внешней связи, тогда как один мир объемлет их, связуя их глубоко и неразрывно единством внутренним. Конечно, мы понимаем, что интрига со всею путаницей менее заставляет двигнуться всем внутренним силам человека, менее, несравненно менее глубоко заставляет его, если только он может почувствовать, принять впечатление; интрига, анекдот занимают любопытство и до такой степени унизили эпос в романах и повестях, что не нужно эстетического чувства, чтобы понимать их, интересоваться ими: это может всякий любопытный недурак; а охотнее человек принимается за то, что легче, что не требует большого напряжения внутренних его сил. Какая же интрига, между тем, какая завязка в «Илиаде»? Происшествие все в двух словах и открыто; какая завязка, интрига в божьем мире, полном жизни и единства? В поэме Гоголя явления вдут одни за другими, спокойно сменяя друг друга, объемлемые великим эпическим созерцанием, открывающим целый мир, стройно предстающий с своим внутренним содержанием и единством, с своею тайною жизни.– Одним словом, как мы уже сказали и повторяем: древний, важный эпос является в своем величавом течении...
Какой смысл получает теперь, после всего нами сказанного, название поэмы, стоящее в заглавии книги! Да, это поэма, и это название вам доказывает, что автор понимал, что производил; понимал всю великость и важность своего дела.
Если сказать несколько слов о самом произведении, то первый вопрос, который нам бы сделали, будет: какое содержание? Мы сказали, что здесь нечего искать содержания романов и повестей; это поэма, и, разумеется, в ней лежит содержание поэмы. Итак, нас могут спросить, что же в ней заключается, что, какой мир объемлет собой поэма? – Хотя это только первая часть, хотя это еще начало реки, дальнейшее течение которой, бог знает, куда приведет нас и какие явления представит,– но мы, по крайней мере, можем, имеем даже право думать, что в этой поэме обхватывается широко Русь, и уж не тайна ли русской жизни лежит, заключенная в ней, не выговорится ли она здесь художественно? Не входя подробно в раскрытие первой части, в которой во всей, разумеется, лежит одно содержание, мы можем указать, по крайней мере, на ее окончание, так чудно, так естественно вытекающее. Чичиков едет в бричке, на тройке; тройка понеслась шибко, и кто бы ни был Чичиков, хоть он и плутоватый человек, и хоть многие и совершенно будут против него, но он был русский, он любил скорую езду,– и здесь тотчас это общее народное чувство, возникнув, связало его с целым народом, скрыло его, так сказать; здесь Чичиков, тоже русский, исчезает, поглощается, сливаясь с народом в этом общем всему ему чувстве. Пыль от дороги поднялась и скрыла его; не видать, кто скачет,– видна одна несущаяся тройка. И когда здесь, в конце первой части, коснулся Гоголь общего субстанциального чувства русского, то вся сущность (субстанция) русского народа, тронутая им, поднялась колоссально, сохраняя свою связь с образом, ее возбудившим. Здесь проникает наружу и видится Русь, лежащая, думаем мы, тайным содержанием всей его поэмы. И какие эти строки, что дышит в них! и как, несмотря на мелочность предыдущих лиц и отношений на Руси,– как могущественно выразилось то, что лежит в глубине, то сильное, субстанциальное, вечное, неисключаемое нисколько предыдущим. Это дивное окончание, повершающее первую часть, так глубоко связанное со всем предыдущим и которое многим покажется противоречием,– каким чудным звуком наполняет оно грудь, как глубоко возбуждаются все силы жизни, которую чувствуешь в себе разлитою вдохновенно по всему существу.
Указывать ли на места? Но без полного созерцания – это значит вырывать их. Все, от начала до конца, полно одной неослабной, неустающей, живой жизни, той жизни, которою живет предмет, перенесенный весь и свободно без малейшей утраты в область искусства; жизнь всюду, в каждой строке, и потому медленно надо читать Гоголя; содержание предлагается в каждом слове, каждая глава много, много наполнит человека, и изящное его чувство много, много насладится; нечего бояться потерять из виду внешнюю связь происшествия: здесь нечего сшивать в памяти, как бы ниткою, обстоятельства, как мы делаем это во многих повестях и романах, где часто разыгрываем роль судей, посланных на следствие; но здесь не то, здесь нечего бояться за память, нечего бояться потерять единство: оно не внешнее, оно всегда тут; связует не наружно, но внутренно все предметы между собою...
Общий характер лиц Гоголя тот, что ни одно из них не имеет ни тени односторонности, ни тени отвлеченности, и какой бы характер в нем ни высказывался, это всегда полное, живое лицо, а не отвлеченное качество (как бывает у других, так что над одним напиши: скупость, над другим: вероломство, над третьим: верность и т. д.); нет, все стороны, все движения души, какие могут быть у какого бы то ни было лица, все не пропущены его взором, видящим полноту жизни; он не лишает лицо, отмеченное мелкостью, низостью, ни одного человеческого движения; все воображены в полноте жизни; на какой бы низкой степени ни стояло лицо у Гоголя, вы всегда признаете в нем человека, своего брата, созданного по образу и подобию божию. Это видишь во всех его сочинениях. Вспомним «Ивана Федоровича Шпоньку»: человек, кажется, пустой в высшей степени, дурачок, большею частию лежащий на кровати, скинувши мундир; вспомним, как он, приехавши в свою деревню, выехал на сенокос: на него действует природа, он соединен с нею, тут он чувствует, но чувство выказалось в нем столько, сколько должно и могло выказаться. Говорить ли о «Старосветских помещиках», в которых столько глубоко человеческое значение открыл взор Гоголя, там, где другие увидали бы только пошлость и животность; он открыл и проложил путь сочувствию человеческому и к этим людям и к этой жизни. В «Мертвых душах» видим то же. Например, Манилов, при всей своей пустоте и приторной сладости, имеющий свою ограниченную, маленькую жизнь, но все же жизнь,– и без всякой досады, без всякого смеха, даже с участием смотришь, как он стоит на крыльце, куря свою трубку, а в голове его и бог знает что воображается, и это тянется до самого вечера. Или Плюшкин, скупец, но за которым лежат иначе проведенные годы, который естественно и необходимо развился до своей скупости; вспомните то место, когда прежняя жизнь проснулась в нем, тронутая воспоминанием, и на его старом, безжизненном лице мелькнуло выражение чувства. Одним словом: везде у Гоголя такое совершенное отсутствие всякой отвлеченности, такая всесторонность, истина и вместе такая полнота жизни, не теряющей ни малейшей частицы своей от явлений природы: мухи, дождя, листьев и пр. до человека,– какая составляет тайну искусства, открывающуюся очень, очень немногим.
В самом деле, у кого встретим мы такую полноту, такую конкретность создания (отчего не употребить этого слова)? Скажем здесь, не обинуясь, наше мнение. Да, очень у немногих: только у Гомера и Шекспира встречаем мы то же; только Гомер, Шекспир и Гоголь обладают этою тайною искусства. Опять неблагонамеренные люди скажут, что мы ставим Гоголя совершенно рядом с Гомером и Шекспиром; но мы опять устраним недоразумение. Гоголь не сделал того теперь (кто знает, что будет вперед?), что сделали Гомер и Шекспир, и потому, в отношении к объему творческой деятельности, к содержанию ее, мы не говорим, что Гоголь то же самое, что Гомер и Шекспир; но в отношении к акту творчества, в отношении к полноте самого создания – Гомера и Шекспира, и только Гомера и Шекспира, ставим мы рядом с Гоголем. Мы далеки от того, чтобы унижать колоссальность других поэтов, но в отношении к акту создания они ниже Гоголя. Разве не может быть так, например: поэт, обладающий полнотою творчества, может создать, положим, цветок, но во всем его совершенстве, во всей свободе его жизни; другой создаст великого человека, взявши большее содержание, но только наметит его общими чертами; велико будет дело последнего, но оно будет ниже в отношении к той полноте и живости, какую дает поэт, обладающий тайною творчества. Итак, этим сравнением (хотя вообще сравнения объясняют неполно, но чтобы не писать длинной статьи) надеемся мы пояснить наши слова: в отношении к акту творчества. Но боже нас сохрани, чтобы миниатюрное сравнение с цветком было в наших глазах мерилом для великих созданий Гоголя: мы хотим только сказать, что он обладает тою же тайною, какою обладали Шекспир и Гомер, и только они; что он совершит еще, имея ее, после того, что он уже сделал,– будущее покажет; но он уже много сделал, и уже наконец является великая поэма, так много нам с собой принесшая.
Итак, повторим наши слова, как бы они странны ни казались: только у Гомера и Шекспира можем мы встретить такую полноту созданий, как у Гоголя; только Гомер, Шекспир и Гоголь обладают великою, одною и тою же тайною искусства. И потому велико всякое создание Гоголя, и мы с наслаждением смотрим на его творческую деятельность, так могущественно идущую вперед и уже тай много нам давшую. Кроме его художественных повестей, которые так знакомы всякому образованному русскому, кроме всего остального, он дал нам комедию, истинную комедию, которой нигде нет; он дает нам поэму; он может дать нам трагедию...
Еще одно важное обстоятельство сопряжено с явлением Гоголя: он из Малороссии. Глубоко в ней лежащий художественный ее характер высказывается в ее многочисленных, мягких звуками песнях, живых и нежных, округленных в своих размерах... Разумеется, только пишучи по-русски (то есть по-великорусски), может явиться поэт из Малороссии; только русским может и должен явиться он, будучи таким же гражданином общей всем России, с собою принося ей свой собственный элемент и новую жизнь вливая в ее члены. Теперь, с Гоголем, обозначился художественный характер Малороссии из ее прекрасных малороссийских песен...
А русская песня, которую так часто вспоминает Гоголь в своей поэме, русская песня! Что лежит в ней? Как широк напев ее! Кажется, дух и образ великого, могучего пространства, о котором так прекрасно говорит Гоголь, лежит в ней. Нет ей конца, бесконечная песня, как называет ее он же. В самом деле, нельзя сказать, что русская песня оканчивается; она не оканчивается, но уносится. Когда слушаешь, как широкие волны звуков раздаются слабее и слабее и наконец затихают так, что слух едва ловит последние звуки русской песни,– нет, она не кончилась, она унеслась, удалилась только и где-то поется, вечно поется.
А. И. ГЕРЦЕН
1812—1870
По характеристике В. И. Ленина, Александр Иванович Герцен «...сумел подняться на такую высоту, что встал в уровень с величайшими мыслителями своего времени». Как критик, он был сподвижником Белинского, разрабатывал проблемы реализма, утверждал связь между передовой русской литературой и освободительным движением.
Основные статьи Герцена о литературе относятся к 1850—1860-м годам. Но начиная с 1842 года он вел дневник, и его дневниковые записи о «Мертвых душах» – ценное свидетельство о том, как восприняла поэму Гоголя демократическая Россия. Герцен писал не для печати, без оглядки на цензоров. Он прямо говорил, что видит в «Мертвых душах» обличение крепостнической действительности. Беспощадный критицизм сочетается у Гоголя, по его словам, с «верой и упованием на будущее». Эти вера и упование имеют «реалистическую основу» в жизни народа.
<Из дневника 1842 года>
Июнь, 11. Он (Огарев.– Ред.) привез «Мертвые души» Гоголя,– удивительная книга, горький упрек современной Руси, но не безнадежный. Там, где взгляд может проникнуть сквозь туман нечистых, навозных испарений, там он видит удалую, полную сил национальность. Портреты его удивительно хороши, жизнь сохранена во всей полноте; не типы отвлеченные, а добрые люди, которых каждый из нас видел сто раз. Грустно в мире Чичикова, так, как грустно нам в самом деле, и там и тут одно утешение в вере и уповании на будущее; но веру эту отрицать нельзя, и она не просто романтическое упование ins Blaue[83]83
На небеса (нем.).
[Закрыть], а имеет реалистическую основу, кровь как-то хорошо обращается у русского в груди. Я часто смотрю из окна на бурлаков, особенно в праздничный день, когда, подгулявши, с бубнами и пением, они едут на лодке; крик, свист, шум. Немцу во сне не пригрезится такого гулянья; и потом в бурю – какая дерзость, смелость, летит себе, а что будет, то будет. Взглянул бы на тебя, дитя,– юношею, но мне не дождаться, благословлю же тебя хоть из могилы. Но все это ни одной йотой не уменьшает горечь жизни...
Июль, 29. Толки о «Мертвых душах»... Видеть апотеозу смешно, видеть одну анафему несправедливо. Есть слова примирения, есть предчувствия и надежды будущего полного и торжественного, но это не мешает настоящему отражаться во всей отвратительной действительности. Тут, переходя от Собакевичей к Плюшкиным, обдает ужас, с каждым шагом вязнете, тонете глубже. Лирическое место вдруг оживит, осветит и сейчас заменяется опять картиной, напоминающей еще яснее, в каком рву ада находимся, и как Дант хотел бы перестать видеть и слышать – а смешные слова веселого автора раздаются. «Мертвые души» – поэма глубоко выстраданная. «Мертвые души». Это заглавие само носит в себе что-то наводящее ужас. И иначе он не мог назвать; не ревизские – мертвые души, а все эти Ноздревы, Маниловы и tutti quanti[84]84
Все им подобные (итал.).
[Закрыть] – вот мертвые души, и мы их встречаем на каждом шагу. Где интересы общие, живые, в которых живут все дышащие мертвые души? Не все ли мы после юности, так или иначе, ведем одну из жизней гоголевских героев? Один остается при маниловской тупой мечтательности, другой буйствует á la Nosdreff[85]85
Как Ноздрев (франц.).
[Закрыть], третий Плюшкин и пр. Один деятельный человек Чичиков, и тот ограниченный плут. Зачем он не встретил нравственного помещика добросерда, стародума... да откуда попался бы в этот омут человек столько абнормальный[86]86
Абнормальный – ненормальный.
[Закрыть], и как он мог бы быть типом? Пушкин в «Онегине» представил отрадное, человеческое явление в Владимире Ленском – да и расстрелял его, и за дело: что ему оставалось еще, как не умереть, чтоб остаться благородным, прекрасным явлением? Через десять лет он отучнел бы, <стал бы> умнее, но все был бы Манилов. Да и в самой жизни у нас так, все выходящее из обыкновенного порядка гибнет – Пушкин, Лермонтов впереди, а потом от А до Z великое множество, оттого, что они не дома в мире мертвых душ.
VI
СТАТЬИ БЕЛИНСКОГО
В. Г. БЕЛИНСКИЙ
1811—1848
С творчеством Виссариона Григорьевича Белинского русская критика поднялась на такую же высоту, на какую поднялась русская литература с творчеством Пушкина, Лермонтова, Гоголя.
Его первая крупная статья «Литературные мечтания» относится к 1834 году, итогом его творческой деятельности явилось датированное июнем 1847 года письмо к Гоголю. В эти годы лучшие русские умы настойчиво искали новых путей борьбы с крепостничеством и самодержавием, в литературе происходили важные перемены: движение от романтизма к реализму, от стихов к прозе. В эти годы литература стала, по меткому слову Герцена, трибуной, с высоты которой народ заставлял «услышать крик своего возмущения, своей совести».
Такой же трибуной Белинский сделал русскую критику. В его статьях впервые в русской критике зазвучала жгучая ненависть к крепостничеству, утверждение ценности личности и ее человеческого достоинства. Белинский обобщил опыт современной ему русской литературы. Он выступил за «близкое, живое соотношение» литературы и общественной жизни, призвал писателей сделаться «не только верным отголоском общественного мнения, но и его ревизором и контролером».
Безошибочный художественный вкус позволял Белинскому рано угадывать в молодых писателях талант. Гоголь, Лермонтов, Кольцов, Гончаров, Тургенев, Достоевский были признаны им как большие художники по первым же произведениям. Он умел отыскивать дарования и ценить их. Требовал от критики высокой принципиальности, не допускал ни прикрас, ни умолчаний.
В наш сборник включены лишь отдельные, наиболее важные статьи Белинского о Пушкине, Лермонтове и Гоголе. Имя Белинского прочно связано с этими великими именами: он создал блестящие критические разборы их шедевров, сохранившие значение до наших дней.
Непревзойденным по полноте охвата пушкинского гения, широте исторической перспективы, точности эстетического анализа является цикл статей Белинского о Пушкине. Из этого цикла мы публикуем две статьи, посвященные роману в стихах «Евгений Онегин». Они были опубликованы в журнале «Отечественные записки, 1844, № 12 и 1845, № 3. Они отличаются особенной страстью и блеском. Критик называет роман «в высшей степени народным произведением», «энциклопедией русской жизни», большим полотном, создав которое Пушкин проявил себя «не просто поэтом только, но представителем впервые пробудившегося общественного самосознания».
Белинский подчеркивает, что Пушкин первым из русских писателей верно нарисовал современное общество, вывел его характерных представителей. Онегин – это «эгоист поневоле», который стал эгоистом, так как не смог приложить свои силы, свой талант в самодержавно-крепостнической России. Татьяна – натура исключительная, одаренная и глубокая, но и она – жертва современной действительности. Белинский делает важный вывод: «Зло скрывается не в человеке, но в обществе».
Цикл статей о Пушкине Белинский закончил знаменательным обращением к будущему: «Придет время, когда он будет в России поэтом классическим, по творениям которого будут образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство...»
Творчеству Лермонтова Белинский посвятил две статьи: «Герой нашего времени» и «Стихотворения М. Лермонтова». «Герой нашего времени», рецензия на только что вышедший из печати роман Лермонтова, была опубликована в журнале «Отечественные записки», 1840, №№ 6 и 7. Критик установил в ней преемственность пушкинской традиции в творчестве Лермонтова: подобно «Евгению Онегину», «Герой нашего времени» правдиво воспроизводит действительность. В «Евгении Онегине» Пушкин рисовал картину общества, «взятого в один из интереснейших моментов его развития», в период общественного подъема перед восстанием декабристов. Лермонтов в «Герое нашего времени» изображает другой этап в развитии русского общества – переходный, когда «для человека все старое разрушено, а нового еще нет, и в котором человек есть только возможность чего-то действительного в будущем». Проблему героя критик связывал с вопросом о судьбах освободительного движения.
Шевырев, рассматривая образ Печорина, объявлял, будто он заимствован из западной литературы, будто в русской действительности таких людей не бывает. (Его статья помещена выше в нашем сборнике.) Белинский, напротив, подчеркивал, что Печорин – жизненный, реалистический образ, «грустная дума о нашем времени». Необъятные душевные силы героя растрачиваются впустую, и это связано с эпохой и «сферой жизни, в которую он поставлен судьбою». Слова Белинского звучали как приговор николаевской реакции.
О Гоголе Белинский задумывал создать цикл, подобный циклу о Пушкине, но свой замысел не осуществил. Однако его статьи об отдельных книгах Гоголя входят в сокровищницу русской критической мысли.
В ранней статье «О русской повести и повестях г. Гоголя», опубликованной в журнале «Телескоп», 1835, №№ 7 и 8, Белинский анализирует сборники Гоголя «Арабески» и «Миргород». Он первым оценивает Гоголя как гениального писателя, извлекающего поэзию из прозы жизни, отмечает то новое, что внес Гоголь в русскую литературу: «Простота вымысла, народность, совершенная истина, оригинальность».
Статья «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души», опубликованная в журнале «Отечественные записки», 1842, № 8, была полемическим откликом на брошюру К. С. Аксакова, включенную и в наш сборник. Белинский резко возражает Аксакову, усмотревшему в поэме Гоголя спокойное, примиренное отношение к действительности, как у Гомера. Его статья направлена и против Шевырева (см. выше его рецензию на «Мертвые души», где также замалчивается критический пафос произведения). Белинский взволнованно защищает критическое, обличительное направление русской литературы, в Гоголе видит главу этого направления.
Но когда в декабре 1846 года вышла книга Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями», в которой писатель отрекался от своих прежних произведений, проповедовал смирение и религию, оправдывал самодержавие и крепостничество, Белинский нашел резкие и мужественные слова, чтобы сказать об отступничестве Гоголя горькую правду. Он откликнулся на эту книгу негодующей статьей в журнале «Современник». Тон этой статьи задел Гоголя, и он отправил Белинскому письмо с упреком в том, что он взглянул на его книгу глазами «рассерженного человека».
Белинский в это время находился на лечении за границей, в силезском городе Зальцбрунне. Он мог без оглядки на Третье отделение, на почтмейстеров, распечатывающих, как в «Ревизоре», чужие письма, свободно высказать свои взгляды. Он написал знаменитое письмо к Гоголю, в котором обращался не только к Гоголю, говорил со всей мыслящей Россией. Он писал, что важнейшая задача эпохи – уничтожение крепостного права, гоголевской проповеди кнута и покорности противопоставлял «рвущиеся наружу свежие силы», которые, по его выражению, кипят в русском обществе, «сдавленные тяжелым гнетом».
Письмо Белинского к Гоголю – документ не только литературной критики, но и общественной мысли. В. И. Ленин назвал его «одним из лучших произведений бесцензурной демократической печати»[87]87
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 25, стр. 94.
[Закрыть]. Оно распространялось в сотнях списков по стране, на нем воспитывались поколения революционеров, от петрашевцев до социал-демократов.
Впервые письмо было опубликовано за границей в 1855 году. Его напечатал Герцен в «Полярной звезде». В России оно было издано только после 1905 года, благодаря временному ослаблению царской цензуры.








