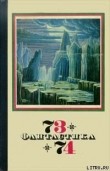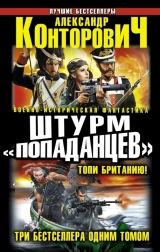
Текст книги "Штурм «попаданцев». Топи Британию! Три бестселлера одним томом"
Автор книги: Александр Конторович
Жанры:
Альтернативная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 50 страниц)
«ГОВОРЯТ ВСЕ РАДИОСТАНЦИИ…»
– Барышня, Смольный!
– Не отвечает? А кто есть на связи?
– Да? Ну, соедините хоть с борделем.
Анекдот эпохи перестройки.
Ноябрь 1797 года. НПЦ «Дакота»
Логинов
Последнее время при слове «лампа» моя рука невольно тянется к револьверу. А если, не дай бог, она еще и электронная, то на язык рвется нечто авиационно-матерное на русско-командном языке и вспоминаются слова моего первого начальника группы: «Самая эротичная книга на свете – это „Единый регламент технического обслуживания самолета МиГ-23“». Написано суховато, зато очень подробно и полностью про сексуальные отношения техсостава с матчастью. Вот чем-то таким я и занимался последнее время, часто привлекая к этому еще и наших металлургов с химиками. Они, естественно, от этого тоже были отнюдь не в восторге. Да, жалко, что в сутках не тридцать часов. Времени не хватает катастрофически, особенно на свое. Пытался пробить постройку дирижабля, но мне эту затею обрезали на корню. Ну и фиг с ним, пока все равно особо не нужен. Зато когда понадобятся – я на них посмотрю. Грузы громоздкие возить, патрулировать морские границы – лучше не придумаешь. Ладно, проехали на время. Потом все равно вернусь к этому. Тупиковое, говорите, направление? А вы уверены? По стоимости перевозки тонно-километра громоздких грузов посмотреть не хотите? Тем более что соответствующие статьи в ноутах есть, да и месторождения гелия в основном как раз неподалеку от нас расположены. Но это – на будущее. Сейчас важнее другое – дальняя связь. Наши маленькие радиостанции из будущего хороши, спору нет. Но маломощны и недальнобойны, а существующие радиотелеграфные требуют очень серьезной подготовки пользователей для работы ключом. Поэтому и творю, вернее, вместе творим электронные лампы. Для мощных усилителей, без которых существующие ништяки из будущего устойчиво работают в пределах пары тысяч километров.
Лампы ужасно громоздкие, типа – «советские микросхемы, самые большие в мире», с шестнадцатью ножками и двумя ручками. Для чего ручки? А для переноски. Потому что, увидев наши лампы, даже основатель лампового производства в России Бонч-Бруевич упал бы в обморок. Такие у нас получились громоздкие и неэстетичные внешне устройства. А что вы хотели, если вакуум приходится получать с помощью насосов от авиадвигателей, а потом добирать хитрым способом, выжигая в оставшейся атмосфере проволочки неизвестного мне химического состава, созданные «мисс Годдард», то есть Еленой. Но даже при этом вакуум недостаточно высокий и лампы работают не слишком стабильно и не очень долго. Однако работают и даже позволяют получить сравнительно устойчивую связь. Но вся эта работа подтвердила вывод моего начальника: на основе полученных теоретических и практических знаний авторитетно утверждаю – нет более затратного способа получения сексуального удовлетворения. Смех сквозь слезы, ага.
Но сейчас мы запускаем первую радиостанцию дальней связи. Такая комнатка, набитая лампами, керамическими конденсаторами и графитовыми сопротивлениями, насосиками для прокачки охлаждающей воды. Еще одну радиостанцию установили на нашем судне, а третий усилитель ушел в Россию, там его Артофу придется самому собирать по инструкции. Правда и комплект там немного другой – с подключением автобусной рации из будущего, а не нашей базовой, снятой с «Дугласа». Лампы, естественно, тоже самые совершенные – охлаждаемые не водой, а воздухом и «миниатюрные», с два кулака моих примерно.
Поглядывая на часы, переключаю муфту в рабочее положение. Посвистывая и поскрипывая, начинают вращаться насосы и генератор, булькает прокачиваемая вода. Осмотрев работающие механизмы, прикрываю дверь и надеваю наушники. Пока – из будущего. Но схему Голубинского я помню, так что телефонная трубка и сам телефон – на очереди. Легкое гудение в наушниках сигнализирует, что эта «ужасная паропанковская радиостанция», как назвал ее Дядя Саша, работает. Переключаю громоздкий тумблер на передачу и говорю в микрофон:
– Анта, адели, ута. Анта, адели, ута. Прием.
Не помню, где я выкопал эти слова. В «Аэлите» Толстого? Может быть… Но застряли они в моей памяти, и теперь вот стали позывными первой дальней радиопередачи в этом мире. Перебрасываю тумблер в положение «Прием» и жду. Сквозь треск и шорох до меня доноситься ослабленный расстоянием голос:
– …а в канале. Вас слышу. Прием.
– База в канале. Принял. Конец связи.
– Ура! Заработало! Всем налить! – Кричу, срывая наушники, и обнимаю стоящую рядом Елену. Ой, блин! Она на меня так посмотрела, словно тыщщу рублей отняла. Я инстинктивно сразу проверил, все ли у меня в карманах на месте…
Но даже этот взгляд не может испортить мне настроения. Удалось, все удалось. Теперь мы сможем оперативно получать голосовую информацию из любого уголка земли, где будут стоять вот такие комнаты.
Август 1798 года. НПЦ «Дакота»
Динго
Создание своей радиоэлектронной промышленности мы начали только в конце 1796 года. До этого, конечно, были какие-то телодвижения в этом направлении, но они носили подготовительный характер. При разработке первых радиоламп нам предстояло решить кучу проблем. Разумеется, вольфрам для нити накала мы взять нигде не могли. Более-менее приемлемым заменителем признали платину, благо ее хватало. Но это только начало. Самое сложное было получить вакуум, причем достаточно высокий, десять в минус пятой – минус шестой степени торра [55].
Первый насос для откачки воздуха сделали сравнительно быстро, использовали один из компрессоров, снятых с самолета. Однако такое решение можно было рассматривать только как временное, учитывая, что запчастей и ремкомплектов к нему нет, да и не предвидится. Однако для первых опытов его хватало. В дальнейшем сделали полностью свой насос, фактически повторяющий систему Камовского, с которой каждый из нас сталкивался еще в школе. Только мы, разумеется, не крутили его за ручку, а сразу приспособили электропривод. Следующим этапом стала попытка соорудить паромасляный диффузионный насос, но, несмотря на относительную примитивность его конструкции, все уперлось в специальное масло. Уж как наши химики ни бились, ни кипятили, ни перегоняли имеющиеся у нас жидкости, ничего подходящего не получалось. При попытке понизить атмосферное давление любая из них начинала парить, сводя все усилия по откачке на нет. Еще одним вариантом рабочей жидкости диффузионника была ртуть, которой мы располагали в достаточном количестве, но связываться с этой отравой, по вполне понятным причинам, не хотелось.
Хорошо, что я вспомнил еще про одну штуку – турбомолекулярный насос. Устройство его довольно просто, это всего лишь высокооборотный вентилятор с несколькими крыльчатками. Нужно только обеспечить очень большую скорость вращения и хорошо отбалансировать всю систему.
Сконструировать высокооборотный электродвигатель удалось довольно просто. Сначала сконструировали умформер [56], с плавной регулировкой скорости вращения, обеспечивающий переменный ток частотой до двух тысяч герц. Потом сделали асинхронный двигатель, хотя с ним пришлось повозиться. На скоростях вращения в несколько десятков тысяч оборотов в минуту требования к качеству изготовления подшипников резко возрастают. Так что мы намучились с полировкой трущихся пар «бронза-сталь», пока не получили приемлемый результат. Трудность усугублялась еще и тем, что в условиях откачки никакие смазки недопустимы, любое имеющееся у нас масло там испарится и испортит вакуум. Первый двигатель разрушился после нескольких минут работы на полной скорости, второй продержался чуть дольше. Только с четвертого или пятого захода удалось найти решение, и моторчики заработали как надо.
А вот турбинки доставили нам значительно больше проблем. На таких скоростях для них в двадцатом веке обычно использовали легкие алюминиевые сплавы. Единственная их разновидность, которой мы располагали, – панели обшивки с того же «Дугласа».
Промучились с ними довольно долго, пока сумели сделать работоспособную крыльчатку на бронзовой втулке. Трудно сосчитать, сколько вентиляторов было разорвано центробежной силой. Особенно мне запомнилась бронзовая лопасть, врубившаяся в балку на половину своей длины. Хорошо, мы сразу позаботились о дополнительном щите, отгораживающем испытательный стенд от экспериментаторов. Однако подобрать форму и толщину крыльчаток удалось. Ну, а выточить наружный корпус из той же бронзы было, по сравнению со всем прочим, уже не проблемой. Для уплотнения крышек и других соединений использовали герметик на основе сургуча.
Но мало получить вакуум, его надо еще и измерить. Если разрежение невелико, то можно обойтись сравнительно простыми средствами, а вот когда давление опустилось до очень малых величин, задача становится совсем не тривиальной. Первым нашим вакуумметром стал огромный U-образный дифференциальный манометр, высотой три метра, а именно столько было до потолка лаборатории. С его помощью удавалось измерить разрежение до одного торра, но это был даже не форвакуум [57], да и насос позволял откачать воздух значительно сильнее. Однако тут нам пришла на помощь метрологическая лаборатория, возглавляемая Толей Логиновым. Им удалось, наконец, наладить выпуск электроизмерительных стрелочных приборов.
Конечно, первые гальванометры имели электромагнитную схему и весьма примитивную, громоздкую конструкцию. Корпус прибора представлял собой деревянный ящик полметра на полметра и высотой сантиметров двадцать, закрытый сверху стеклом. Вся механика была выполнена из вездесущей бронзы. В качестве стрелки использовался высушенный стебель какой-то специально подобранной травы. Для градуировки шкалы наши метрологи использовали сохранившиеся со времен переноса пару китайских мультиметров и старый советский тестер ТТ-3. К прибору прилагался набор добавочных сопротивлений и шунтов, причем к каждому экземпляру он подбирался индивидуально. Именно подобно такому прибору и был построен второй вакуумметр, на основе тщательно рассчитанного платинового термометра сопротивления. После градуировки он позволил измерять давление до одной тысячной торра. Это уже было за пределами возможностей механической откачки, которая давала чуть меньше одной сотой. Но к этому времени был готов и турбомолекулярный насос.
Измерение вакуума высоких степеней пришлось отложить, пока команда Логинова вместе со стеклодувами не сделали нам ионизационную лампу. Именно с ее помощью мы смогли уверенно заявить о достижении минус четвертой степени откачки. Конечно, наш насос позволял откачать и сильнее, но вакуумметр был проградуирован с экстраполяцией на три порядка, что вносило слишком большую погрешность. Так что к осени 1797 года у нас появился вакуумный пост, занимавший целую комнату будущего лампового цеха.
Собственно, пробные лампы мы сделали чуть раньше, еще с применением только механического насоса. Пришлось повозиться с процессом так называемой электрооткачки – «выжигания» остатка воздуха на нагретой до высокой температуры нити. Сначала результаты были так себе. Первая лампа годилась только для выполнения лабораторной работы под названием «Снятие вольт-амперной характеристики вакуумного диода». Причем один раз, после чего она вышла из строя.
Следующие несколько штук также отличались очень коротким сроком службы, от нескольких минут до получаса. Причина быстрого выхода из строя была в разности теплового расширения стекла и выводов, которые в него запаивались. В результате образовывались микротрещины, через которые в лампу потихоньку натекал воздух, после чего нить резко перегорала. Однако и это удалось победить, подобрав подходящий сплав для электродов. Попутно отрабатывалась и сама конструкция ламп, поскольку приоритетной целью было создание автономной аппаратуры коротковолновой радиосвязи для наших агентов за пределами Калифорнии. А это накладывало ограничения на напряжение питания ламп, как накальное, так и анодное.
Таким образом, к концу 1797 года мы начали выпускать радиолампы нескольких видов: довольно простые стержневые триоды для низких и высоких частот, а также детекторный диод. Лампы имели вполне приличный срок службы – не менее пятидесяти часов, и конструкцию, позволяющую достаточно простую замену. Напряжение накала составляло порядка двух вольт, а анода не менее тридцати, что было уже приемлемо.
Кроме ламп, пришлось разрабатывать технологию изготовления и других необходимых радиодеталей – конденсаторов и резисторов. Первые делались из тонкой медной фольги, два слоя которой прокладывались тонкой промасленной бумагой и скручивались в трубочку, после чего заливались сургучом. Вторые получались из специально выточенных угольных стержней.
Химики тоже были крепко озадачены созданием батареек для мобильных радиопередатчиков. Если накальные элементы с напряжением вольт с четвертью получились достаточно просто, по угольно-цинковой схеме, то анодные батареи доставили немало хлопот. Требовалось все-таки соблюсти хоть какие-нибудь требования в плане компактности, а то получалась батарейка больше передатчика.
Наконец, опытный передатчик, полностью из местных компонентов, был готов. Фактически он представлял собой трехламповый трансивер [58], имеющий контура для частот от трех до тридцати мегагерц, что позволяло в том числе использовать и одиннадцатиметровый си-би-диапазон, несколько передатчиков на который у нас было. Вся конструкция временно была собрана «на весу», на широкой доске, однако более-менее работала, по крайней мере, внешне. Оставалось проверить, как все обстоит на самом деле.
В оговоренное время аппарат был включен и в эфир понеслись позывные: «Дакота вызывает Вихри, прием. Дакота вызывает Вихри, прием.» Никакого эффекта. Плавно меняю частоту настройки. Наконец повторять «Дакота… Вихри… прием» меня задолбало и я начал гнать в эфир всякую чушь типа «четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж…» Очередной раз перебрасываю ключ на прием и в наушниках слышу сердитый голос Кобры:
– Кто там в эфире хулиганит?! Какие чумазые чертенки?
Переключаюсь.
– Вихри, это Дакота. Кобра, здесь Динго, как слышишь? Прием.
– Динго, кончай хулиганить. Прием четкий, но разборчивость на тройку. Прием.
– Понял, подожди минуту, сейчас попробую подстроить. Прием. – Начинаю потихоньку подкручивать подстроенные катушки. – Раз, раз, раз… Два, два, два… Три, три, три… Прием.
– Двойки слышны четко. Прием.
– Понял. – Выставляю положения подстройки в соответствующее положение. – Как теперь? Прием.
– Поговори еще, дай послушать. Прием.
– Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж. Прием.
– Слышимость и разборчивость хорошая. Прием.
– Кобра, какая у тебя там частота по индикатору? Прием.
– Канал «Цэ-шестнадцать», двадцать семь, точка, сто пятьдесят пять мегагерц. Прием.
– Принято. – Ставлю метку на шкале. – Погоняй по каналам в обе стороны, надо определить, какие частоты я перекрываю. Через две минуты перейду на прием. Прием.
– Понял. Начали. Прием.
И снова в эфир понеслись «чумазенькие чертята».
– Динго, ответь Кобре. Прием.
– Слушаю. Прием.
– Ты перекрываешь по пять-шесть каналов в обе стороны. Сейчас перейду на двадцать шестой канал, двадцать семь, точка, двести шестьдесят пять. Прием.
Я примерно перенастроил частоту по шкале.
– Здесь Динго. Прием.
– Ты примерно на двадцать пятом канале. Корректируй. Прием.
– Понял, подстраиваюсь. Прием.
На шкале появилась вторая точка. Так мы и настраивали наш трансивер по рации из автобуса.
Следующий этап испытаний надо проводить в телеграфном режиме. Задачей стало «достучаться» до рации Арта за океаном. Поскольку мы с Логиновым никогда толком не умели работать на ключе, хотя читать с телеграфной ленты «морзянку» научились, для испытания пришлось обратиться в школу телеграфистов. Каково же было наше удивление, когда мы увидели, кого оттуда прислали. Девочка-индианка лет пятнадцати, уже вполне девушка, в камуфляжном костюме и с кобурой на поясе вошла к нам в лабораторию и представилась.
– Меня зовут Птичка. – С деловым видом она огляделась. – Сеньора Ирина сказала, что вам нужно помочь проверить новый телеграфный аппарат.
– Привет! – поздоровался я. – Тебя предупредили, что это пока очень большой секрет.
– Конечно, сеньор хефе, – кивнула она. – Я уже не маленькая, все понимаю.
Я провел девушку к столу, показал аппаратуру. Птичка передвинула ключ, устраиваясь поудобнее, переставила стул, чтобы не тянуться к переключателю «прием-передача».
Уточняю:
– До сеанса связи еще больше получаса. Тебе налить чаю? У нас есть варенье.
– Да-да, сейчас, налейте, пожалуйста. – Она возилась у передатчика, обустраивая рабочее место под себя. Потом, удовлетворившись результатом, перебралась за наш стол.
– Это беспроволочный телеграф, да? – усаживаясь, спросила Птичка.
– Он самый, – кивнул Толя. – И телефон тоже. Но…
– Я знаю, секретный.
– Умница.
– А как по телефону разговаривать, далеко слышно?
– Не очень. С Фортом на побережье связаться можно. Наверное, и подальше дотянет, но пока не пробовали.
– А если сейчас телеграфом свяжемся, можно и разговаривать попробовать? – не унималась девчонка.
– Почему бы и нет, – пожал плечами я. – Но сначала проверяем по программе.
За чаепитием и разговором время пролетело быстро. Вот уже мы включили передатчик, прогрелись лампы. Наконец в наушниках запищала морзянка Арта:
– «Прием четкий и разборчивый».
Убедившись, что все нормально, я переключил рацию на голосовой режим. Птичка пододвинула к себе микрофон.
– Дакота вызывает Арта. Прием.
– Арт на связи, – донеслось сквозь треск. – Разобрать могу, но помехи сильные. Рекомендую на этом заканчивать, аккумуляторы садятся. Прием.
– Принято. Конец связи.
– Конец связи.
Мы с Логиновым переглянулись.
– Вроде все получилось? – спросил он.
– Ага. – Я черкнул на бумажке несколько строк. – Птичка, ты мою жену знаешь?
– Конечно. Кто же не знает Быстроногую Антилопу.
– Будь добра, сбегай, передай ей записку. Я думаю, она скажет тебе, что надо делать.
– Хорошо, сеньор хефе. – И девочка убежала.
На бумажке было написано: «У нас все получилось. С тебя обещанный торт». Следующим вечером мы всей командой пили чай на веранде нашего дома. Птичку тоже пригласили.
Глава пятаяSI VIS РАСЕМ, PARA BELLUM [59]
Война – это великое дело государства,
основа жизни и смерти,
путь к выживанию или гибели.
Это нужно тщательно взвесить и обдумать.
Сунь Цзы
Сентябрь 1798 года. Калифорния, НПЦ «Дакота».
Динго
1
Еще в конце 1796 года у нас состоялся весьма интересный разговор. Речь зашла о вооружении и перспективных боеприпасах. Первым эту тему поднял Зануда, после того как заявка на производство патронов была в очередной раз увеличена.
– А вы в курсе, коллеги, каковы наши запасы свинца, с учетом возможностей рудника?
– Давай, колись, – отозвался Кобра, – что ты задумал?
– Да ничего я не задумал, просто сколько у нас лежит свинцовых слитков, тонн двадцать?
– Двадцать две! – уточнил Старый Империалист.
– Вот именно. Теперь вспомните, сколько весит пуля для карабина как основного оружия наших войск?
– Тринадцать граммов, – отозвался я.
– Ага. Иными словами, семьдесят шесть штук с копейками на килограмм. Или семьдесят шесть с хвостиком тысяч с тонны. Империалист, напомни, какой у нас расход боеприпасов в последнее время.
Тот пошуршал своими бумажками.
– За последние полгода на подготовку войск и резервистов в среднем идет тысяч по пятьдесят-шестьдесят. Еще сколько-то реализуется населению.
– То есть порядка тонны в месяц только по основному патрону. А есть еще винтовочно-пулеметные и крупнокалиберные. Ну и пистолетные с револьверными, но там мелочь по сравнению с остальными. Иными словами, все две получаются. Месячная добыча тонн пять. Так вот, по всем оценкам, такими темпами рудника нам хватит лет на десять, максимум пятнадцать. Дальше делайте выводы сами.
– А по меди что скажешь? – спросил я.
– В разы больше. Сейчас добыча за десять тонн в месяц перевалила, и это не предел. Запасы в руднике оцениваем в несколько тысяч тонн.
– А насчет цинка?
– Тоже дело обстоит лучше, чем со свинцом. В нашем руднике сфалерита в несколько раз больше, чем галенита [60].
– Раз так, будем думать, – кивнул я.
По окончании совещания меня задержал Дядя Саша.
– У тебя ведь явно какие-то задумки есть. Ну-ка, рассказывай.
– Да не столько задумки, сколько наметки пока. Смотри сюда, – я достал из кармана увесистый патрон, – что скажешь?
– Ого. Похоже и на наш крупняк, и на натовский.
– Нечто среднее. Сто три миллиметра длина гильзы получается.
– А калибр?
– А какой надо, такой и сделаем. Конкретно у этого макета двенадцать с половиной. Это по полям. Диаметр у пули на три «десятки» больше. Масса граммов сорок пять.
– Нормально. Значит, будете конструировать новый пулемет?
– Не совсем. Ты не обратил внимание, что последние серии «кипчаков» отличаются от первых двенадцати штук?
– Да нет, не присматривался. Хотя что-то слышал про это на Мартинике, мужики ругались, что ЗИПы отличаются. А в чем дело?
– Да подумали тогда на пару шагов вперед. Ведь что такое «Кипчак» в его нынешнем виде? Ужас, летящий на крыльях ночи. Крупнокалиберный пулемет на основе «раскачанного» охотничьего патрона шестнадцатого калибра. Если прямо и честно сказать, идея-то маразматическая. Вот как раз перед Мартиникой я на эту тему и подумал, посчитал. В общем, так получилось, что при некоторых изменениях коробки можно переделать автоматику под патрон длиной сто сорок миллиметров с диаметром гильзы до двадцати. Что ты и держишь в руках.
– И когда реальный патрон появится? Не макет.
– Как только, так сразу. Утверждаем калибр? А то у меня еще есть, – извлекаю из другого кармана еще четыре патрона, – двенадцать, тринадцать, четырнадцать. А вот и двенадцать и семь.
– Ни хрена себе заявочки… – ошарашено произнес Дядя Саша, вертя в руках патроны. – Нет, я все-таки за первый вариант. Хотя погоди…
Он приоткрыл дверь и кликнул Империалиста с Коброй.
– Глядите, мужики, что наш инженер нахимичил.
После недолгих препирательств остановились-таки на двенадцати с половиной, хотя Кобра ратовал за тринадцать. Мне оставалось только выполнять ЦУ.
2
Продолжение эта задумка получила уже летом. Первый серийный «Кипчак-2» был смонтирован именно на «Калане». Впрочем, незадолго до этого несколько перестволенных на новый патрон крупнокалиберных пулеметов предыдущей серии уже вступили в строй. Особенно впечатляла эффективная дальность стрельбы – две тысячи метров. А по плотным пехотным построениям можно было работать и дальше, поскольку прицел был нарезан до трех километров.
Ну и на катере я пришел не с пустыми руками. Когда утихли приветствия и поздравления, все наличествующие на данный момент в Форте «попаданцы» собрались в кабинете у Дяди Саши. После нескольких вступительных слов он произнес:
– Давайте сначала заслушаем нашего главного инженера о том, что из технических новинок ожидается в ближайшем будущем, а потом пройдемся по текущим вопросам.
– Итак, докладываю, – встал я. – На данный момент заложена серия речных и прибрежных патрульных катеров. Первый из них все видели сегодня в бухте, следующие два будут готовы к концу месяца. В дальнейшем верфь может строить суда такого или несколько большего размера по три штуки каждые четыре-шесть месяцев.
– А чуть «несколько большего» размера, это сколько? – сразу заинтересовался Кобра.
– На данный момент стапели позволяют разместить корпус до двенадцати метров длиной, но запас по модернизации есть, когда потребуется, нарастим метров до двадцати точно. Для «посуды» большего размера есть смысл строить вторую верфь напротив через реку, есть там подходящее место, однако мы к этому пока не готовы, поэтому откладываем на перспективу.
– И сколько катеров планируете построить?
– Да сколько закажете. Пока у нас первая серия проходит испытания в работе, вторая будет строиться, а там, думаю, определимся, сколько их надо. Полагаю, что за пару лет мастера-корабелы наберутся необходимого опыта, а там сможем замахнуться на что-то посерьезнее.
– С более серьезными кораблями пока торопиться нельзя, – одернул меня Дядя Саша. – У нас толком военно-морская доктрина еще не разработана. Вдобавок, чем такие корабли вооружать? Явно одних крупнокалиберных пулеметов недостаточно.
– Согласен, – кивнул я, засовывая руку в карман. – Но в этом направлении работаем. Теперь по боеприпасам. Вот, так сказать, «первые ласточки», – и высыпал на стол горсть патронов.
– Оба-на! – воскликнул Сергей, вертя в руках пистолетный патрон – что-то мне это напоминает. Уж не «смит-вессон» ли сороковой [61]?
– Ну, в общем, близко. Мы смогли разработать технологию для гильзы с проточкой. Так что перспективы открываются весьма интересные. Да, кстати, – попросил я – Антилопа, солнышко, передай сюда мой портфель, только осторожно, он тяжелый. Ага, спасибо. Для начала, коллеги, вот шестнадцать комплектов для переделки «эм-двести вторых» пистолетов на новый патрон. Замене подлежат ствол, выбрасыватель и магазины. В последних меняется подаватель и надо слегка перегнуть губки, что лучше мы сделаем в мастерской. Разбирайте. Ящик с боеприпасами стоит в приемной, там наберете. В свете вышесказанного, пистолетный патрон будет делаться серийно. С обрезкой револьверных гильз и прочими прелестями домашнего релоада [62]покончено.
– А вот это хорошая новость, – согласился Дядя Саша.
– И «кольты» теперь только под новый патрон пойдут? – уточнил Кобра.
– Разумеется, – кивнул я. – Но это еще не все. Закрой глаза и протяни руки.
– Что за прикол? – удивился тот, но сделал, как требовали.
Я аккуратно вложил ему в руки небольшой пистолет-пулемет.
– Охренеть! – Он чуть не подпрыгнул от восторга, когда разглядел новую игрушку. – Был бы тут Котозавр, сразу закричал бы: «Дайте два!»
– На, – протянул я ему второй экземпляр.
– Ну-ка дай посмотреть! – строго потребовал Дядя Саша. – Этому и одного хватит. А третьего там нет?
– Ну, я все ж таки не верблюд. И так пятнадцать кило почти в портфеле припер.
– Нормально получается. – Кобра уже успел сообразить, как разобрать автомат. – Тоже что-то знакомое напоминает.
– Творческое осмысление идей Вацлава Холека, применительно к нашим технологиям. Или, по другим источникам, Ярослава Холечека [63].
– А, точно, «самопал» двадцать шестой [64]напоминает. Я, правда, поначалу на «узи» подумал.
– И как бьет?
– Нормально. До двухсот метров рабочая дистанция. Конечно, это меньше, чем «пятьсот третий», но и легче машинка значительно.
– А сколько весит?
– Четыре с половиной с «сороковым» магазином. С «двадцать пятым» грамм на триста меньше.
– Приемлемо. Более чем. И когда в серию?
– Когда испытаете. Я привез пробную партию, полтора десятка. Магазинов по шесть больших и три маленьких на каждый. Патронов пока пять тысяч. Вылавливайте детские болезни, и тогда запустим в производство.
– Кстати, а старые автоматы можно на этот патрон переделать? – поинтересовался Сергей. – Уж больно они тяжелы.
– Без проблем, но и смысла нет. Выигрыш в весе меньше килограмма при значительном снижении характеристик. Все-таки карабинный патрон значительно мощнее. А вот рожок под безрантовую версию патронов на тридцать сделаем.
– Кстати, о карабинах. Вы их на новые патроны переводите, с проточкой?
– Конечно. Только вот как быть с логистикой? Если начнем выпускать и те и другие, путаницы не оберемся.
– А что нужно для переделки? Тоже ствол менять?
– В принципе нет, хотя у части придется. Но, из-за своей конструкции, замене подлежит только затвор в сборе. Ну и толкатель в магазине тоже поменять придется да губки подточить. Без замены прицела, в принципе, можно обойтись – на основных дистанциях баллистика не сильно меняется.
– Понятненько… А стволы почему менять у части?
– Так обрати внимание, какая пуля.
– Обычная, оболочечная.
– Вот именно. А стволы у старых карабинов на мягкий свинец рассчитаны. Сталь слабовата, и нарезы другие. Износ будет большой.
– И много таких?
– Считай, все с подствольным магазином, которые на Мартинику делались, и еще сотня с небольшим после. Сейчас скажу точно. – Я достал блокнот, полистал. – С пятьсот тридцать первого номера у нас пошли стволы из новой стали с другой нарезкой. А карабины, которые с нормальным магазином, только первая сотня на модернизацию. Но! Тут вот еще какой вопрос возникает. У нас сейчас отработана технология производства стволов электроэррозионным способом с последующей доводкой начисто дорном. Пока минимальный калибр, который можем делать, это восемь миллиметров. Технически несложно переобжать дульце гильзы под него. Получится патрон в характеристиках немецкого «семь девяносто два курц». На бездымном порохе восьмиграммовая пуля полетит со скоростью шестьсот метров в секунду. Энергия под два килоджоуля. Но это уже, считайте, что-то типа симоновского карабина делать придется. Конструкция «четыреста вторых» держит вдвое меньше и усилить ее не получится. Килоджоуль для свободного затвора практически предел.
– А родной «семь шестьдесят два» уже не получится? – отвлекся от новой игрушки наш гэбэшник.
– Патрон или ствол?
– Ствол. И патрон тоже.
– Патрон можно. Более того, и будем делать. У нас оружия под него хватает. Можем даже и «пятерку» попробовать, но под нее всего один автомат. А вот со стволами все печально. При выделке калибров восемь мэмэ и более процент брака не превышает двадцати. А как только уменьшаем, по непонятной причине подскакивает до пятидесяти-шестидесяти. В общем, резюмирую, вариантов три. Первый: выпускаем модернизированный десять на тридцать пять десятиграммовой пулей улучшенной баллистики. Скорость возрастает до четырехсот пятидесяти, баллистика меняется не сильно. Как недостаток, заряд на бездымном порохе получается ослабленным, не оптимальным для этого объема гильзы. Что никоим образом на работоспособности оружия и патронов не сказывается, влияет только на вес боекомплекта. Второй вариант: переходим на короткий восьмимиллиметровый промежуточный. Минус очевиден, необходимость разработки нового карабина, что делает более предпочтительным третий вариант. А именно, удлинить гильзу миллиметров до сорока и плясать уже от нее. Технологически воспроизвести гильзу от «а-ка-эм» мы уже можем, а на ее базе те же восемь мэ-мэ делаются легко.
– Все понятно, – чуть подумав, кивнул Дядя Саша. – Пока оставим основным калибром десять миллиметров. А ваша задача продумать возможность воспроизвести «эс-ка-эс» или даже сразу «Калашников». Возможно, к этому времени решите проблему и со стволами. Что скажешь?