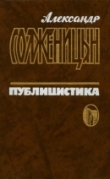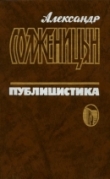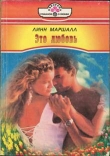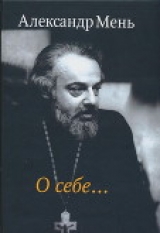
Текст книги "О себе…"
Автор книги: Александр Мень
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
Пытаясь получить духовное образование, церковное, он поступил перед войной (или в начале войны, сейчас я уже, к сожалению, не помню) в духовную семинарию, "обновленческую". Был у нас раскол такой – обновленческий, который начался в 20–е годы и был закончен после войны. Желудков поступил в такую обновленческую семинарию. Если не ошибаюсь, она была в церкви, по–моему, на улице Энгельса, там, где стоит такой большой храм, в районе Бауманской. Он ее не кончил, потому что она, кажется, сама распалась. Но в нем постоянно жило стремление найти современную форму выражения для христианского благовестия. Он считал себя не отвлеченным богословом, и таковым не был, а богословом, который хочет быть для всех! У него было такое любимое выражение: "христианство для всех", или "мужское христианство" – тоже его выражение.
Почему "мужское", что это за название? Желудков имел в виду христианство, которое не было бы чрезмерно эмоциональным, как бы сентиментальным, которое, может быть, ближе поэтической женской душе. А он хотел найти такой четкий, рациональный аспект Евангелия, который был бы доступен здравомыслящим, рядовым современным людям; не утонченным интеллектуалам, а рядовым, мыслящим по–мужски людям. Задача, конечно, была непростая, и он искал ее решение экспериментальным путем.
Прежде чем сказать вам о том, как Желудков это делал, немножко еще его биографии. После окончания Ленинградской семинарии он начинает служить. Но это было такое время, когда никакой эксперимент, никакое вылезание из траншеи не проходило безнаказанно. Его снимали с одного места, бросали на другое. За год, по–моему, он сменил восемь мест. Без конца его гоняли – то настоятель, то уполномоченный. Это был вечный странник! И все кончилось парадоксальным образом. По крайней мере, так он мне рассказывал, и я это просто говорю с его слов.
Вы все знаете, что сейчас у нас к лику святых Русской Православной Церкви причислена блаженная Ксения – праведница, которая с XVIII века почиталась в Петербурге, Петрограде, Ленинграде. Около ее часовни, где она погребена, собирались многие люди, молившиеся ей, и народное почитание этой святой было огромным и в Петербурге, и в Ленинграде – всегда.
Я еще помню эти толпы в начале хрущевского времени, когда я учился в семинарии в Ленинграде. А может быть, раньше даже, нет, это было в 54–м году. В 54–м году, когда огромные толпы шли в эту часовню служить панихиду.
Сейчас блаженная Ксения торжественно провозглашена святой нашей Церкви. О ней была передача по телевидению (некоторые из вас, наверно, видели). Но тогда местные ленинградские власти пытались вообще стереть память о ней из сердец людей.
Часовня ее была закрыта; шла, можно сказать, война, ее поносили в прессе, как личного врага. И вот незадолго до того, как там совсем все разогнали, приходили больные люди молиться на ее могилу. Часовня уже была закрыта, и они просто ходили вокруг нее.
И вот там произошел такой случай (я не был свидетелем, только по рассказам): одна больная женщина, что–то у нее было с ногами, пришла, ее привели родные, и они с пением молитв повели ее вокруг часовни блаженной Ксении; и на третьем круге она вдруг почувствовала резкое облегчение; и когда кончилось это хождение, она вдруг пошла своим ходом.
Сопровождающие перепугались, общее было смятение, радость, подогнали такси. Священник, служивший в этой церкви (напротив часовни), смотрел из окна алтаря и плакал в три ручья, но выйти боялся, ибо он прекрасно знал, что если б он вышел и принял участие в этом деле, его бы потом обвинили в том, что он создал фальшивое чудо. И он даже и не вышел (правильно сделал).
Так вот, отец Сергий, человек, в общем, скептический, очень далекий от легковерия и настроенный, я бы даже сказал, рационалистически во многих смыслах, – получил сведения об этом событии из первых рук. И со своей склонностью к эксперименту он решил все это зафиксировать, записать, сделать достоянием общественности.
Отец Сергий собрал людей, которые были свидетелями, заставил их всех написать об этом, расписаться, адреса поставить, то есть все как положено. Когда об этом стало известно уполномоченному и еще в каких–то инстанциях, то, во–первых, стали всех этих людей вылавливать, вызывать, угрожать, заставили их всех снять свои подписи, а Желудков был удален со своего прихода вообще. в пространство. И с тех пор отец Сергий не служил – до самой своей смерти.
Потом времена уже поменялись; возможно, ему можно было служить, но его желание создать нечто новое, свежее, какие–то новые формы! – оно настолько не могло реализоваться в той реальности Пскова, где он жил, что ему не хотелось идти и повторять все то же самое – то, что он подвергал пересмотру и критике.
Конечно, я еще раз скажу вам, что действительно время для реформ было самое неподходящее. И крайность его воззрений тоже была очевидна многим людям. Но все–таки он думал, говорил, писал, ставил вопросы.
Теперь я возвращаюсь к тому, как отец Сергий решил экспериментально создать, так сказать, некую модель "христианства для всех", "мужское христианство", современное. У него было два друга, корреспондента, которые с ним переписывались (большие теоретические письма). Они писали ему о своих сомнениях. Он отвечал им и прислал мне их письма и свой ответ, приглашая меня принять участие в дискуссии. Я этих людей не знал, они писались под литерами "А" и "Б". Потом еще подключился человек; я был, кажется, "С".
И тут пошло. Профессора Духовной академии, общественные деятели, духовенство, участвовал небезызвестный отец Дмитрий Дудко, профессор нашей Академии Агицкий, известный в то время церков–ный писатель Краснов–Левитин, человек таких радикальных взглядов, и многие другие.
И отец Сергий, собирая наши письма, аккуратно, на своей машинке, со своим таким аккуратизмом пунктуального человека перепечатывал, делал брошюрки (каждый раз разного цвета) и всем нам посылал по почте. И к 64–му году таких брошюрок у нас накопилось более чем на полторы тысячи машинописных половинчатых страниц. То есть примерно семьсот обычных машинописных страниц мелкой машинописи. Чего там только не было. Какие только вопросы там не поднимались: социальные, философские, нравственные, богословские, литургические! Лично я все время старался уклониться от этого, но каждый раз не выдерживал и все равно включался. Уклониться хотелось, потому что разговор был хаотичный. Мне не нравилось, что люди начинали выяснять конец, не поняв, что происходит в начале; не было никакой последовательности, а следовательно, мы все время вынуждены были кружиться вокруг, без конца возвращаясь куда–то назад, на какие–то азы.
Вы понимаете, что беседы, даже дискуссии, споры без определений уже невозможны; а тут каждый понимал, скажем, под словом "духовность", "соборность" что–то свое, и все кружили и кружили.
Но переписка была уникально интересна! Это уникальный памятник той "траншейной" умственной, религиозной, богословской жизни начала 60–х годов. Она была очень смелой, иногда наивной, потому что сказывались наш провинциализм (недостаток литературы), необдуманность, невыношенность.
Но на основании вот этих ответов, споров, всей этой проблематики, поднятой там, иногда очень заостренной, отец Сергий создал одну из своих первых книг, которая называлась "Почему и я христианин". Надо вам сказать, что перед этим он написал эссе, кажется, о Бультмане.
В то время, когда вторично начали рушить храмы, все делалось по уже давно испытанному сценарию; и нужны были, как это было положено, отреченцы. И вдруг у нас быстро стали возникать какие–то церковные деятели, которые годами служили, что–то изучали, где–то преподавали и которые с подозрительной скоростью обнаруживали противоречия в Библии и объявляли в газетах, что отныне они уже больше ничего общего с Церковью не имеют. Одним из таких людей был покойный профессор Осипов в Ленинградской академии (сейчас мы знаем, что его шантажировали, ему угрожали, он был сломлен, это была личная драма).
Но Желудков ответил. Ответил одному из этих бедных, несчастных людей, которым надо, безусловно, сострадать. Он ответил небольшим эссе. Это был блеск! Как это было написано! С душой, без оскорблений, умно, лаконично! Мне очень жалко, что это эссе пропало, я не могу нигде его найти.
К сожалению, вообще все наследие отца Сергия где–то растеряно, рассеяно, и собрать его полностью пока не представляется возможным; да и не нашелся еще человек, который бы занялся этим. Его близкие, друзья, которые бы могли этим заниматься, – одни умерли, другие уехали из отечества, третьи заняты своими делами и про него и думать не хотят. Короче, у него есть литературное и эпистолярное наследие. И когда–нибудь, когда придут наши дети, когда они будут пытаться восстановить по крохам его биографию и составить хотя бы список его трудов, они будут очень сильно мучаться и ругать нас за наше пренебрежение и легкомыслие.
И вот тогда он написал эту книжку – "Почему и я христианин". Он написал ее в ответ брошюркам, которые назывались "Почему мы порвали с религией", "Почему мы …" и так далее. А он написал "Почему и я христианин". Но чудесна была эта маленькая буква "и". Он не говорил: "Почему я христианин? Я – Желудков, христианин!", но "Почему и я тоже, я – один из многих". Книга небольшая, была потом издана в ФРГ, сейчас многие пытаются как–то раздобыть ее, но, естественно, тираж мал и она вышла давно, я думаю, без его ведома[170]. И в этой книге отец Сергий пытался создать свою модель.
Скажу вам откровенно, что я не разделяю всех его воззрений. Но что меня поразило? Еще в 63–м году Желудков в одном из своих писем ко мне приводил с восторгом эпизод из жизни пастора Дитриха Бон–хёффера.
Дитрих Бонхёффер был повешен за несколько недель до того, как союзники освободили Германию и пал нацизм. Он был участником заговора Канариса, был одним из самых активных антинацистских деятелей и влиятельнейшим богословом XX столетия. Это был совсем молодой человек, которому сорока еще не было. И он предпочел, вместо того чтобы ехать в Америку, читать там лекции по богословию, остаться и бороться – не только идейно, но бороться против нацизма практически! Так что он был осужден не невинно; его повесили как политического противника режима, как человека, который способствовал политическому заговору Канариса.

С о. Сергием Желудковым. 1976 г.
Когда Бонхёффер сидел в тюрьме, в нацистских условиях (он был привилегированным заключенным), он писал своим родным письма, и они составили целую книгу, которая произвела огромное впечатление на западный мир и на богословов в частности. Он говорил: я попал впервые в компанию людей, которые совершенно далеки от моей веры, – там были коммунисты, там были вообще люди, чуждые ему. И он писал: «Я искал новый язык, новые слова, чтобы сказать им о главном – о евангельском, о вечном. Я тогда понял, что наш старый церковный язык годится только для нас, для узкого употребления, а для мира он недостаточен, мир вступил в другую культурную полосу».
Бонхёффер считал, что мир стал совершеннолетним, и поэтому он может обходиться без священного. Я думаю, что он заблуждался. Потому что нельзя называть таким наш мир, который сходит с ума от политических мифов, – ведь он писал это во время разгула гитлеризма, вскоре после сталинизма, – ничего созревшего нет в нашем мире. Но все–таки Бонхёффер был прав – в мире изменился культурный фон, язык надо искать другой.
Так вот, отец Сергий Желудков не читал книг и писем Бонхёффера. Он лишь услышал о нем, о его конце, о последнем мгновении, когда крикнули: "Дитрих Бонхёффер!", и он сказал своим друзьям: "Я знаю, что это конец, но для меня это только начало". И эта фигура заворожила Желудкова.
Между тем отец Сергий был в чем–то полным аналогом Бонхёффера, русским Бонхёффером, не знавшим еще, что писал и о чем думал его немецкий собрат. У нас Бонхёффер не переведен, его даже в самиздате не было. Сейчас кое–что уже есть, но тогда ничего этого не было[171]. И я был поражен, как ему все это открылось (они были почти ровесники, Бонхёффер был старше Желудкова на четыре или на три года).
Вот такую задачу, которую немецкий теолог пытался решить, сидя в тюрьме и поставив ее перед богословами, – эту задачу поставил перед собой и Желудков как бы автономно, независимо от него. И это, конечно, было очень интересно, и задача труднейшая – найти новый культурный язык для вечного. Но он ее не решил, потому что усилиями одного человека такие вещи не делаются; и к тому же он был очень изолирован. Сидя в своем Пскове, он был отрезан и от литературы, и от общения, он дышал, только приезжая в Ленинград или в Москву. Но это были налеты.
Его дискуссии после выхода этой книги продолжались, он без конца обменивался с людьми письмами, искал и искал все новые формы. Мне он говорил потом, что "если бы я написал это сейчас, спустя много лет, я бы написал по–другому". Он сильно левел. Ему казалось, что можно найти совершенно рациональные, совершенно простые, понятные каждому слова, для того чтобы выразить общую евангельскую истину.
Я, правда, с ним всегда спорил. Я ему говорил так: либо надо просто верить так, как деревенская женщина, либо, если ты хочешь рационально познать, тогда не изображай простачка, а тогда уж надо поковырять и подумать, и не бояться умственных трудов. А ему хотелось совместить и то, и другое: чтобы была вроде разумная вера, но чтобы разум находился на цыплячьем, элементарном уровне. Конечно, я понимал мотивы, потому что он хотел найти язык для среднего человека. И это была трудная, может быть, в каком–то смысле безнадежная задача. Но она была благородная, и я понимал нравственную глубину, сердечную глубину его устремлений.
Его отзывчивость душевным движениям людей была огромна. Как он ценил каждого – это было просто поразительно.
В последние годы жизни он все больше и больше сближался с нашей социальной оппозицией, с движениями, которые называют демократическими и прочими, и появилась у него еще одна интересная книга, родившаяся в крайне своеобразных условиях.
Был у нас в свое время такой физик Кронид Любарский, который занимался политической оппозицией. Любарский был атеист, законченный и убежденный. Когда он сидел в тюрьме, Желудков написал ему туда письмо (Любарский был и в лагере, и в тюрьме долгое время; то ли они были знакомы до этого, то ли нет, я не помню), и из этой переписки создалась целая книга.
Часть писем не была пропущена цензурой, часть дошла, Любарский отвечал, ряд людей были вовлечены, я даже нехотя написал два письма, потому что мне казалось, что это неуважительно – к человеку приставать с диалогом, когда он считает себя законченным атеистом и диалог ему никакой не нужен. Но, по–видимому, Любарского все–таки это как–то там развлекло, и книжка получилась очень занятная, острая. Она была впоследствии издана на Западе[172].
Потом отец Сергий неоднократно возвращался к этой модели, к этой манере решать проблемы через письма. Конечно, я тогда полностью отказался от участия, потому что это превращалось в говорильню по той же причине: что не было выяснено главное и где–то вокруг кружились.
Но Желудков вступил в Amnesty International, выступал от лица Церкви, не служа в Церкви. У него было трудное своеобразное положение. Власти смотрели на него сквозь пальцы, и он жил в своем Пскове, выступая, подписывая разные заявления социально–политического характера, которые он считал справедливыми и нужными, всегда боролся за правду, всегда был в первых рядах людей, ищущих справедливости.
Так случилось, что он умер недалеко от Елоховского собора. И привезли его отпевать туда, и там было некоторое смятение, но, в конце концов – в соборе служил его друг, бывший художник, потом священник, – собралось еще несколько клириков, и его отпели по иерейскому чину.
Много лет отец Сергий не служил, что, конечно, сказывалось на его душевной жизни. Священнику небезопасно долго находиться без евхаристии, без выполнения своего служения. И поэтому последние годы жизни у него были окрашены некоторой меланхоличностью, грустью. Он не надеялся на то, что какое–то возрождение будет. Но в то же время он очень многим людям помог сдвинуться, помог осознать себя. В спорах с церковными людьми он пробуждал свободную мысль. Я еще раз повторяю: с ним можно было не соглашаться, но его диалог был живым, современным, искренним, талантливым.
Несмотря на свои реформаторские тенденции в богослужении, он очень любил церковную культуру, музыку и пение. Многих наших прихожан и друзей он учил церковному пению. Будучи сторонником богослужения на русском языке, он прекрасно владел славянским и знал его красоту.
Это личность, которая могла оказать большое влияние на наше общество. И так случилось (это очень жаль), что влияние это было весьма ограниченным, что оно осталось в основном в каких–то кулуарах, узких кругах. У нас не так много таких ярких личностей. Мы должны их помнить. Как говорил один прекрасный литературовед о своем герое: "Мы ему уже не нужны, но он нам нужен". Так вот, такие люди, как Желудков, нужны нам.
Из выступления на вечере памяти о. Сергия Желудкова 5 марта 1989 г.
Об архиепископе Луке (Войно–Ясенецком)
Человек, о котором пойдет речь, […] не погиб в лагере, но прошел через все круги ада; он не был оппозиционером, однако почти на всей его биографии лежала печать изгойства. Врач, писавший научные труды в тюремной камере, он не только дождался их публикации, но и получил за них при Сталине Сталинскую премию. При этом он одновременно был и хирургом, и священнослужителем Русской Православной Церкви, архиепископом…
Я помню его уже слепым, за десять лет до его смерти в 1961 году. Помню его письма к моей матери, которые ему уже приходилось диктовать секретарше. Вокруг него складывались самые фантастические легенды. И неудивительно. Он поистине казался каким–то чудом природы, клубком противоречий.

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). 1942 г.
Его держали в Симферополе, подальше от столицы. Не доверяли. Из сотен проповедей архиепископа напечатаны были лишь немногие. Не была издана и его главная богословская работа «О духе, душе и теле» (она увидела свет в Брюсселе через 17 лет после смерти ее автора).
Иные люди, разглядывая бюст лауреата Сталинской премии, недоумевали: почему у него длинные волосы и иконка на груди? А когда им объясняли, что это панагия, знак епископского сана, изумлению их не было конца.
Люди уже узнали правду о беззакониях и зверствах, о крахе нравственных устоев, об искажении в человеке образа Божия. Знать и помнить это надо. Однако столь же необходимо говорить и о тех, кто не сдался, кто не потерял себя, кто сохранил сокровища духа в самых тяжких обстоятельствах, кто по–настоящему служил ближним. Они не были сверхчеловеками. У них были и слабости, и ошибки. Они были "людьми среди людей".
Из предисловия к книге М. Поповского «Жизнь и житие Войно–Ясенецкого, архиепископа и хирурга»
Об Александре Галиче
Конечно, как и многие, я не раз слышал записи его песен, поразительных, с такой точностью передающих дух и настроение тех лет. Голос Галича казался мне прорывом из глухого молчания. Но молчания многозначительного. Я верил, что под ледяной коркой зимы все еще текут живые струи. Уж если сталинщина не могла полностью иссушить эту реку, то тем более – потом… Галич говорил и пел о том, о чем шептались, что многие уже хорошо знали. Он блестяще владел городским полуинтеллигентским и полублатным жаргоном, воплощаясь то в героев, то в антигероев нашего времени. Мне он казался своего рода мифом, собирательным образом, каким казался в начале 60–х Окуджава, хотя мне было известно, что это вполне реальные люди. Окуджава пел о простом, человеческом, душевном после долгого господства казенных фраз. Галич изобразил в лицах, в целой галерее лиц, портрет нашей трагической эпохи. Поэтому мне показалось странным, почти невероятным, что я мог увидеть его, словно это был оживший символ, который трудно себе представить в виде одного конкретного человека.
Я увидел его сразу, когда он, такой заметный, высокий, появился на пороге церкви. Он пришел с нашим общим знакомым, композитором Николаем Каретниковым[173]. Не помню сейчас (прошло уж больше 15 лет), уславливались ли мы заранее, но я узнал его сразу, хотя фотографий не видел. Узнал не без удивления. Знаете, читатель часто отождествляет писателя с его героями. Так вот, для меня Александр Аркадьевич жил в его персонажах, покалеченных, униженных, протестующих, с их залихватской бравадой и болью. А передо мной был человек почти величественный, красивый, барственный. Оказалось, что записи искажали его густой баритон. Мне он сразу показался близким, напомнил мою родню – высоченных дядек, которые шутя кололи грецкие орехи ладонью. Это был артист – в высоком смысле этого слова. Потом я убедился, что его песни неотделимы от блестящей игры. Как жаль, что осталось мало кинокадров… Текст, магнитозаписи не могут всего передать. И в первом же разговоре я ощутил, что его «изгойство» стало для поэта не маской, не позой, а огромной школой души. Быть может, без этого мы не имели бы Галича – такого, каким он был.
Мы говорили о вере, о смысле жизни, о современной ситуации, о будущем. Меня поражали его меткие иронические суждения, то, как глубоко он понимал многие вещи.
Вообще–то я всегда придерживаюсь правила – не посвящать других во внутреннюю жизнь моих прихожан, даже ставших знаменитыми. Это нечто вроде врачебной тайны. Иначе невозможны искренние, доверительные отношения.
Могу сказать лишь очень немногое. Его вера не была жестом отчаяния, попыткой куда–то спрятаться, к чему–то примкнуть, лишь бы найти тихую пристань. Он много думал. Думал серьезно. Многое пережил. Христианство влекло его. Но была какая–то внутренняя преграда. Его мучил вопрос: не является ли оно для него недоступным, чужим. Однако в какой–то момент преграда исчезла. Он говорил мне, что это произошло, когда он прочел мою книгу о библейских пророках. Она связала в его сознании нечто разделенное. Я был очень рад и думал, что уже одно это оправдывает существование книги.
После совершения таинства мы сидели у меня, и он читал нам с Н. Каретниковым свои стихи. И как–то по–особенному прозвучал его "Псалом" о том, как человек искал "доброго Бога". Нет, вера его была не слепой, не способом убежать от жизни. Она была мудрой и смелой. В нем жило чувство истории, сопричастности с ней, историческая перспектива, которая связывалась для него с христианством. Об этом, о сокровенном, Галич пел и писал мало. Это было прекрасное целомудрие души. Есть вещи, которые нельзя выставлять напоказ. Но в своем пронзительном стихотворении "Когда я вернусь" он не случайно назвал наш маленький храм, "где с куполом синим не властно соперничать небо", своим "единственным домом".
Однажды, когда он прочел нам стихи о том, что надо бояться человека, который "знает, как надо", Каретников спросил его: "А Христос?" Александр Аркадьевич ответил: "Но ведь Он не просто человек…"
Это было тяжкое, мучительное расставание. Он приехал ко мне домой с гитарой. Пел для собравшихся друзей. Голые ветки за окном и пустое пространство напоминали о бесприютности. Мы смеялись и плакали. Никто не мог обвинять в противоречии человека, написавшего "Песнь исхода". Было видно, что его довели до точки. Больше он не мог выдержать. Есть моменты, когда суждено дрогнуть и сильному. При прощании у него он хотел подарить мне на память – как символ – дощечку, с которой легко стираются написанные слова. Горький сувенир времен молчания. Но я отказался взять. "Придет время, еще будем говорить вслух", – сказал ему я. Рассчитывать, правда, было не на что. Но я верил и надеялся. Уже "оттуда" он писал мне в коротенькой записке, что никогда там не привыкнет. Это и неудивительно. Он был плоть от плоти нашей жизни, Москвы, нашего непростого времени, полного глубокого и вечного смысла.

Александр Аркадьевич Галич
На самом деле это был все–таки волевой акт искания правды. Искания! И он метался, он колебался, он видел, что люди, которые выступали в защиту правды, как бы под знаменами ее, они, в конце концов, были не такими, что в них сидел тот же самый вирус насилия, вирус тоталитаризма, вирус такого ложного догматизма и приспособления. Но даже те, которые, казалось бы, были бескомпромиссными, они были безобидными для общества лишь потому, что их не пускали к рукояти, а если бы их пустили, то неизвестно, как бы все было. И вот тогда в этих поисках он понял правду как какое–то служение. Ведь ради чего он все это делал? – что, узкая слава в узких кругах? под молодежные аплодисменты? Нет. Он был большой человек, мощный, такому тесно на самом деле в тех пределах, в которых он жил. Он был крупной фигурой, крупным характером, и все равно он все это принес в жертву исканиям правды. Его духовный внутренний, сокровенный путь – это завершение этого поиска. И это было совсем не просто. И этот поиск привел его и к внутреннему пути, и к внешнему изгнанию, поэтому слова Христовы о том, что «блаженны изгнанные правды ради», они справедливо написаны на его гробнице, на его могиле, и на могилах многих других людей, но здесь это особенно звучит. Но я бы хотел подчеркнуть, что это блаженство. Блажен – это значит в высшей степени счастлив. На самом деле полнота раскрытия человеческого "я", его блаженство, заключается совсем не в том, чтобы не иметь препятствий, а в том, чтобы препятствия преодолевать, в том, чтобы быть победителем, несмотря на то, что вокруг бушуют черные бури, и быть изгнанным правды ради – это не несчастье, а величайшая честь. Когда–то было сказано, что у нас высоко ценят поэзию, потому что за стихи расстреливают. Он это чувствовал, и его жизнь поэтому стала цельной, завершенной, несмотря на кажущийся трагический конец. Я не верю ни во что случайное и слепое, потому что в таких событиях всегда есть высший смысл, который открывается только с расстояния.
Блаженный – значит счастливый, и он – человек низвергнутый, непризнанный, осмеянный, изгнанный – тем не менее нес свое счастье внутри. Вот это самое главное.
Из книги «Заклинание добра и зла» (M, 1992)
Веду переписку, беседую…

Запрестольный образ в алтаре Сретенского храма Новой Деревни
[Из писем Зое Маслениковой]
…Я всегда радуюсь, когда лишний раз остро ощущаю осмысленность, целенаправленность течения жизни, значимость встреч, совпадений, откликов, отзвуков.
Январь 1969 г.
Сегодня первый раз служил в новом месте. Тарасовка покинута. Теперь я обитатель сверхкрохотного деревянного храма. Местечко очень глухое, но на шоссе.
Чувствую огромное, давно не испытанное облегчение. Как будто жернов с шеи свалился. Спасибо, что Греция[174] Вам нравится. А то я уже почти возненавидел эту гору бумаги, нет сил к ней прикоснуться и мнительность одолевает. Но все это пустяки.
13 февраля 1970 г.
Многоуважаемая Е. Н.!
Двадцать лет я служу Церкви Христовой своими малыми силами, из них двенадцать у Престола Божия. Я сознаю, что полон слабостей, недостатков, грехов, разумеется, не чужд и ошибкам, но, сколько помню себя, всегда был верен учению Церкви, я вынужден коснуться здесь личной стороны дела.
Вам хорошо знаком тот факт, что в интеллигенции предреволюционного периода необычайно широко распространились неверие, позитивизм и отрицательное отношение к Церкви. Многие верующие культурные люди Вашего поколения пришли ко Христу уже сами, независимо от своих родителей. Мне счастливо удалось миновать эту полосу поисков, так как я был рожден в православии не только формально, но и по существу. Семья наша издавна считала себя живущей под благословением о. Иоанна Кронштадтского. Он вошел в ее жизнь не из книг. Мамина бабушка, которая еще нянчила меня, бывала у о. Иоанна, и он исцелил ее от тяжкой болезни. При этом он отметил ее глубокую веру, хотя знал, что она не была христианкой, а исповедовала иудейскую религию.

Мария Витальевна Тепнина
Думается, что благословение о. Иоанна не осталось втуне: мать моя с раннего детства прониклась верой во Христа и передала мне ее в те годы, когда вокруг эта вера была гонимой и казалась угасающей, когда многие люди, прежде бывшие церковными, отходили от нее. Это, как Вы знаете, была трагическая эпоха, требовавшая большого мужества и верности. Поколебались многие столпы (вспомните судьбу Дурылина или Лосева!). И мне остается только быть вечно благодарным матери, ее сестре и еще одному близкому нам человеку[175] за то, что в такое время они сохранили светильник веры и раскрыли передо мной Евангелие.
Наш с матерью крестный, архимандрит Серафим, ученик оптин–ских старцев и друг о. А. Мечева, в течение многих лет осуществлял старческое руководство над всей нашей семьей, а после его смерти это делали его преемники, люди большой духовной силы, старческой умудренности и просветленности. Мое детство и отрочество прошли в близости с ними и под сенью преподобного Сергия. Там я часто жил у покойной схиигуменьи Марии, которая во многом определила мой жизненный путь и духовное устроение. […] Я тогда, в сороковые годы, считал (да и сейчас считаю) ее подлинной святой. Она благословила меня (23 года назад) и на церковное служение, и на занятия Священным Писанием. У матери Марии была черта, роднящая ее с оптинскими старцами и которая так дорога мне в них. Эта черта – открытость к людям, их проблемам, их поискам, открытость миру. Именно это и приводило в Оптину лучших представителей русской культуры. Оптина, в сущности, начала после длительного перерыва диалог Церкви с обществом. Это было начинание исключительной важности, хотя со стороны начальства оно встретило недоверие и противодействие. Живое продолжение этого диалога я видел в лице о. Серафима и матери Марии. Поэтому на всю жизнь мне запала мысль о необходимости не прекращать этот диалог, участвуя в нем своими слабыми силами.
Не могу не вспомнить с глубокой благодарностью и тех моих старших друзей "мечевского" направления (ныне здравствующих и умерших)[176], которые с моих отроческих лет помогали мне и направляли духовно и умственно. Со студенческих лет особенное значение имели для меня пример и установки моего духовника о. Николая Г[олубцова], который до самой своей смерти не оставлял меня своим попечением и дал мне еще один высокий образец «открытости» к миру, служения в духе диалога. Под знаком этого диалога проходило и проходит мое служение в Церкви. И теперь, надеюсь, для Вас ясно, что я потому и писал свою книгу на современном языке, потому избрал тот, а не иной метод, что для меня это было составной частью служения и диалога, которые я взял не сам на себя, но имея благословение и живя под руководством.