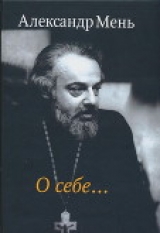
Текст книги "О себе…"
Автор книги: Александр Мень
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
И вот он приехал ко мне, в мое «аббатство», и говорит: «Есть у меня друг, – кажется, они даже учились вместе, – тоже историк, Лев Лебедев[112]. Он научный сотрудник истринского музея Новый Иерусалим, стал православным, обратился и даже подумывает, не подать ли ему в семинарию. И вообще хочет с работы уходить и идти уже по церковной стезе. И начать он хочет с того, чтобы стать псаломщиком. Возьми его к себе». А вместе с ним, рядом, – юноша с белесым лицом, оттопыренными ушами, улыбкой до ушей, сугубо интеллигентный человек, как я сразу почувствовал. Быстро все схватывает, говорит вкрадчиво. Но Вася мне не сказал одного, самого главного: что он «мертвый» алкоголик. С этого все и началось.

После литургии. Пасха. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Алабине. 1963 г.
Лев Лебедев продолжал жить на территории музея–монастыря Новый Иерусалим, а ездил к нам, в Алабино. Я его учил читать, петь, мы взяли его в штат, и он был псаломщиком. Но через несколько дней меня встревожила одна история, вообще–то ничтожная. Он начал меня спрашивать о разных вещах – вот, отец Александр, то–то, то–то – а когда я ему высказывал свое мнение, он мне начинал отвечать весьма смутно. А мне это было уже знакомо по психопатам. Психопат отличается тем, что не может высказать свою мысль. Он говорит красиво и много, а ты не понимаешь, что он хочет сказать, – и он сам не может дойти до этой сути. И вот, этот Лев темнит и темнит, и темнит – я ему одно, а он что–то другое. Красиво темнит!
Потом наступил какой–то праздник. Собрался народ; все пришли, сели, выпили. Надо сказать, я никогда не был против хорошего застолья с хорошей выпивкой, поскольку здоровье мне позволяло. Я пуританские взгляды в этой сфере осуждал. Хотя потом мне это все менее и менее стало нравиться – я просто решил, что у нас пить не умеют, и нечего устраивать этих застолий. Пить надо тем, кто умеет и кто получает от этого дружескую радость. А те, кто, когда напьется, говорит одно, а потом, протрезвев, – другое, – хуже нет, ненадежные люди! Это в деревне у нас сколько раз бывало: мы выпивали с местными парнями, и они мне клялись, что в глубине души у них есть вера, что они придут в церковь, – но я уже не слушал их, потому что знал: когда они протрезвятся, не придут ни за что. А тут мы сели, было много молодежи, разных ребят, и наш Лева Лебедев начал что–то вещать и проповедовать. (Он очень красиво говорил, у него уже была одна печатная работа – в обществе «Знание» вышла брошюра по истории[113].) Вдруг он стал что–то выкликать, а потом свалился на пол и заснул. Это первое, что меня насторожило, – такова обычная повадка алкоголиков.
Потом он приехал со своими приятелями, очень симпатичными, милыми, живыми и общительными – люди из тех, которые сразу же общаются с вами так, как будто знают вас всю жизнь (поэтому напоминают гомосексуалистов). Они говорили массу комплиментов, но как–то быстро напились и «выпали в осадок». Я только потом понял, что это сорт интеллигентных алкоголиков. Но опять–таки я как–то на это не обращал внимания: мало ли, ну устал, выпил, может, он еще и до этого выпил. Но потом мы с Сережей – с отцом Сергием – стали видеть, что что–то здесь не в порядке… И вообще мне Левино настроение стало не нравиться. После какого–то праздника идет и возглашает: «Теперь будем читать Тютчева!» Некогда было – я устал, был загружен работой, – а у него такая богемная обезьяна жила в душе, которая подзуживает: «сядем и будем читать Тютчева». Может быть, конечно, в этом ничего дурного нет, я это приветствую – я сам люблю Тютчева. Но мне не надо, чтобы мне Лев Лебедев читал Тютчева – я сам прочту.
И в скором времени он нас всех погубил. Произошло это следующим образом. У Лебедева на работе был сотрудник[114], садист (по моим наблюдениям), который настолько ненавидел Церковь и веру, что, например, приобретал иконы, чтобы чертить на них гадости, выжигал глаза святым; использовал дароносицу для пепельницы или мусорницы и т. п. Рядом с монастырем был источник, и, когда бабки туда ходили, он, изображая из себя якобы какого–то представителя власти, подходил к ним, отнимал у них бидоны с водой, в общем, пугал их до смерти. И так далее. Так вот, оказывается, как я потом узнал, наш Лев Лебедев в пьяном виде похвалялся этому своему сотруднику, что он все равно привезет священников и освятит весь музей, потому что это – оскверненная святыня. И тот, видно, был настороже. Я ничего этого не знал.
А за несколько дней до «недоразумения» Лев в мое отсутствие, пьяный, притащил мне куски керамики, которые валялись у них в музее. Мне они были не нужны, но он говорил что–то насчет того, чтобы вделать их в алтарь… Подарил несколько старинных книг. Я посмотрел: на них нет никаких печатей – хотя все было явно музейное. Это все осталось у меня…
И вот, буквально через несколько дней – это было первого июля, на праздник [иконы] Боголюбской Божией Матери – мы решили поехать [в Новый Иерусалим], просто в гости, посмотреть. Я до того никогда там не был. Мы отправились на церковной машине. Ехал со мною Эшлиман со своей женой; Наташа[115] с детьми в это время была на Юге.
Когда мы туда приехали, я сказал Льву Лебедеву (я уже знал, что он алкоголик): «Лева, пока мы находимся здесь – вы не должны пить вообще, ни капли. Всё!»
Пока мы ходили и все осматривали, я начал разговор с его женой, гречанкой по национальности. Она была настроена очень антирелигиозно, а тут я как–то ее сломил, и мы начали первый разговор «по–хорошему». Но Лев таки успел «сбегать», где–то выдул две бутылки красного вина и уже был хорош. Когда мы стали уходить, он мне положил в чемодан еще какие–то осколки, которые бы нам могли пригодиться для ремонта церкви: мраморный круг с дырочками, который можно использовать как подсвечник, еще что–то… Я с этим чемоданом выхожу – и вдруг вижу (мы были в кабинете Лебедева), как пламенная гречанка бросилась на вошедшего милиционера и выставила его вон. Я выглянул в окно, увидел, что все мечутся по двору, и понял, что надо отступать, немедленно!
Я махнул Эшлиману, и тут раздался шум – это выскочил пьяный Лев Лебедев и нанес несколько оскорблений действием своему коллеге, который, как я узнал впоследствии, вызвал милицию и заявил, что попы приехали что–то там отбирать, – в общем, что–то непотребное творить. Сокрушив начальника и упав на землю, он был тут же водружен мили–цией на мотоцикл и увезен в соответствующее место. Мы же все быстро сели в автомобиль и отбыли.
Приехав, я посмотрел все эти обломки, которые он мне принес, и ликвидировал их вообще, потому что чувствовал, что сейчас будет какое–то происшествие.
И действительно, ровно через день приехала оперативная группа с визой прокурора на обыск по изъятию ценностей, которые я «похитил» в музее Нового Иерусалима. Вместе с опергруппой находится и этот «антирелигиозник». Он всячески потешается, начинает изучать мою библиотеку, говорит: «О, о, мы–то думали, что это мы так, а на какую мы щуку–то напали!» Так они говорили между собой, а я слышал: «Вот это щука…» У меня лежали разные иностранные журналы, церковные и так далее… «Откуда это у вас?!» – говорит он грозно. – «Это ж наши издают!» – отвечаю я (это как раз был «Stimme»[116] – «Голос православия»).
Я–то более всего боялся того, что там были некоторые вещи[117] нашей старосты, которые она использовала, чтобы мы могли добывать деньги для ремонта храма. Если б нашли – ей несдобровать. В общем, все это шло вот так, напряженно – три сантиметра отделяло его от этого.
Потом ко мне вышел милиционер и сказал: «Слушай, давай три рубля и – в общем, мы как–нибудь все это сделаем». Я, конечно, с радостью его ублаготворил. И милиционер говорит: «Ой, сколько книг, когда ж тут служить можно, тут не служить, все надо читать…» Но те не отставали – вот этот «антирелигиозник» и бывший с ним «гэбэшник». «Гэбэшник» был молодой и говорил: «Знаете, я в этих книгах не понимаю вообще, посмотрел – ну, вроде бы ничего тут нет». Забрали у меня машинописные выписки из «Доктора Живаго» Пастернака, взяли две иконы – сочли, что это музейные. И взяли те старые книги, которые Лебедев мне подарил, и несколько обломков керамики – как вещественное доказательство того, что он украл и мне передал краденое.
Но этот «гэбэшник» не успокоился. «Мы пришлем специалиста осмотреть вашу библиотеку», – сказал он и «запечатал» мне дом. Я остался на террасе, как глупый. А тот «антирелигиозник» – фамилию его я уже забыл[118] – говорит: «Нам надо с вами подискутировать. Я к вам приду, и мы побеседуем». Я говорю: «Если у вас будет ордер – приходите». Он говорит: «Ну зачем вы так, Александр Владимирович, – что вы!..» – «Нет, – говорю, – с вами мы будем разговаривать, только когда у вас будет ордер. А так – арривидерчи. Всё!»
Они ушли, я остался один и пошел дописывать «У врат молчания» – мне осталось всего три странички. Думаю: «Нет, гады! Я все равно добью то, что положено в этот день!» И удалился в свой буддизм… Я находился один, как я уже говорил, – семьи не было. Комната опечатана. Но у меня там кое–что было, что могло быть использовано «врагами» против меня, – какие–то машинописные вещи (сейчас я уже не помню, что именно). Ничего по–настоящему криминального не было, но все–таки я бы не хотел, чтобы они там были… Ну а кроме того – возьмут и не отдадут. (Кстати, они мне и не вернули ни иконы, ни эти выписки – ничего.) Стал я гулять по двору в раздумье. Гулял, гулял. Потом так задумался, что – подошел, дернул дверь и – сорвал эти все печати. «Ну, – думаю, – раз уж я их сорвал, так я должен почистить». Я там «почистил», кое–что унес, а сам думаю: «Ну, что теперь будет?»
Вдруг идет мой брат[119]. Как–то мне стало веселей – мы с ним обдумали это дело. Они сказали, что приедут на другой день. И я решился: пошел к одному административному лицу нашей деревни, с которым я был в большой дружбе, и говорю: «Так и так, такая картина». Он говорит: «Они были у нас, допрашивали, мы сказали о вас самое хорошее, что никакой у вас антисоветчины нет и не было, и вообще они не имеют права оставлять дом опечатанным – они должны были закончить обыск». – «Тогда я сейчас к ним поеду!»
Сели мы в машину, и отправился я в их ГБ – Красноармейское, кажется. Приехали мы туда – и никак не найдем. Я какого–то милиционера спрашиваю: «Где тут ГБ?» Он на меня посмотрел, как на гадюку, – оскорбился, – но все–таки показал. Вошел я в ГБ. Там пусто. Сидит какой–то малый, пишет заявление. Я спрашиваю: «Где тут „эти“?» – «Вон они, зарядкой занимаются». (Смотрю – за окном молодые парни бегают по кругу.) Я говорю: «А вот такой–то мне нужен». – «Уехал куда–то… А я, – говорит, – сижу, пишу заявление, уходить хочу отсюда. Не нравится мне». – «Да что же не нравится?..» Так мы побеседовали, я оттуда ушел и написал перед этим записку, говорю: «Вы тогда ему передайте записку». Написал: «Я ждал вас два дня, приехала моя семья, прошу меня больше не беспокоить!»
А что оказалось? Пока я ездил, он приехал туда – а там замки кругом, я замки на дом повесил. В общем, мы разъехались. А когда я узнал, что они вообще не имели права дом оставлять опечатанным, – они как–то поотстали.
Но что значит «поотстали»? Получил я повестку в прокуратуру: решили устроить грандиозный процесс. Самого Руденко – генерального прокурора – на это дело пустили, он начал всем этим командовать. Открываю газету районную, «Ленинский путь» (или как там она называется) – в ней статья: «Фальшивый крест»[120]. В карикатурном виде изображается и без того карикатурный Лебедев, а потом говорится, что он пригласил священников – Эшлимана и Меня, – которые приехали туда с девицами (это жена Эшлимана считалась девицей!) и ограбили музей, и пели «Шумел камыш», и вообще Бог знает что. «Ну, – думаю, – дела. Что теперь будет…» И на допрос.
Допрос длился семь часов и, надо сказать, произвел на меня очень отрадное впечатление, потому что следователь был все–таки из прокуратуры, отнесся хорошо, составил все как надо. Затем пришел другой. А я – вообще ни при чем. Я – ничего не брал. «Откуда, – говорю, – видно, что эти книги музейные?» Потом выяснилось, что при обыске они у меня стащили мою фотографию – тогда уже я стал на них поднимать голос и говорить: «Вы что ж, пришли как представители закона, а какое вы имеете право? Где у вас в акте и в описи отмечено, что вы взяли мою фотографию?» Один следователь говорит другому: «Да отдай ты ему фото!» В общем, такая началась тут перепалка… Фотографию я забрал – очевидно, они хотели использовать ее для фотомонтажа или для публикации в какой–нибудь газете.
В общем, когда я во второй раз прихожу на допрос, мне следователь уже намекает, что можно не беспокоиться. Что оказалось? Хотели раздуть грандиозное кадило, и тут просто Бог спас: передали [«вещдоки»] экспертам высшего класса, и эксперты сказали, что все эти книги и вообще все, что там есть (учитывая, что на них нет никаких опознавательных знаков), – в сумме представляет ценность 10 или 15 рублей. Все эти книги выглядели очень торжественно, в кожаных переплетах, а на самом деле они были пустяковыми.
Тут они как–то сразу пообмякли. Однажды, когда я приходил, – открыл дверь, смотрю: Лебедева допрашивают. Потом устроили обыск у Эшлимана… Воротили как следует. Но Эшлиман, как говорится, вышел здесь благополучно. Он только этой газетной статьей отделался.
А у меня дело было похуже. Перед этим у меня было еще одно приключение. Приходит некто Лясунов, заведующий охраной памятников, и говорит: «Вот у вас тут сломаны колонны кое–где». В колоннах выбоины были: во время войны, когда шли бои, осколки попадали в белокаменные колонны (а у нас много было этих колонн, вся колокольня по периметру была ими окружена – колонны большие, по 15 метров высоты); мы заделали их известкой, штукатуркой. А он говорит: «Теперь вы должны все это вынуть, достать белый камень и заделать белым камнем». То есть он предложил сделать нечто совершенно невозможное, причем за короткий срок. Я говорю: «Мы же на этом погорим». А потом вижу его выразительное лицо, смотрю и говорю: «Сколько?» Он говорит: «Три» – я ему выкладываю. А его приятель, который с ним приехал, тоже из этого общества охраны, сидит в стороне и читает Достоевского. Я пожал им ручки и отправил.
Оказывается, он объехал восемь или десять церквей, проделал эту операцию, а на одиннадцатой – батя, с которого он заломил больше всех (у него все возрастали аппетиты), сказал, что принесет ему, заметил номера денег и «стукнул» в ОБХСС или куда там следует, на Петровку. И Лясунова взяли с поличным с этими деньгами. Начался процесс. Нас всех стали таскать, и адвокат его говорит, что надо нас всех посадить, поскольку мы давали взятки.

Литургия в пасхальную ночь 1964 г. В алтаре. За о. Александром стоят Евгений Барабанов, Александр Борисов, Александр Юликов и Александр Ульянов
Так что тут все наложилось одно на одно. Что будет дальше – я уже не знаю. Наступает отпуск, и я чувствую, что надо посмотреть мир, пока тебе не дадут смотреть через маленькое окошко. И мы с женой отправились по Волге на пароходе. Я был уже спокоен, потому что «У врат молчания» было закончено, и я уже обдумывал, как мы начнем греков и, самое главное, – где мы их начнем. И тут – приезжаю я, по–моему, в Астрахань или еще в какой–то город – телеграмма от Сережи[121], моего сослужителя: «Приезжал Трушин[122] (это уполномоченный по делам Церкви), срочно выезжай». В общем, пока я ехал по Волге, я в каждом городе находил отчаянные телеграммы: «Приезжай срочно». Оставив Наташу и мешок с книгами, которые я брал с собой, я в Саратове сел на самолет и прилетаю сюда.
А тут полный разгром. Приехал Трушин и говорит: «Где он, этот злодей – про которого в газете, который уголовник и так далее?!» – «В отпуске», – отвечает отец Сергий. «Никаких отпусков не полагается!» – ну, в общем, уехал. Я прихожу к нему. Он: «Ну, что с вами делать?» Он работает с сорок пятого года, большой чин в ГБ имеет – не знаю, какой – полковник или кто. Человек не из приятных – хотя, впрочем, я с ним, как говорится, чай не пил. «Что с вами делать?» Я говорю: «Ничего». Он говорит: «Вот, написано: „Шумел камыш“ и прочее». – «Знаете, – говорю, – я столько не пью, в чужих домах тем более. „Шумел камыш“ я даже текста не знаю». – «Что с вами делать?» – наверное, раз пятьдесят повторил. «Ну, пока не служите, пока не служите». Потом звонят ему. Я чувствую, что звонят из «какого–то» учреждения. «Все отрицает, – говорит, – все отрицает». Я ему сказал, что все это выдумка чистой воды. Он: «А какие–то там девицы?..» – «Знаете, – говорю, – вы же понимаете, как все это пишется…» Понимаете, это шестьдесят четвертый год, Хрущев еще у власти, гонение идет полным ходом – каждый номер «Науки и религии» выходит с рубрикой «Факты обличают», и там поносят всех и вся, кого попало. Все местные – районные и областные – газеты полны клеветы, инсинуаций и всяких поношений, и каждый ищет вот такого нового факта. «Ну, – думаю, – все». Он говорит: «Ну, не служите пока…»

О. Александр и о. Сергий Хохлов. Пасха . 1964 г.
«Все, – думаю, – рухнуло наше аббатство».
Приезжают ко мне Женя Барабанов[123], Саша Юликов[124] – юноши, которые тогда только что кончили школу, – я им говорю: «Накрыли нас хорошо. Но будем надеяться на милость Божию, что будет дальше, посмотрим».
И действительно, произошло чудо. Я еще не пропустил ни одной службы. И тут съезд уполномоченных. Какие им дали инструкции – кто их знает! Но вызывает меня секретарь епархии и говорит: «Ну что, вас там сняли? Ну, погуляйте месяц–другой, мы вам найдем местечко, не беспокойтесь, все будет в порядке – Трушин хороший человек». Я говорю: «Через три дня Успение, что ж мне, не служить?» – «Ну, позвоните, – говорит, – уполномоченному». Я ему звоню и говорю: «Алексей Алексеич, вы говорили не служить, но я пока в воздухе, а ведь Успение – как же служба пройдет без меня?» Он отвечает: «Ну, послужите на Успение, а потом ищите другой приход». То есть вся схема изменилась.
Я на Успение послужил и после службы, сразу сев на машину, приезжаю в Тарасовку (мне секретарь сказал, что в Тарасовке освобождается место[125]). Приехал туда, посмотрел: церковь грандиозная, все нормально. Хотя, конечно, там все оказалось значительно хуже, но в этот момент мне выбирать было нельзя: либо пан, либо пропал. И на другой же день после Успения (или на третий) я заключил договор. А там, в Алабине, продолжался разгром: сняли старосту, всех разогнали. «Аббатство» было разрушено.
А Лев Лебедев со своей женой периодически появлялся – его отпустили – и спрашивал, что ему делать дальше. Потом он пристроился при архиепископе Питириме[126] и стал писать ему статьи в ЖМП. Но однажды, когда он пришел к Питириму, напившись до совершенного зверства, тот испугался и сказал, чтобы он не приходил больше. И тогда он поехал на Волгу к владыке Саратовскому Пимену (Хмелевскому)[127] — сумел его обворожить, как обворожил меня, и тот его рукоположил. Но потом стал опять валяться по разным подворотням, и владыка Пимен его из своей епархии изгнал. Затем поступил в семинарию – его приняли заочно, потом очно (я сейчас уже не помню точно). Сначала он был фанатичный приверженец официальной иерархии, о. Николая и о. Глеба он поносил; а теперь впал, наоборот, в оппозицию и старооб–рядствование. Недавно я встретил его в Лавре с длиннющими волосами, длинной жидкой бороденкой и с огромной скуфьей – он шествовал, как протопоп Аввакум, рядом с дьяконом Хайбулиным[128] (тоже оригинальный человек) и говорил мне о том, что все негодяи. Когда я подошел под благословение к Никодиму [Ротову], он сказал, что Никодим антихрист и вообще… Потом Рожков вдруг сказал мне со странной ухмылкой, что теперь Лев Лебедев духовник его жены, которая уже шестой раз лежала в психиатрической больнице. Я диву дался. Пришел, смотрю: лежит все тот же пьяненький Лева, который открывает один глаз, – и все воскресло в моей памяти… Не знаю, что с ним будет происходить, сейчас он очень интересуется ролью масонов и сионистов в губительных последствиях… и так далее. […]
Перехожу я в Тарасовку – а тут мне приходит вызов на Петровку. То есть на Петровку вызывают несчастную старосту нашу – потому что ведь она же должна была – якобы – давать эти деньги, взятку. Я знаю, что она там вообще погибнет, понимаю, что с ней будет, – так что я решил все это принять на себя и отправился на Петровку, 38. Это было менее приятно, конечно, чем тот допрос. Вертели–вертели – в общем, мы все едва не угодили за решетку. Процесс длился долго, мы без конца ходили и говорили только одно: что он нас шантажировал, что мы эту взятку дали не просто из любви к искусству, а мы дали ее, потому что у нас не было другого выхода. Тут получилась такая маленькая взаимная услуга: товарищ, который приезжал с Лясуновым, очень боялся, что и его втравят – Лясунов ведь с ним, конечно, делил деньги, но я сказал, что он к этому никакого отношения не имел и что денег он не получал. Тогда, когда его спросили, действительно ли предложенные работы были невыполнимы, он сказал четко, что невыполнимы, – так что это был шантаж. Лясунову дали восемь лет. Оказалось, что он набрал колоссальную сумму. Прокурор в своей речи рассказал, что Лясунов без конца писал доносы на свою любовницу – продолжая с ней жить! – и это, конечно, «присяжных» окончательно «ухайдакало», и они уже не выдержали. Тяжелое это все было дело – причем это шло одно за другим. Я чувствовал, что тут так просто не обойдется.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Тарасовке
Однако отец Николай Эшлиман и другие продолжали обдумывать проблему создания какого–нибудь письма. Мы встретились у меня в Семхозе[129]: приехал Анатолий Эммануилович, отец Дмитрий и они оба – Эшлиман и Глеб. Причем Анатолий Эммануилович привез маленький – страниц на десять – проект письма к Патриарху на тему о том, что все произошедшее незаконно, и вообще сказал, что надо действовать «против». Но мы с отцом Дмитрием Дудко образовали правую фракцию и сказали, что без епископа мы не будем действовать. А Николай и Глеб остались в неопределенности, и тогда я предложил обсудить это дело соборно. Мы решили созвать такой «собор», более расширенный.
И вот у Эшлимана на даче собирается десять человек для этого обсуждения. Тут надо сделать маленькое отступление. Прихожане собрали Эшлиману деньги, чтобы он купил дачу в Химках и переехал туда совсем. Я сказал тогда жене: «Здесь у нас дружба врозь – кончится». Я знал, что Николай был человек малоподъемный, с трудом куда–либо ездил, я знал, что он там погрязнет и мы с ним уже не сможем больше общаться – я к нему ездить в Химки, конечно, не буду. Так все и произошло. Это очень важный момент в его жизни. В этих «Химках» была заложена масса злого для него. Там, в Химках, мы и собрались для обсуждения этого вопроса.

В Московской духовной академии у ректора архиепископа Филарета (Вахромеева)
Всем было предложено высказать свое мнение, и какие–то мнения произносились, но кончилось это собрание тем, что было предложено пригласить кого–нибудь из людей более старших – мы все были молодые, – в частности, Анатолия Васильевича Ведерникова. Некоторые не соглашались с его кандидатурой, другие были за – но, в общем, решили пригласить и его, и владыку Ермогена.
После этого собора мы пришли к какому выводу? Надо все–таки выработать проект послания – Анатолий Васильевич даже предлагал, чтобы текст до отправления был зачитан лично Патриарху в Елоховском соборе во время службы. Кое–кто выйдет и – «Ваше святейшество!..» – и зачтет. Владыка Ермоген это одобрил. И стали думать, какой же должен быть текст. Тогда я написал текст на три страницы, где было все коротко изложено. Смысл был такой: что реформа 1961 года противоречит не только церковной практике, но и государственным законам, потому что священник теперь не лишенец. Если он не может быть принят в церковную общину, то получается парадокс: он может быть избран членом местного совета, но не может быть избран членом церковного совета. В основном мой документ состоял из вопросов – в большинстве своем риторических: как вообще совместить с церковной практикой нынешнее положение…
Тогда отец Глеб сказал: «Нет, это для них слишком непробойно. Их надо долбить! долбить! так, чтобы до них дошло». – «Ну, – ответил я, – если это вам не нравится, то пишите сами». Я знал, что Глеб никогда ни одной строчки не напишет, а Николай вообще–то пишет, но очень медленно – страшно медленно – сверхмедленно! – и никогда не доводит до конца. Поэтому я был не особенно взволнован. Тем более, что тут произошло очередное ЧП, и мне было не до этого, потому что в это время стали искать роман Солженицына – то ли «В круге первом», то ли «Раковый корпус»[130]. Был у Солженицына приятель, некий Теуш[131] — Царство ему Небесное, он уже умер, – и от него почему–то стало известно, что он передал мне какие–то материалы, связанные с этим романом. Он мне действительно передал свои очерки по поводу Исаича[132]. Я их почитал – это мило было – и отдал почитать Толе Ракузину[133]. И вот, сижу себе в Семхозе и смотрю: идет у меня по участку целая вереница мужиков в пиджаках и галстуках. Я спускаюсь вниз – они так вежливо говорят: «Мы из Комитета государственной безопасности. Есть ли оружие?» – «Нет, конечно, нет!» – «Антисоветская литература?» – «Нет, Исаич, „Костя“ – разговорные „псевдонимы“, употребляемые для конспирации о. Александром и его окружением.
„Нет, ничего не держим, прошу…“ Восемь часов они ковырялись у меня тут и потом говорят: „Давайте в церковь поедем“. Я говорю: „Я часть из вас тут оставляю – вы продолжайте это дело, я вам доверяю, вы официальные люди; найти у меня вы ничего не найдете из того, что вы ищете“. Они сказали: „Мы ищем Солженицына, роман“. – „Я его, – говорю, – в глаза не видал никогда. Ищите, а я поеду с другими в церковь“.
Приехали мы в Тарасовку, пришлось мне открывать сторожку. Но они вели себя корректно и даже сказали: „Чтобы вам не делать неприятно, мы остановимся вдали и придем пешком – вы можете назвать нас кем угодно“. Поэтому мне пришлось плести какую–то ерунду, что вот, пришли что–то посмотреть. Пришлось их пустить всюду, даже попросились в алтарь. Я говорю: „Ну, кто крещеный?“ – „Вот, один“. – „Пойдемте, я вас провожу“. А у меня в алтаре был ящик, где я держал свои рукописи и книги. Я говорю: „Вот, пожалуйста“. Он говорит: „Это богословие меня не интересует“. Тогда еще богословие их не интересовало… Они искали целенаправленно Исаича[134].
Поехали обратно – как–то я с ними разговорился, и даже посмеялись мы, и вообще – ехали непринужденно. Я говорю: „А что вы пристали к старику–то, он уже на ладан дышит – если он писал что–то такое про лагеря, так теперь все пишут про лагеря…“ Да, а тут произошел забавный эпизод. Мне один человек дал стихотворение дурацкое – против Хрущева – как раз Хрущева сняли: „Тут вдруг Брежнев говорит: а тебе народ простит? Светлым ленинским идеям…“ – и так далее, в таком вот духе. А они раз – бумажку у меня прямо из кармана рясы, – я еще даже сам не прочел, думаю: „Что там такое написано?..“ Они сразу переглянулись, и все – в эту бумагу. Я думаю: „Ну, сейчас…“ Они: „Александр Владимирович, что же вы такие вещи держите?“ А я говорю: „А что тут такого? Конечно, с точки зрения поэтической это слабо, но идейно там все выдержано“. Они: „Вот, Брежнев“ – увидели имя! „Смотрите, что он тут говорит? – Указываю. – Он говорит то, что надо! Нескладно написано, но от души!“ Все! Замолкли, поняли, что дело тут, конечно, не склеилось.
Один очень был вредный – и так копался, и так копался – ну ничего… Ковырялись они там, ковырялись – Наташа говорит им: „В помойке поищите!“ Он говорит: „Вы не иронизируйте, это все для вас может плохо кончиться“. Мы вернулись – тут они уже, вижу, опали, поняли, что – нет… А я говорю: „Нет, я ничего не знаю – не видел, не слышал…“ Ничего они не взяли. Один, правда, нашел у меня дневничок. У меня не было никогда привычки писать дневник, и вот однажды бес меня попутал написать что–то такое, незаконченное. Но он тоже оказался вежливым: взял его – я вижу, он читает его с большими глазами, – потом спрятал и не взял.
Они уехали с совершенно пустыми руками. Причем, когда уезжали, сказали: „А ведь мы могли бы посмотреть и нижний этаж, но видите, какие мы гуманные – не смотрели“. А у меня там лежало! Накануне – это было тринадцатое число сентября – были мои именины, приехали все, и мне Женька Барабанов говорит: „Людей берут, вообще стало тревожно“. Я думаю: „А, от греха…“ Собрал какую–то там ерунду всякую, целый ворох, и на террасе спрятал, внизу. Накануне! Собственно, ничего не произошло, а просто атмосфера такая была. И вот, они как раз не смотрели. Я говорю: „Да нет, ничего нет… Теперь даже приятно, что вы побывали, потому что, во–первых, я теперь уборочку сделаю, а во–вторых, я теперь знаю, что у меня ж наверняка ничего антисоветского нет – у меня вот ваш документ, что вы тут все смотрели“.
На фоне этих бесконечных приключений мне было уже не особенно до того, чтобы сочинять еще какое–нибудь письмо. И тут как раз пришло сообщение от Анатолия Васильевича Ведерникова (по непонятным причинам я не мог с ним встретиться): что это дело надо сейчас прекратить, что письмо сейчас писать не надо. Они обсудили это с кем–то, по–моему, со Шпиллером[135], и решили, что сейчас это будет несвоевременно. Это при Хрущеве имело смысл. Хрущева сняли, начались какие–то перемены, и сейчас, наоборот, речь идет о том, чтобы завоевать хоть какую–то минимальную стабильность.
То же самое решил владыка Ермоген. Глеб Якунин с ним встретился и потом рассказывал: „Я поговорил с ним сухо и вообще…“ – понес он его, короче. И они с Эшлиманом все равно начали писать. У меня не было никакого страха за дело, потому что они оба служили, и Дудко служил, и каждый из нас делал свое дело, все мы общались, встречались, а эта „улита“ – она могла ползти до сих пор, вот как мы с вами сидим здесь, пятнадцать–семнадцать лет спустя, – они бы и до сих пор его писали. Но тут произошло „роковое стечение обстоятельств и пересечение судеб“, началась уже какая–то „достоевщина“: к составлению письма подключился Феликс Карелин[136].
Феликс был удивительным человеком, безумно темпераментным, страстным, могущим красиво складывать – как в народе говорят, „по книжке говорить“ – много часов; человек со схематическим строем ума, который мог бы принести много пользы и для Церкви, и для дела, если бы не его безудержная натура. Он впервые появился еще в 1958 году, после того как вышел из тюрьмы по окончании срока (не реабилитированный), женился на актрисе, которая получила распределение в Иркутск, и отправился с нею туда, работать в театр. Там он узнал обо мне – я в это время жил в Иркутске, – пытался меня найти. По рассказам он составил превратное представление, воображал, что я какой–то визионер или мечтательно настроенный человек. В конце концов, Глеб его разыскал и привел его ко мне, уже на приход. Карелин отвел меня в отдельную комнатку и сразу стал рассказывать, как он сидел в одиночке, как там – тоскуя, разумеется, в этом малоприятном месте, – он начертил на стене почему–то шестиконечную звезду и стал над ней размышлять, медитировать, и оттуда у него возникли целые системы мироздания, системы искупления – в общем, всякое такое. Я на него смотрел с такой скорбью – как смотрят на умалишенных, – что он стал быстро все это дело смекать и уже больше мне всей этой „крутистики“ не говорил.








