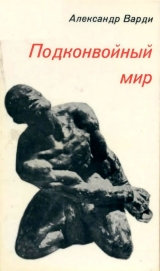
Текст книги "Подконвойный мир"
Автор книги: Александр Варди
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
– Мусульмане, хипишь! – скомандовал шепотом Герасимович, кивая в сторону приближавшегося Бендеры. Затем развязно, будто продолжая беседу, Герасимович затараторил:
– Смотрю я, братцы, на девку, на пятки с трещинами и думаю: чего тут фронтовику миндальничать!
– Ходь сюды, падла! – командую ей на полном сурьёзе. – Триперок есть?
Крутит носом курносым. – А вши?
– Самая малость, – отвечает, – как есть я в колхозе по коровьей части…
– Ладно! – перебиваю её, – у меня от вашей колхозной части плешь на… черепе…
Допрашиваю дальше:
– А как, – говорю, – у тебя насчет этого самого…
Герасимович изобразил сцепленными ладонями фигуру, напоминающую паука и зашевелил растопыренными согнутыми пальцами. Все вокруг засмеялись.
– Сама карапуз, – захлебывался Герасимович, – и щами постными провоняла насквозь, но хорохорится:
– Поженимся, – говорит, – тогда хучь ложкой сербай, а покеда што…
– А вот я не терплю мартышек махоньких, – перебил Герасимовича Солдатов. – Для меня баба с мордочкой в кукиш, с ладошкой – кроткой и ножкой – недомерком – все одно, что жаба. По мне, брат, хоть сам я невысок, но бабу подай а громадную, щоб рыло с ведро, а грудь – с барана. Бывало жоржики подначат: «и куда ты, темнила, в альпинисты прёшься! Задохнешься на высоте, концы отдашь». А я себе ухмыляюсь в ус. Я свое дело железно знаю. Мышь копны не боится. Так, что ль, Бендера?
Солдатов бесцеремонно хлопнул по животу Бендеры, не замедлившего огрызнуться с обидой в голосе:
– Брось травить баланду, шмурак! Нетто не понимаю, что не о том вякали?! За кого считаете, гады?! Нешто я с опером ноздря в ноздрю живу?! Я б охиросимил весь ваш вшивый госстрах и гнидный госужас.
– Герой, – презрительно фыркнул Солдатов. – Коли бы не ты и не попова кобыла, так и уважить не кого б было.
– Ладно, не спорьте, черти, – примирительно проговорил Журин. – Нечего клыками клацать. Потопаем-ка лучше в жральню, иначе – улыбнется на прощанье казенный харч. И без того, наверняка, гущу выгребли, помои остались. Сегодня, говорят, камбала, или, точнее, камбальная соль. Пока камбала-сиротка сюда доплыла, в нее столько соли вбухали, чтоб компенсировать убыль украденного, что сейчас лизнешь – обожжешься. Хорошо, что щи – капусту не ищи, мокрые – так запьём.
5
Вечером к Журину и Пивоварову подсел Шестаков.
– Нет, братцы, мочи в такой день одному пробавляться. Тянет к людям. Что будет без Виссарионыча? Не рухнет ли всё? Ведь все перережут всех, случись что.
Журин не доверял Шестакову. Помнил предупреждение, сделанное на пересылке «паханом-саморубом». В Шестакове, однако, сбивала с толку распахнутость души. Он не подслушивал, не подсматривал, мыслей не таил.
– Не так ведут себя стукачи, – рассуждал Журин. – Стукачи обычно глубоко конспирируются. Разгадать их трудно. Шестаков – простота: что на уме, то и на языке.
– Должны быть перемены, братцы, – убежденно ворковал Шестаков, усевшись на вагонке Журина. – Всегда новое начальство слабину даёт, гайку отпускает. Даже когда батя мачеху привез – стелила она нам мягко сперва.
– Да, мать один раз бывает, – вздохнув продолжал Шестаков. Помню, мать сердобольная была. Детей куча. Всегда с пузом. Дети рождались нежеланными, проклятыми еще в утробе. У матери духу не хватало прижать писк младенцу – и дети росли. Помрет кто – что тут делать? Знать судьба ему такая, «Бог к себе прибрал», «на роду так написано», «под такой звездой уродился», «колесом ему дорога», «мягким пухом – земля». Выживет – живи. Соседка, – та, бывало, грудному чаду кислого хлеба в тряпочку сосать подсунет, простудит или подушкой дыхало прижмёт и дело сделано, а наша мать – человеком была, но росли мы без присмотра, как трава в поле. Вот тут-то и выживал тот, кто с печки вниз не бухнул, не замерз, не заболел, под колеса не угодил, к свинье на зубы не попал, не утоп. Выжили самые сильные, хитрые, удачливые, выносливые – те, которые могли у сестренки из рта кусок вырвать, у соседа украсть, к мамке подлизаться и от батькиного убойного удара увильнуть. Темная жизнь была, братцы, и поэтому я за нынешнюю, новую!
– Так их, батя, – поддакивал Солдатов. – Мы за то, чтобы «бери больше – кидай дальше! Давай, давай, падло, дешевка!». Мы за лагерную Русь, едять ее мухи с комарами, за хулиганократию партпоголовья.
– Заткнись, сверчок! – окрысился Шестаков, – все шибко грамотные стали! Яйца кур учат! Наблатыкались гавкать!
– Прошлое никто не защищает, Шестаков, – отозвался Бегун. – Помер Клим и черт с ним. Не об этом спор. Ты, Шестаков, где в годы войны был? На заводе. А я Европу видел. Жадно изучал всё. Правду искал. Смысла жизни. Молод был. Сотни проклятых вопросов мучили. За это и сижу. Лишнее узнал и хоть не уличили меня в западничестве, но заподозрили. Стали копать. Провокаторов подсылали. За язык тянули. На уголовщину соблазняли. Только дудки. Понял своевременно. Тогда нашли курву, которую я по морде настебал за триперок. Она наклепала, что я выслуживался у бауэра, людей подгонял, чтоб лучше втыкали. Один вахлак малодушный струсил и подтвердил поклёп. Припаяли за сотрудничество с бауэром 25 лет.
– Но только не об этом речь, – продолжал Бегун, – а о том, что не с прошлым, а с передовым зарубежным настоящим нужно жизнь нашу сравнивать.
– Верно, Бегун, в этом суть, – одобрил Шубин.
– Не засекречивание, радиозаглушка, изоляция, не квасный портяночный великодержавный…
– Ты, Ефим Борисович, помолчи, – прервал Шубина Бегун. – У тебя тоже детский срок – червонец. Держись в рамках. Слово – не воробей.
– Понимаешь ли ты, Шестаков, к чему идет твой социализм? – вступил в беседу Кругляков. – Чем больше он существует, тем меньше свободы и счастья. Отнимают все. Не только собственность, но и детей твоих, жену. Становишься ты сам не свой. Каждый глоток, каждый шматок получить можешь только по воле хозяина.
– Неправда! – вскочил Шестаков. Глаза его поблескивают зайчиками отраженного света. Рот порывисто хватает воздух. Видно, что до ареста выдергивал он волоски на переносице, над верхними веками, на щеках и сейчас разросся там безалаберный чертополох, придавая лицу диковатое, зловещее выражение.
– Неправда, – волнуется Шестаков: – Зять мой около больших трудится, так рассказывал, что все больше и больше функций органов принуждения будут передавать общественности: добровольная милиция, общественные суды, выборное руководство, самоуправление общества – вот наше близкое будущее.
– Обычная обдуряловка, – усмехнулся Кругляков. – Власть-то у тиранов и значит, все твои добровольные органы будут тирании служить. Чем дольше, тем большая часть общества принуждается участвовать в насилиях и подлости человека к человеку. В идеале не должно остаться нейтральных. Все, или почти все будут натравлены друг на друга. Власть государства над человеком непрерывно усиливается.
– Это-то и необходимо, – волнуется Шестаков. – У людей нет больше страха божьего суда; поэтому единственное, что может заставить держаться в рамках – это сила коллектива, общества, государства.
– Дельная мысль, – прошамкал беззубым ртом сосед Круглякова по вагонке – профессор философии Берман – подвизавшийся ассенизатором лагпункта. – Добавить только следует, что мир подошел к такому уровню развития производительных сил, что личность нельзя оставлять без неусыпного контроля. В руках личности часто сосредоточена страшная сила. Только всеобъемлющий контроль общества за личностью может обеспечить безопасность человечества.
– Так! – ликовал Шестаков. – Уложил вас профессор на обе лопатки, забодал кочерыжкой, спустил портки.
– Два ноля в пользу тигров, чтобы всюду не гадили, – меланхолично констатирует Хатанзейский.
– Все несчастье в том, что слова ваши кажутся убедительными, – обратился к Берману Кругляков, – но при умном разборе обнаруживается ложь этих слов.
– Так! Отлучи их батя от Карлы Марлы, – азартно потирает руки Солдатов. – Нехай пустят петуха под шубу гордыню поправ. Нехай их бум кончится низкой нотой.
– Верно, нельзя оставлять каждого без общественного надзора, – продолжал Кругляков, – но в обществе, в котором имеется несколько партий, газеты разных направлений, радио и телевидение независимые от власти – контроль над человеком разумнее и успешнее, чем у нас. Там любой может подать в суд на президента, премьер-министра и любое иное лицо. Для контроля над человеком не требуется сгонять людей в колхозы, коммуны, дружины, роты, лагеря, коммунальные квартиры, общежития, ячейки, звенья, бригады.
– У нас вожди и миллионы вождят неподконтрольны обществу, – продолжал Кругляков. – Что хотят, то и творят. Мы, демократы, за контроль над личностью. Они – за тотальный контроль сверху вниз и против подлинного контроля снизу вверх. В этом огромная опасность для всех в мире. Почитайте «Аэлиту» А. Толстого и поймёте, что это так.
– Люди, кто лежит на лопатках? – торжествовал Бегун, обводя горячим взглядом собравшихся. – Шестаков и Берман, ваша правота оказалась хуже воровства.
– Есть только один закон развития деспотии, – взял слово Кругляков. – Власть эта может удерживаться, только опираясь на непрерывно растущее насилие. Причем народу все усиленнее вдалбливают в мозг, что тирания есть лучшая форма демократии.
– Я, конечно, не защищаю большевизм, – раздался впервые в этот вечер голос Домбровского, – он осужден историей и здравым смыслом, но и в свободном мире далеко до идеала. Многое там в пути и много изжившего себя. Хотите подтверждений? Я познакомлю вас с американцем Джойсом, тоже журналистом. Он со мной в кипятилке работает.
– Пожалуйста, подробнее, – попросил Пивоваров. – В решении этих проблем – весь смысл жизни. За проволокой оформились мои сомнения. Здесь я понял, что нужно сызнова решать, ради чего жить.
– Мы еще к этому вернемся, – ответил Домбровский. – Сегодня я очень устал. Шли бы лучше проветриться, прогуляться, перемигнуться с луной.
– Правильно, братцы! – сорвался с места Бегун.
– Легкий морозец на дворе, чистое небо и с юго-запада – пахучий ветерок российской оттепели. Из-за дальности расстояния трупом «Звэра» не разит.
6
Был светлый звездный вечер. Высь белесая, бесстрастная, безразличная касалась прохладными щупальцами порывистого ветерка. В туманной дымке лучились огни зонного освещения, за которыми метались тени шалеющих, воющих сторожевых псов.
На лагпункте царило необычное оживление. По дорогам и тропкам бродили попарно и группками беседующие на различных языках люди. Непрерывно хлопали двери бараков, из которых то тут, то там выскальзывала на простор песня. У блатных грустил и выговаривал под мастерской рукой баян.
Ясно было, что это почерк бывшего артиста ленинградской эстрады Волошина.
– Хлопцы, вши ползут, – скороговоркой вполголоса предупредил Бегун. Все повернули головы к вахте, откуда двигалась серая стая надзирателей.
– Это скорее волчья стая или саранча, – буркнул Кругляков, – и впереди золотопогонник.
– Што шляетесь! – надсадно, ненавидящим голосом заорал офицер, – зикаете на радостях, шкуры!
– А ну, марш по баракам… в почки, селезенку, потрох мать!
– Это старший оперуполномоченный, майор Хоружий, – вполголоса произнес Кругляков, – обычный гад.
«Саранча» приблизилась к стоявшей возле дороги группке заключенных человек в пять.
– Сюсюкалов, – обернулся Хоружий к своим, – взять! Живей, не канючь, соплю не размазывай! В кандей на хлеб и воду! Одёжу и обужу снять! Печь не топить!
Двое заключенных бросились удирать. За ними погнались надзиратели.
Хоружий схватил за горло маленького тщедушного человечка в длинном бушлате и, наклонившись над ним, изрыгал в лицо:
– Што разговариваешь! Стой и не дыши! Закрой органы выделения, интеллегент! Народу не хлябало твоё надо, фрей, а работа, не очкастая твоя будка, а мозоли! Ясно?! Не канявкай, падло, гаворю!
Заметив подводимого надзирателями беглеца, Хоружий выпустил тщедушную очкастую жертву и гаркнул:
– Ты, лоб, мотай сюда! Нюх твой по сырости скучает…
– Братцы, сматываем удочки, – распорядился Кругляков, – до своего барака не добежим. Сигаем в этот.
– В барак не заходи, – скомандовал Кругляков. Волки увидят, что хлопаем дверьми и хлынут сюда.
Притаились в тамбуре, отдышались, наблюдали за разгоном заключенных и облавой на всех, кто попадался.
– В парусном флоте, – рассказывал Кругляков, – был такой прием борьбы с крысами: ловили десять-пятнадцать штук. Сажали в одну клетку. Не кормили. Стервенея от голода, крысы набрасывались друг на друга. Слабых сжирали. Так шло, пока в клетке оставалась одна крыса. Ее выпускали. На волю вырывалось чудище, вкусившее сладость крови ближних своих. Оно становилось бичем крысиного царства. Нападения из-за угла, пожирание детенышей, а также слабых и спящих так терроризовывало крыс, что они покидали корабль. – Вот такими же остервенелыми вышли из горнила чисток, склок и палачества Хоружие.
Из нутра барака послышалась незнакомая, нерусская песня.
– Узнаю голос Калью Ярви, – насторожился Шубин, – замечательный парень, талантливый скульптор, вкалывает на общих работах. Давайте зайдем, послушаем.
Окунулись в затхлую туманную и задымленную теплынь барака. Направились в угол, откуда неслась песня.
Там, в глубине вагонки увидели невысокого, стриженого как все, ничем с виду не примечательного человека лет тридцати с правильными чертами бледного лица и непроницаемыми серыми глазами меж белесых ресниц.
Калью Ярви пел под собственный аккомпанимент на гитаре. Играл он на ней так, как играют на банджо. Глухие отрывистые аккорды вели каркас мелодии, а гибкий задушевный баритон пел по-английски что-то западное, модернистское, хлещущее прямо вглубь души.
– Боже, как хорошо, – беззвучно шептал Шубин. – Как обеднили, обокрали жизнь, запретив западную музыку, арестовав ритмы, носящиеся в воздухе эпохи, мелодии, к которым льнет душа.
Несмелое сдержанное начало песни вливалось постепенно в бурный поток непонятных уму, но внятных сердцу слов. Непривычное, нездешнее, но покоряющее очарование захватило слушателей.
Когда песня оборвалась, никто не осмелился просить Ярви петь еще. Ясно было, он отдал больше, чем мог отдать замученный истощенный работяга, поддерживаемый лоханью мутной бурды и ломтем черного вязкого хлеба.
– Пожалуйста, разрешите мне иногда приходить к вам, – попросил Пивоваров.
Где-то в бездоньи невыразительных глаз увидел Пивоваров темные огоньки. Затем услышал тихий усталый дружелюбный голос:
– Пожалуйста. Буду рад. Я знаю вас, хоть мы и незнакомы. Вы тоже нравитесь мне.
7
– Какой чудесный парень, – вздохнул Шубин, выходя из барака. – Вот и не преклоняйся перед заграницей! Хоть – не хоть – преклонишься, раз держат ее за семью замками в высоком тереме мечты.
– Я во Франции влюбился в музыку, – отозвался Бегун, – в джаз, кино. А дома заел репродуктор. Дребезжит дни и ночи – не у тебя, так у соседей, в общежитиях, на работе, на улице, и заткнуть ему хайло нельзя – пришьют политику.
– Цель радио у нас одна, – заметил Кругляков, – засорить, заморочить голову до одури.
– Не могу забыть джаз, – продолжал Бегун, – и сейчас кажется, будто атакует мою душу примитивная как крик сыча ритмичная, бьющая по нервам, дикая музыка. Тело подергивается в такт, конвульсирует, извивается и томится жгучей и неотступной любовной тягой.
Шли несколько минут молча, будто вслушиваясь в звуки из запрещенного манящего мира.
Молчание прервал Хатанзейский.
– По мне, так девушка другой нации сто крат милей своих постных щей.
– Ишь, космополит, – усмехнулся Кругляков. – Приказано чтоб всяк кулик свое болото хвалил.
– Я вспомнил Эстонию, когда слушал Ярви, – продолжал Хатанзейский. – Роман у меня там был. С вдовой солдатской. Высоченная. Толстопятая. Шесть пудов. Грива серая. Утром, бывало, сгребет меня в охапку и несет под умывальник – умывает. Я ей до грудей доставал макушкой. Любила – ужасть как. Бывало, разойдется и нет, что помолчать, сосредоточиться, а с неё слова так и льются бредовые, жаркие. Бывало час бормочет, ворочается и все стонет, зубами скрипит, пока вся сила ее, вся жадность перегорит до тла.
И все-таки сорвалась. Подвернулся ей однажды хлыщ из кавказцев. Наш офицер. Ус торчком. Глаз с угольком. Талия осиная. Переметнулась. Я – ушел. Долго потом бегала, просила, плакала. Да только мы не из таких. Отрубил – так на век. Так у нас от дедов. Правда, верность, честность – дороже всего.
– Большое дело, когда женщина подходящая, – заметил Журин. – Бывает, живешь и с каждым днем силы у тебя прибывают, цветешь, растешь. Дышать легче и в башке все толково, чисто. Бывает же попадешь, да так не по тебе, что в три погибели согнешься. Будто неведомая враждебная сила подсекает и бодрость, и живучесть и ум. Большое дело, когда бабенка по тебе – и словами не скажешь, как это важно.
– Вы понимаете, что покоряет в западной культуре, музыке, песне? – спросил Кругляков, и сам ответил: – Дух добра, милосердия, любви, человечности, терпимости. Помню, довелось мне основательно поговорить с начальником управления МГБ Челябинской области. Спрашивал его:
– Неужели вы думаете, что идеологией ненависти меньшинства к большинству, проповедью беспощадности, практикой несправедливых преступных репрессий вы добьетесь признания вас водителями человечества? Чепуха! – выкладывал я полковнику. – Вы стали уже из-за этого пугалом, ходячим ужасом для всех людей земли. Вас ненавидят и боятся, но не уважают и уж, конечно, не любят. Ничего из идейной привлекательности вашей революционной юности не осталось. Вы всех обманули. Все надежды отринули. Всем лозунгам революции изменили. Люди видят в вашей власти сейчас фараоновский режим, пирамидостроение, вавилонское столпотворение, современное рабство.
Молчал насупленный умный полковник, а я рубил правду-матку, да без боязни, сплеча.
– Люди всегда шли и пойдут за апостолами добра, милосердия, разумности, солидарности, любви к человеку и человечеству. Главное в истории – борьба Добра и Зла, преодоление Зла. Вы же, как одержимые амоком – мчитесь с окровавленным ножом в руке и люди в ужасе шарахаются от вас в сторону.
– Жаль, очень жаль, дорогой Николай Денисович, – заметил Журин, – жаль, что мы их учим. Без нашей подсказки были бы они венериками и громилами из «Конармии» Бабеля, а так – они людей скребут и ума наскребаются. Сейчас они на словах за добро, дружбу, справедливость, но, конечно, к своим, а по отношению к тем, кто не с ними, не в их банде, все по-старому дозволено.
– Им еще помогает зарубежная пресса, – добавил Бегун, – вправляет мозги кремлевским оболтусам. Ведь, Иоська, что подох, хоть и хитрый зверь был, но необразованный. Восточный тиран. Громила. Мстительное беспощадное двуногое, выросшее на традициях кровной мести. Недаром лагерная его кличка – «Звэр».
8
Подошли к бараку блатных. Слышался оттуда чей-то звучный приятный тенор, взгрустнувший под всхлип баяна.
– Где это наш вагонный «Щипач»? – спросил Пивоваров. – Будет ли опять он петь лихие песни? Губу-то ему как разодрали на пересылке.
Кто-то вышел из барака на крыльцо, оставив дверь полуоткрытой, и совсем не лихая песня поплыла из темноты:
Двух беглецов в наш кондей привезли,
Бросили на пол как грязные тюки,
С пола поднятся они не могли,
Сломаны были их руки.
Били их крепко, вбивали их в смерть —
Навык такой у советских фашистов.
Это зверье не умеет жалеть —
Нет ведь души у чекистов.
– Гуляет народ, – радовался Журин, – праздник справляет. Не усатый упырь их пережил, а мы его. Всё одолеем, Юра, – хлопнул он Пивоварова по плечу, – и «широкую вольную, грудью проложим дорогу себе».
– Слушайте, сейчас блатную поёт, – оживился Пивоваров. – Талантливые черти.
Стоять возле барака «господ» не считалось безопасным, поэтому друзья медленно побрели к себе.
Струилась им вслед печальная, выстраданная, незамысловатая, трогательная песня:
Приморили, гады, придавили,
Отравили молодость мою.
В котловане с вечной мерзлотою
Я у края пропасти стою.
Шли возле зоны, недалеко от сторожевой вышки, где происходила в это время процедура смены караула.
– Пост по охране зоны врагов народа принял! – раздался зычный рапорт солдата.
По скрипучей лестнице вышки подымалось двое, освещенные зонными электрическими лампами. Заключенные увидели, что кроме обычных винтовок, солдаты несли с собой пулемет, ручные гранаты, автомат. У каждого висел на боку ракетный пистолет.
– Понавешали на себя, гады, – крякнул Кругляков, – обычно – один часовой на вышке, сегодня – два; обычно – винтовки хватает, а сегодня – целый арсенал волокут.
– Это из-за Звэра, – отозвался Журин, – боятся заварухи в честь сдохоты владыки.
Медленные удары в рельс возвестили отбой. От вахты отделилась колонна надзирателей, направляющихся вглубь зоны. Группами по пять расходились они по тропинкам к баракам и, распахивая двери, орали:
– Прекратить песни! Спать! Раскудахтались, гады! Обрадовались! Молчи и не дыши, иначе капут!
9
Вернулись в парную хлевную духоту опостылевшего барака, в опасное убежище, полное бушующих или коварно притаившихся враждебных сил.
– Тебе кажется, – гудел перед сном Кругляков, поучая Пивоварова, – что в водянистых глазах северян, в горячих глазах южан, в раскосых миндалинах азиатов просвечивается любопытство к тебе, а то и сочувствие, симпатия! Чудак кролик. Наплевать им на чистый и белый твой лоб, на округлость щек. Олень ты лопоухий, рогатик. Не сбили тебе еще рога. Для многих мы только туши – двуногие, которых запрещено, к сожалению, зарезать на жаркое.
– Вон, смотри, около печки лежит лысый, серый, облезлый, тот, что курит, на нас посматривает тусклой мутью глаз. Это – «Бендера», который Шубина бил. Так вот, знаешь, о чем он думает? Думает, что ты еврей. Его помутившемуся котелку все кажутся евреями. Даже Рождественского – потомственного поповича – евреем считает. Смотрит этот «Бендера» на тебя и своим глазам не верит.
«Черт побери, – думает он, били их, били, стреляли, стреляли, травили, травили, пока от устали не падали. Жгли не по одиночке, а тысячами, эшелонами. Думалось, что уж и семени ихнего не осталось – под корень всё извели. Ан, глядишь, опять тут как тут: лобастые, очкастые, так и смотрят в твою душу, телячьими, упрекающими глазами».
Посмотрит такой «Бендера» на тебя и опять ночью изведется в бреду. Слышал, небось, как он орет во сне. Ведь он заснуть боится. Видишь, курит и курит и смотрит потухающим без умеющим взором в одну точку за горизонт – туда, откуда лезут на него синие покойники с разодранными шеями, с брызжущими красными сгустками мозгов, со стенаниями и воплями, плачем и ревом, с мольбой, с протянутыми ручками малюток.
Ты видишь, он аж головой трясет, зубами скрипит, желваками играет. Он гонит, отталкивает от себя призраки, тени, скрюченные руки из чуть присыпанных, шевелящихся, стонущих массовых могил. Тянут, влекут эти призраки Бендеру в мир теней, в муку вечную.
Не один он такой. Чекисты считают их преступниками второстепенными. Не возятся с раскрытием подлинного лица. Ведь многие такие по чужим документам живут – по документам своих жертв. Всунули 25 лет и забыли. – Для чекистов опаснейший враг, «закоренелый и нераскаянный», как писал Щедрин, – это вольнодумец, ясная голова, демократ, интернационалист, гуманист, сторонник свободного открытого общества, смешанной свободной экономики, терпимости к различным взглядам и верам. Ясно? – Не верю. Вряд ли все тебе ясно. Молод еще и мозги советским наркозом затуманены.
10
Дневальный Писаренко прикорнул к лежанке и блаженно посвистывал волосатой ноздрей. Наслушавшись похоронного радиовоя, он уснул со светлыми мыслями и во сне негнущейся пятерней щекотал под брюхом давнишнего своего любимца – гнедого жеребца, косящего на хозяина фиолетовым глазом.
В час, когда пришлось привязать присохшего к сердцу гнедого красавца к колхозной коновязи, вонзилась в грудь Писаренко корявая заноза, да так и осталась навсегда колючкой, бередящей душу. Свалился он тогда в медвяный травостой с придушенным писком плача в задыхавшейся глотке.
– Очнись, борода! – теребил дневального посыльный из штаба лагпункта. – Что хныкало рассупонил, шлепанцами жуешь и вякаешь?
– Чого тоби, бисова перечница?! – вскочил Писаренко. – Враз в хрюкало вмажу!
– По миру, шкура, ходи, – хреновину не городи, – официальным тоном осадил дневального посыльный. – Где тут Шубин спит?
– Здоровеньки булы! Якый такий Шубин? Чого нема, того нема.
– Раззява, – хрипел посыльный, – это жид, что на завод ходит. Ха Бэ – Хлопчатобумажный, лобастый такой с кандибобером, одёжа и обужа в масле.
– Так бы и гутарил. Ось – цей, бачь, рядом с красюком Пивоваровым. Ты лоб, крохобор, бачишь?! Иль бельмы повылазилы?! Так разуй глаза, гад! Валенки пид головою. Бушлатом замасленным прикрыт!
11
Шубина разбудили. Посыльный повел его в кабинет старшего уполномоченного первого оперативно-боевого отдела майора Хоружего.
Это был человек лет сорока пяти, высокий, худощавый, лысый, в очках. Издали казалось, что у него интеллигентное лицо и только вблизи рассмотрел Шубин в застывших жестких, не прощающих глазах сгущенную догму палаческого изуверства.
– Подробно расскажите о разговоре, в котором сегодня вечером вы участвовали, – приказал Хоружий.
– Я ни в каком разговоре не участвовал.
– Врешь, падла! – рычит Хоружий. – Кого Бегун уговаривал помалкивать? Срок, мол, детский. В тени темни. Все знаю. Будешь финтить, вилять, – хуже будет. Ты – дирижёр, главарь антисоветского лагерного подполья. Признавайсь. Ты подъялдыкивал, подзуживал, подначивал!
– Я рано уснул, – ответил Шубин. – Может быть, кто-либо и разговаривал. Люди, пока живы, всегда разговаривают, но я спал.
Хоружий пучит глаза, стучит по столу.
– Врешь, гнида! В Москве не раскололся – здесь рассыпешься. До неба тут высоко, до прокурора далеко. С кровью все выхаркаешь! Не таких ломали. Говори: кто кроме тебя в центральном комитете?
– Каком центральном?
Оглушающий удар в лицо валит Шубина с ног. Острым мысом кованого сапога Хоружий с наслаждением сучит в ребра.
Из соседней комнаты входит незнакомый капитан. Шубин видит над собой лживые стеклянные глаза неврастеника.
– Подымитесь. Сядьте. Давайте по-душам, по-человечески. Расскажите правду. Мы знаем, что вы незаурядный…
– Стереть в порошок этот антисоветский геморрой, – рычит захлебываясь злобой, Хоружий. – Читал особые указания?
– Расскажите, когда вы намечаете восстание? – спрашивает капитан.
– Гражданин капитан, поверьте, от всей души вам говорю – вопросы ваши нелепы. Простите, но вас ввели в заблуждение. Мне и в голову никогда не приходили мысли о заговоре, восстании. Я работаю, отдаю все силы. Я люблю работать, изобретать, конструировать.
– Знаем вас, гадов! – выхаркивает Хоружий. – Доизобретались до атомной бомбы. Собираетесь Ивана с Сёмой лбами стукнуть, а сами в Палестине отсидеться. В рот тебе пароход! Всюду под ногтем хряснете!
– Подожди, Хоружий, – обрывает капитан. Видно – он здесь старший, хоть по чину и младше Хоружего. – Расскажите, Шубин, о вчерашнем разговоре. Мы все знаем. Даем вам шанс не попасть в эту компанию. Они, ведь, образуют антисоветскую организацию, не так ли?
Хоружий выходит в соседнюю комнату. Шубин остается наедине с капитаном.
– Господи, зачем вам это? – стонет Шубин. – Зачем сочинять заговоры, придумывать восстания, хватать людей без вины? Ведь это самое слабое место нашей системы. Неужели вы безумны? Ребенок бы понял, что это ошибочный, роковой, страшный путь. Нет в стране более опасных врагов государству, чем вы сами.
– Вот это и есть махровая контрреволюция, Шубин.
Капитан вытягивается в струнку. Стеклышки его глаз мечут блестки раздражения и ненависти!
– Мы, Шубин, сливки русского народа, благороднейшие сыны родины, рыцари революции. На нас возложена трудная, опасная и грязная работа по очистке страны от дерьма. Мы – люди переднего края социалистического наступления. Помнишь Маяковского: «Я ассенизатор и водовоз, революцией мобилизованный и призванный»?
– Воры то же самое говорят, – усмехается Шубин.
– Что? Что?
– Воры, – говорю, – тоже глубоко и искренне убеждены, что только они настоящие избранные люди – благородные, интеллигентные, умнейшие. Они тоже уничтожают своих соперников, а покорных рассматривают как скот, обязанный обслуживать начальство – воров. Они тоже малочисленной кучкой командуют массами, грабят всех…
Из соседней комнаты врывается Хоружий.
– Ты слышал, капитан, к кому он нас приравнивает? Что ты с ним кашу размазываешь! В кандалы подлеца! Маникюр гаду! По пяткам, в почки, в потрох, в селезёнку мать, хохмач!
В открытой золотозубой пасти Хоружего клокочет и булькает звериный рык. На лбу его вздулись черные жилы и тяжелые костистые кулаки подрагивают в нетерпении на синем сукне стола.
Капитан холодно одёргивает Хоружего, и тот, сцепив щучьи челюсти, опять выходит.
– Шубин, вы усугубляете свою вину. Вы должны понять, что мы именем родины требуем вашего признания. Любовь к родине руководит нашими поступками.
– Это не любовь, гражданин капитан. Это имитация любви – извращение. Это садизм к народу и собственный ваш мазохизм. Все это не от сердца, а от воли, злого внушения и патологического самовнушения. Вы сами свою любовь к родине воспринимаете как муку, боль, бред, как извращение.
– Только за эти слова вам жить не положено, Шубин.
– Опостылело всё, гражданин начальник. Всю жизнь я стремился только к одному: как бы больше принести пользы людям, государству и добился этого. Много рационализировал, совершенствовал и открывал новое. Почему вы не даёте людям работать, творить! Зачем вам превращать профессоров в ассенизаторов, и гениев – в гипертоников-доходяг? Посмотришь на таких майоров, – Шубин кивнул в сторону двери, – и жить не хочется. Делайте, что хотите. Вы сломали во мне уважение к руководству, веру в осмысленность порядка в стране. Вы обессмыслили мою жизнь.
– Работайте! Кто вам мешает? – злобно огрызнулся капитан. – Работайте и не занимайтесь контрреволюцией. Вы хотите рассиживаться за столом, манипулировать рейсшиной и логарифмической линейкой, легко жить. Много вас таких охотников. А вы поработайте руками, до мозолей, до упаду, до поту цыганского.
– Охоту работать вы отбили. Хорошего из-под палки не добудете. Глупо заставлять кур доиться, а коров нести яйца. Каждый человек хорош на своем месте, на том, для которого он генетически и психически запрограммирован. Там он полезнее всего, где всеми своими физическими и душевными качествами, воспитанием, наследственностью, склонностью наиболее соответствует особенностям трудовой обстановки.
– Вы не лезьте в интеллигенты, в руководители, в политику, – продолжает внушать капитан. – Ведь вы по природе ревизионисты, фрондеры, критиканы. Всюду создаете вокруг себя как бы силовое поле. Все беспокойства от вас. Всегда и всем вы недовольны, никак не остепенитесь, не остановитесь. В политике у вас всегда особое мнение.








