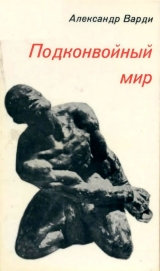
Текст книги "Подконвойный мир"
Автор книги: Александр Варди
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
– Что может быть подлее, омерзительнее, безжалостнее, беспощаднее человека! – Что?! – выкрикивал он. – Мы тоже – контра, но не склизкая, боязливая, трухлявая, забитая – как вы. Мы рвем куски у фараонов, не жалея ни себя, ни их.
Слова вылетали из его черной воспаленной глотки накаленные, шершавые, как бы одолевая по пути сжигающую Трофимова внутреннюю клекотную боль.
– Чекисты боятся нас и подлизываются. Считались мы социально близкими, но хрен им в глотку, чтоб талия не качалась. Чем крепче их бьешь, тем больше они подлизываются. Такова порода – хорьковая, зверячья: только палку на хребте, только нож в глотке понимают.
Трофимов слабел. Заметно набухали его красные веки и под глазами лиловели мешки.
– Сердце мое уконтрапупили гады, – пойду поваляюсь.
Трофимов полез на верхнюю полку, а к Пивоварову подсел «Клык».
Потный, воспаленный, с единственным блекло-голубым глазом, прильнул он к Пивоварову, погладил его подбородок сальной закопченной рукой, и, пытаясь сюсюкать, промолвил:
– Налитой, не тронутый, не целованный касатик, свежатинка. Отощал, милок, на казенных харчах. Так мы уважим, подкормим, чтоб задок булочкой, розовенький. Разоденем, человеком станешь. Ведь только мы, воры, – честные, благородные, настоящие люди. Прочие – скот, а скот положено резать и жрать. Вся нечисть отходит сама от нас – ссучивается, идет служить чекистам, становится суками. Так согласен, милок? Ты – по-хорошему, и мы к тебе всей душой. Или мы звери какие? Я и корешь мой, Кирюха. Нас тоже матери носили. Мы б может тоже девок любили, а получилось – видишь как: всю жизнь в клетке. Замордовали. Затиранили. Так нам и мальчики всласть. Само начальство на этот фарт толкает. Эй, будка! – крикнул он, задрав голову, Мустафе, – ползи с нар. Заведение открываем.
– Ты не стесняйся, милок, – уговаривал «Клык» ошарашенного, не верящего своим ушам Пивоварова. – Лезь наверх. Я – человек деликатный, потихонечку, не то, что пират какой иль сука лагерная. Богу молись, что на меня напоролся. Лезь, лезь, не кобенься.
«Клык» и Малинин ухватили Пивоварова за бедра и стали запихивать его на нары.
Только когда трясущийся Малинин бурно дышащий огромной зубастой пастью стал срывать с Пивоварова брюки, тот понял окончательно все и дико закричал.
«Клык» навалился на него всем телом, сжал горло, Малинин торопливо срывал одежды, пытался запрокинуть ноги. Железная когтистая лапа «Клыка» выжимала из Пивоварова последние проблески сознания. Пивоваров извивался, колотил ногами и кричал, выл, храпел, бился.
Крики Пивоварова услышал Журин. Стуком в решетку он вызвал конвоира и потребовал вывести Пивоварова из клетки воров. К голосу Журина присоединились Бегун, Кругляков и другие. Поднялся шум. Истерически визжала какая-то сочувствующая женщина.
Вбежавшие в вагон старший сержант и ефрейтор вырвали Пивоварова из лап насильников. Бледного, трясущегося вывели его из воровской клетки. Слезы, крупные и горячие как в детстве слезы, непроизвольно текли и текли. Перед глазами плыли и растворялись оранжевые круги. Тошнило. Хотелось пить.
А воры не собирались утихомириться. Закуренным, ошалевшим, им все было нипочем.
– Начальничек! Неси водки! – орал «Клык».
– Водки! – подхватили остальные. – Тащи, начальник!
– Сидишь в навозе – так не чирикай!
– Не принесешь – разнесем все вдребезги!
– Ты у нас на крючке – как заигранный!
– Барахло отхватил, сытая вошь, так гони водку!
Красные шальные лица пытались протиснуться через решетку. Руки, когтистые, алчные – руки убийц – тянулись к старшему сержанту. Десятки черных острых шевелящихся когтей пытались вонзиться в жертву, в мясо, в кровь.
– Вод-ку! Га-ды! – скандировали воры. – Забрали бутор – гони водку! Загрызем! Продадим! Вызовем золотопогонников! Водку! Гадючья кровь! Потрошители! Пираты! Водку!
Конвоиры выбежали из вагона.
Воры бесновались еще минут пятнадцать: разбили маленькие окошки под потолком, разбили лампочки. Большие окна напротив купе оставили. Побоялись студеного ноябрьского сквозняка. Потом затихли.
– Может, отгремели громы? Соснем, – вздохнул Журин.
– Не верю, – отозвался Кругляков. – Что-либо затевают.
Поезд стоял на маленьком темном полустанке. Глухая сырая ночь проглотила мир. Даже сквозь стекло окошка чувствовал Журин холодный пронизывающий ветер, насыщенный едва уловимыми запахами лесной прели.
– Жизнь проходит мимо, – думал Журин. – Занузданные судьбой мытаримся и мятемся, горим и исчезаем жертвоприношением безумию.
Оттуда, из слякотных просторов воли, послышались жалобные призывные бабьи крики:
– Тялуш! Тялуш! Где ты – сухбта, погибель, задрока! Тялуш! Тялуш! Тялуш!
Под вагоном заговорили. Вероятно кто-то из железнодорожников и женщина. Оба окали по-владимирски.
– В колхозе-то хорошо: один роботает – отдыхает сто, – говорила женщина.
– Поэтому-то нету хлебушка, – отозвался мужчина.
– Откуда быть хлебу-то, или скажем, мясу, коли скрозь в деревнях не роботают. Земля пустует, заростает кустом. Что посеют, и то под снегом похерят. Силком-то мил не будешь.
– Ну, а ты – жона секреторьята, хлебушко оржоной припасла?
– Еще чего! – воскликнула женщина. – Курица в гнезде – яйцо в животе, а ты ужо цыплят считаешь. Боюсь, пужаюсь, вот робенок умреть. До врачей далеко, а коновал-ветеринар-то надысь бает, что не его-то рукомесло.
Раздался паровозный свисток. Лязгнули буфера. Поезд тронулся. Минут через двадцать остановились у ярко освещенного вокзала станции Владимир.
Воры встрепенулись. Опять начали кричать, требовать водки, стучать в стены и решетку.
– На перроне возле поезда – вокзальные эмгебешники, – доложил Журин. – Пестрые, важные, красноголовые как петухи.
– Дай, гляну, – засуетился Шестаков, – офицер есть?
– Есть.
– Товарищи! – заорал вдруг Шестаков. – Не слышат! Что тут делать?!
Он выхватил из кармана зубную щетку и стал тыкать ею в стекло. Стекло разбилось. Шестаков приложил лицо к окошку и стал кричать:
– Товарищ майор – спасите! Режут воры! Ограбили! Спасите, товарищ майор, грабят, убивают! Спасите! Спасите! Спасите!
В вагон вошел майор из железнодорожного МГБ.
– Што тут такое!
Шестаков кинулся к решетке.
– Ограбили, гражданин начальник! Все до чиста воры забрали! Конвой их в конец вагона перевел, а вещи наши у воров солдаты взяли и жратву им принесли. Теперь воры водку требуют. Часть вещей еще цело. Отнимите, гражданин начальник.
– Так чего кричал, что убивают, – вздыбился майор. – Чего панику на станции разводишь. Люди ходют – думают всам деле с вас котлеты робят.
– Начальник, ваты! – завизжали вдруг в женском купе. – Ваты! Начальник! Текёть!
К решетке прижалась скуластая курносая бабенка с копной рыжих растрепанных волос и бесстыдной наглецой в глазах.
– Начальник, зайди на минутку! Зуб горит! Мочи нет! – кричала она простуженным или прокуренным мужским голосом. – До печенок никто не пронял! Начальник, конвой только малолеток мацает, а мне такой седой кряжистый бобер как ты нужон!
– Начальник! Ваты! – блажили три малолетки-детдомовки, этапируемые в колонию.
– Девчата черт знает чем тут занимаются, – раздался с верхней полки чей-то высокий негодующий голос. – По четырнадцать лет, а уже лесбиянки, и в открытую, не стесняются.
– Молчи, шалашавка, – визжала пухленькая рыженькая девочка с маленьким, порочным и хищным личиком. – Молчи тварь, погань, падаль, мусор! Зубом, как штыком проткну.
– Она, гадючья кость, дитёв изводила – докторша, кивирялка. – Начальник, давай воды! Селезенка присохла! Воды! Воды! – захлебывалась криком чернявая смазливая малолетка.
– Начальник, давай снасть! Давай мужиков! – кричали другие.
– Жрать! Пить! Мужиков! – вторила скуластая блондинка.
Визг, истеричный кликушеский рев заглушили выкрики мужчин.
Клык, Малинин, Хрущев, Мустафа закурившиеся гашиша, обалдевшие, обезумевшие горланили:
– Начальник, водки! Давай, мусор, водки! Гони, падла, выпивон! Давай гашиша! Опиума! Наркоза понюхать! Баб давай! Давай баб!
Руки, скрюченные когтистые руки, тянулись к майору, как незадолго перед тем тянулись к старшему сержанту.
Майор заметался. Оглохший, растерянный, напуганный – пробкой выскочил он в тамбур.
– С кем связались! – набросился он на старшего сержанта. – Арестую! Сгною! Мало вам казенных харчей и довольствия?!
– Товарищ майор! – взмолился старший сержант.
– Матери наши в колхозе, голые, босые. Хлеба и в этом году не получили. Весной с голоду помрут. Каждую весну на тошнотиках держатся из картошки, что под снегом перезимовала. Травой, корой питаются. Сестренка в эту весну померла от травы. Братишке не в чем в школу ходить. Для них взяли. Мы дружно, все солдаты. Разделили. Это ж у врагов народа, у контриков изъяли, законно.
– Подлецы! Хабарники! – кричал майор. – У врагов взятки брать! Не умеете концы прятать, так не беритесь!
Вагон стал медленно двигаться. Старший сержант выпихнул из тамбура двух своих товарищей, захлопнул дверь и выхватил из нагрудного кармана пачку денег.
– Товарищ майор, здесь шестьсот двадцать. Это все, что получили. Возьмите! Пожалейте! Не губите! Товарищ майор!
Майор обмяк. Раздувшиеся жирные щеки опали. Он взял деньги, сунул в карман и спрыгнул с подножки.
– Смотри, чтобы в последний раз! – погрозил он пальцем.
Поезд все глубже зарывался в скифскую глубь. Хмурые вековые ели бежали с обоих сторон вагона. Постепенно затихали возбужденные голоса. То тут, то там слышались уже хрип и храп, бормотание и тревожные выкрики сонных. Ночь косила утомленных перегоревших людей, ночь, насыщенная тревогой и кошмарами предчувствий.
В проходе, возле женской клетки, появился солдат.
– Солдатик, касатик! – зашептала одна из малолеток. Подойди, голубок, хребтинка чешется. Полозготал бы, помиловал бы, пошуровал бы вдоль хвоста. Полжизни без мальчишек. Прошвырнуться бы.
Солдат не подходил к решетке. Он облокотился на наружную стенку вагона и неуклюже отбрехивался:
– Знаем вашу сестру. Небось навару полпуда и вшей чувал. На лекарства разоришься.
– Что ты, касатик. С кем дело имеешь! Что я – воровайка, лахудра какая! Я, как есть, с детдома, крестьянская дочь. Родителей моих куда-то заслали. И вон у той чернявенькой, что рот разинула, сопит, тоже родители в Туркестане. Гречанка она. Увез ее оттуда из спецпоселка офицер – потаюхой – соблазнил четырнадцатилетнюю. Побаловался и бросил. Ее сейчас же за побег со спецпоселка запечатали. Свеженькая как ягода. Мы – девчата чистые, только вот неспокойная я, успокой ты меня. Выпусти на оправку. Похлопочу: червячка заморю.
– Давай, я гречанку выведу, – предложил солдат.
– Шалишь, первая я.
Солдат вышел из вагона. Минут через пять он вернулся в сопровождении старшего сержанта. Осторожно, на носках, прошли они вдоль клеток, убедились, что все спят и потом только отперли женскую клетку.
Сначала сходила рыженькая вострушка. Через полчаса она разбудила черненькую, а сама свалилась на её место в изнеможении. Когда вернулась третья – она залезла наверх, растормошила высокую стройную брюнетку лет двадцати пяти, ту, что кричала майору о лесбийстве малолеток и сказала:
– Слышь ты, докторша, – конвой сказал, чтоб ты вышла зараз до них. Вон дверь солдат держит открытой. Если не пойдешь, пустят тебя под воров. Ясно?
– Уйди, гадость, – отрезала женщина. – Не доросли твои мышиные жеребчики до меня. Брысь!
– Ну и сохни, стерва. Пусть твоя родилка паутиной зарастет. Мужики, ведь! Мясо живое! Они сейчас на вес золота. Нету мужиков. Хоть за телеграфный столб замуж выходи. В рот тебе пароход!
Она соскочила вниз и заверещала вполголоса:
Мы глотали все на свете,
Кроме шила и гвоздя,
Шило дома позабыли,
А гвоздя глотать нельзя.
В порыве экзальтации, выставив руки, она затряслась по-цыгански, выставила в сторону солдата тощий задок, будто выговаривающий что-то бесконечно бессыдное и похотливое.
Я и лошадь, я и бык,
Я и баба и мужик,
Для товарок я – кобёл,
Для шофера – женский пол.
Эх! Эх! Эх! Эх!
Отпусти мне грех.
Не отпустишь, барбос,
Откушу тебе нос.
Эх! Эх! Эх! Эх!
– Заткнись, мурло, – окрысилась скуластая блондинка. – На блевоту тянет.
– Есть, заткнись! – залилась серебристым смехом девчонка, торжествуя, ликуя, что удалось под носом этой матерой похотливой фурии незаметно отведать запретного.
– Будет он долго носить след моих зубов, – шептала она, засыпая. – Острые, жадные, злые у меня зубы. Острые… злые… Злые… Злы…
Глава вторая. На пересылке
1
Привезли на край земли. Кругом чужедальняя темь на тысячи мерзлых верст, космическая стынь и пурга.
– Давно тут, дедушка? – спросил Журин у рабочего вошебойки пересыльного лагпункта.
Тот внимательно посмотрел на Журина и ответил:
– Я и в отцы тебе не гожусь. Не смотри, что седой, бородатый, разбитый. Тебе, вот, под сорок, а мне под пятьдесят. С 1937-го года мантулю без передышки. Пригнали к колышку. Слагал я в ту пору так:
Битый, рваный, пытаный, согбенный,
Тысячи верст в этапах прошагав,
Возвращаюсь я с конца вселенной,
Всю изнанку жизни испытав,
Никому на свете я не нужен,
Некому поднять в честь встречи тост,
Потому, силенки поднатужив,
Приползу я на родной погост.
Припаду к извивам старой ивы,
Прежде, чем в бездонье тьмы уйти.
Расскажу как горьким горем жили
И как справедливость не нашли.
– Вы – поэт? – спросил Пивоваров.
Старик утвердительно кивнул головой.
– Так. Василенко. Харьковчанин. Поэт Украины.
После бани и прожарки одежды повели на медосмотр.
Голые подходили по очереди к молоденькой белокурой докторше. Осмотрев спереди, она поворачивала заключенного и теребила ягодицы для определения упитанности. В этом и состоял медосмотр. Руки-ноги есть, температура – не повышена, значит: годен вкалывать. Молод – первая категория. Стар – вторая.
Только Малинин избег теребления ягодиц. Особо скабрезная татуировка на его животе, не очень, впрочем, отличающаяся от порнографической разрисовки других блатных, вызвала на бледных щеках врача легкий румянец. Ее оскорбила содомная тема рисунка.
– Первая подземная, – буркнула она еще более молодой и тоже вольнонаемной сестре, записывающей категории трудоспособности.
– Пиши, лепила, третью, – негромко рыкнул Малинин. – Куда шары отводишь, щупай: ребра сломаны, шесть шрамов от ран, глаза красные – травил химическим карандашем. Знаешь, ведь, что мы не вылазим из гибели, что все внутри высосали, отбили, выклевали. В шахту гонит, подлюка! Это я-то в шахту полезу?! Скорее на лбу у тебя рог вырастет!..
К Малинину подскочили два надзирателя и поволокли его из комнаты.
– Слышь, лярва! Третья категория – или запорю. Ясно? – крикнул с порога Малинин.
К врачу подошел Трофимов. Буравя ее горячим взглядом из-под нависших бровей, еле слышно произнес:
– Доктор, жалеючи предупреждаем…
2
Журин, Пивоваров и Бегун стояли в это время возле двери, за которой осматривали женщин.
– Я при отце стеснялась кофточку снять, – услышали они взволнованный девичий голос, – а вас тут дюжина чужих, молодых, насмехаетесь.
– Не сопротивляйтесь, – раздался хриплый мужской голос. Садитесь в кресло. Так. Теперь подымите ноги. Вот сюда, сюда ставьте. Лаптев – рефлектор! Митин и Еремин – раздвиньте губы. Соколов – бери мазок. А вы, товарищи фельшеры, наблюдайте, не толпитесь, шмонек хватит, едять их мухи с комарями.
– Товарищ медврач, она – целка, – заметил кто-то.
– Товарищ фершал, выражайтесь научно, – сухо отрезал врач, – говорите – девственница. Соколов, берите мазок не из влагалища, а из заднего прохода.
Бегун не вытерпел. Он наклонился к замочной скважине и смотрел, пока на него не закричала сестра.
– Анатомический театр, – рассказывал Бегун после. – Худенькую девочку распяли на гинекологическом кресле. Кругом толпа бендюжьих харь. Какие они медработники! Слова грамотно не скажут. Язык шоферни. Ясно – что уголовники. Слюни пускают и ковыряются там. Мазки берут. Нет ли, мол, гонорреи у девственницы.
Сестра подошла к двери, постучала и крикнула:
– Павел Иванович, тише там. А вы, заключенные, отойдите от двери. Вот так. Станьте к этой стенке.
Дверь загородил собой пожилой, кривой на один глаз надзиратель.
– Что там, баб оформляют? – подскочил к Бегуну Гарькавый. – Говорят, суки лагпункт этот держат. Горячо будет.
– Что такое – суки? – спросил Пивоваров.
Гарькавый смерил его снисходительно-презрительным взглядом, цыкнул слюну сквозь стиснутые зубы и процедил:
– Железного ломика отведаешь – узнаешь. Это гады, которых завербовали чекисты. Много среди них бывших воров.
Сестра зашикала и Гарькавый понизил голос:
– «Не исправлять, а истреблять» – вот лозунг чекистов и сук. Палкой и ломом вышибают они на работу и подгоняют работающих. Ослабших убивают. Законных воров – режут. Помогают операм сочинять новые дела на зэков. Поэтому и кормят их. Кроме этого, чекистам необходимо наш мир разделить, перессорить, чтоб резались. Иначе им не справиться с нами. Нас миллионы. Несколько смертельно враждующих партий создали чекисты. Кроме сук гуляют тут по буфету «Беспредельники», «Махновцы», «Красная шапочка» и другой масти гады. Но главный, массовый враг – суки. Ясно? Намотай. Держись воров. Дело наше правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. Так Трофимов ботает. Грамотный, натасканный он мужик: Ленина, Сталина на зубок знает, газеты читает. Говорит: «В тактике ихней – много смекалистого, в агитации – много ловкого. Учиться у них надо как мозги вправлять и людьми править». В Кремле жиганы-тяжеловесы. Крупный куш хватают. Нас – воров, как и партсбсов, всегда во много раз меньше, чем вас, а командуем – мы. Потому что голову, стратегию имеем, а вы – шляпы, запутанные, заученные лбы. Душка в вас нет. Рыбы. Только работать и – на зарез, как оленей, ишаков, кроликов.
3
Ввели в зону. Вновь прибывших встретили шпалеры любопытных – высматривали знакомых.
К Журину подошел высокий, слегка сутулый старик с аккуратно подстриженной остроконечной бородкой.
– Казимир Янович! – обрадовался Журин. – Вот-то повезло! Всю дорогу вас вспоминал. Товарищи! – обратился он к Пивоварову и Бегуну, – познакомьтесь! – это Домбровский, польский социалист-публицист. Я вам рассказывал.
Домбровский повел всех троих в свой барак.
– Познакомьтесь с моим соседом, – предложил Домбровский.
– Ефим Борисович, – обратился он к человеку, затененному сумраком нар. – Это товарищ по Бутырке – инженер-металлург Журин. Это – студент-электрик Пивоваров, учитель физики Бегун.
С нар поднялся невысокий плотный человек, с большой круглой стриженой головой, резкими чертами крупного лица и небольшими темными глазами.
– Честное лицо, – подумал Журин, – и доброе.
– Шубин – конструктор с московского автомобильного.
– Я слышал, что ваш коллектив собирался укокошить хозяина? – вырвалось у Бегуна.
– Ерунда. Больная фантазия! Слухи, распускаемые чекой, – возразил Шубин. – У нас, ведь, был бы человек – обвинение найдется. Закон – как дышло: куда повернешь – туда и вышло. Маскируют геноцид. В этом суть.
4
Подошли двое. Тот, что постарше, заглядывая в глаза каждого, зазывающе вполголоса вещал:
– Мужики, кто хочет заигранного пацана? Только десять хрустов (рублей по-вашему). Дешевка! Налетай! Заигранный пацан, конфетка, булочка! Задок как пирожок! Пацан – как персик! Десять хрустов! Не зевай! Налетай!
Взявшись за плечо Домбровского, старший вор спросил своего молодого спутника:
– Как тебе, Настя, этот седой, породистый хряк?
– То ж не седой, вин – шпаковатый, – ответил кокетливо улыбающийся парень.
– Ребята, идите, ничего нам не нужно, – решительно заявил Шубин. – Да и хрусты наши давно стали вашими.
Отошли. Блатная краля «Настя» – по документам Анастас – смазливый парень с серьгой в ухе, выступал как пава, виляя утиным задом, окидывая окружающих мужчин вызывающим взглядом панельной девки. Яркое кашне, зеленый пиджачок с чужого плеча, челка, красные губы, безбородые бледные щеки. Походка женская, виляющая, плавная. Маленькие частые шажки носками внутрь. Казалось, он был преисполнен снисходительного презрения к окружающим, как к существам второго сорта.
– Бешеные тигры, Казимир Янович, – подмигнул Журин.
– Увольте, не тигры, – возразил Домбровский. – Мне кажется, что из вспоротой здесь угольной мульды вырвались доисторические чудища.
– Казимир Янович на свой чистоплюйный аршин нас мерит, – вмешался в разговор второй сосед Домбровского. – Хотел бы я посмотреть на него, кабы он так как мы на брюхе прополз сквозь жуть эту замутнённую, заблатнённую. Другой раз очнешься и сам себя не узнаешь…
– Друзья, – воспользовался паузой Домбровский, – познакомьтесь: это Скоробогатов Петр Устинович, рабочий-литейщик. Учился в вечернем техникуме. Очень интересный товарищ.
– Тридцать пять лет как грызем друг дружку, а барыш плывет сосам в кружку, – продолжал Скоробогатов. – Поживите под началом наших драконов побольше, Казимир Янович, и сами бросаться на людей будете, если не превратитесь в соляной столб как жена библейского Лота.
– Вот именно, от женщин паскудства много, – раздался с верхних нар чей-то голос.
– А! Это Коля Солдатов, шофер-ловчила, – осклабился Скоробогатов, – прислушиваешься, на ус наматываешь?
– Не балабонь, пяхота, – огрызнулся Солдатов.
– В день, когда черт попутал долго припухал я у конторы – путевку ждал. Ныло в нутре, что зря машина загорает. Крутишь баранку – навар, калым подшибаешь, а под лежачий камень вода не течет. Наконец, выбрался под вечер – не жравши. Думал – не будет пассажиров и левака не зашибу. Ан, гляжу: бабенка голосует поллитровкой. Много их, чертей, навязывается. Из сил от них выбился. Своя баба в три ручья воет. Однако замедлил ход. Смотрю – смазливая. Посадил.
– Видишь, ношу вашего, шоферского, – она похлопала по чуть припухшему пузу, – из вашей автоколонны зарядка. Сказывал – Петей звать. Да вы все врёте имена. Над нами, сельскими, насмешничаете. Теперь дорабатывай, шоферня, – верещала она сквозь смех, – а то ему дорога в жизнь зарастет.
– Ну вас, к лешему, – огрызаюсь. – У вас вон кобели на цепях. Обгуливают без нас. А потом – сам скоромься. Дудки.
– Опомнись, дурень, – завизжала бабенка. – Я не из таких. Видишь пузо. Хиба ж так зря нагуляешь?! В прошлом году знакомой горожанке кабана четырехпудового отдавала, чтоб мужика на месяц отпустила. Так побоялась, не дала, хоть на кабана дюже зарилась. Голодно, ведь, в городе. Побоялась – съем мужика! А я в ту пору действительно сдуру могла мужика пополам перепилить. Так бы и грызла зубами. Страсть, как трудно было. Хучь падай. Хучь мри.
– Так, – думаю, – горячих кровей молодуха попалась. Настроился помацать. Облапил колено и повыше полез. Дай, думаю, хмельного глотну. Без этого и настроения не будет.
Выколупал тряпку из горлышка, приложился и… остолбенел. Рот обожгла какая-то тухлая соленая водица.
– Что тут, падла! – выкрикнул, сплюнув.
А она невозмутимо округлив бельмы, отвечает:
– Моча это, и не какая зря, – а беременная. Фершалица сказывала, в ней дюже пользительного мамину невпроворот. Глянь – какая густая, склизкая. Лекарство всегда несмашно.
Стукнул я стерву промеж ушей, а дверцы-то у ЗИС’ов – знаете какие. Свалилась она под задние колеса. Припаяли семь лет за мамин за этот.
Подлюки, – я вам скажу, – бабы. Без мужиков такие настырные, отчаянные стали. Ни стыда, ни совести. Бывает спьяну шофера лавют и охальничают над ним… шкуру сдирают…
– Зря про баб лаешь, – прервал словоохотливого Солдатова Скоробогатов. – У самого-то где совесть была, так срам вырос на радость маме.
– Что ж тогда в жизни хорошего, если не женщины наши, – поддержал Скоробогатова Журин.
– Знаем вас, женострадателей, – скептически возразил Солдатов. – Живешь-то с женой душа в душу, но трясешь ее как грушу и вдов да молодух да малолеток обслуживаешь.
– Перестань, пожалуйста, Солдатов, – не то попросил, не то приказал Журин. – Не рядись в циника. Нутро у тебя доброе.
5
С улицы донесся звон. Били в рельсу.
– Внеочередная поверка, – разъяснял Шубин. – Я здесь около месяца – старожил. Порядки знаю. Выходите на середину барака. Становитесь по-двое. Ждите.
Дверь раскрылась. Вместе с двумя надзирателями ворвалась в барак парная стужа и вой ветра. Бледные призраки в обезличивающих лохмотьях стали прислушиваться к перекличке. Надзиратель называл фамилию. Обладатель ее выкрикивал свои установочные данные.
– Домбровский! – кричал надзиратель.
– Казимир Янович – 1888 года – 58-2, 5, 10, 11–25 лет, конец срока – 18.9.76 года.
– Солдатов!
– Николай Пантелеевич – 1925 года – 59-Зв – 7 лет, конец 4.6.59.
– Скоробогатов!
– Петр Устинович – 1918 года – 58–12 – недонос – 5 лет – конец срока 3.4.57.
– Шубин!
Ефим Борисович не успел ответить. Несколько десятков зычных глоток заорало:
– Хлопчатобумажный! Хаим Беркович! Хрен Блатович! и т. д.
– Заткни мурло, провокатор! – напустился на стоявшего вблизи крикуна Скоробогатов. – Чего человека зря мытарите! Обрадовались, что начальство на евреев натыривает, на чужом горбу в рай едет.
Горлодер рванулся с кулаками к Скоробогатову.
Стоявшие рядом Бегун и Журин схватили его за руки. Сквернословя и вырываясь хулиган горланил:
– Бей жидов! Ничего не будет! Дозволено! Следователь ботал! Бей!.. В горло! В душу! В селезенку!..
– Зверюга! – бросал ему в лицо Скоробогатов. – Отца родного посадил! Мать обокрал! Сестру трипером заразил! Сам хвастался, гад!
Крик поднялся неистовый. Люди с воспалёнными перекошенными злобой лицами, раскрытыми в крике зубастыми ртами сбились вокруг Скоробогатова и его противника, рвавшегося в бой.
Сбежавшиеся по свистку надзирателя солдаты разогнали сутолоку. Скоробогатова и хулигана увели в комендатуру.
После поверки удивленные этой вакханалией новички узнали, что Шубин после следствия получил дополнительное имя отчество – «Он же – Хаим Беркович». И это, несмотря на то, что во всех документах всю жизнь Шубин числился Ефимом Борисовичем. Специально посланный копаться в архиве раввина золотопогонный делосочинитель откопал это имя отчество – «Хаим Беркович».
С первых дней пребывания Шубина на пересылке упоминание его двойного имени отчества вызывало хохот, шум, выкрики. До сих пор несколько фамилий и имен имели только профессиональные уголовники, подвизавшиеся на воле по разным поддельным документам. Смешило то, что «лобастый фраер» с глазами, блуждающими поверх голов, был уподоблен блатным.
Надзиратель, пытаясь унять надоевший галдёж, разрешил Шубину выкрикивать только две буквы: X. Б., но и тут находчивые земляки не растерялись.
Расшифровывая это X. Б. они соревновались в наиболее уродливом, картавом, гортанном произношении еврейских имен, с присовокуплением похабных словосочетаний.
Чекисты достигли цели: лозунг «разделяй и властвуй» действовал.
– Начинают надоедать эти концерты, – грустно жаловался Шубин. – Когда-то судьба несправедливо преследуемого человека – вроде Дрейфуса, Бейлиса могла потрясать совесть мыслящего человечества. Гитлер и Сталин приучили мир к тому, что «одна смерть – трагедия, миллионы смертей – статистика».
– Раньше такого не было, – говорил Шестаков.
– Ну, зубоскалили, анекдоты травили, но без злобы. От немцев злоба пошла.
– Не от немцев, – поправил Шубин, – от гитлеровцев.
– Может, скажешь, Гитлер пожег миллионы людей? – повысил голос Шестаков. – Своими руками.
– Гитлер? Все они лютовали: убивали и грабили, сжигали и опять грабили. И все в свою берлогу сносили. Богатств награбили – немыслимо представить.
Шубин не соглашался с Шестаковым. Он не хулил немцев.
– Если бы нас, – говорил Шубин, – десять лет натравливали, скажем, на рыжих, если бы нам не только разрешали преследовать и убивать, но и заставляли убивать – мы были бы не лучше. Не знаю такой массы людей, которую за десять лет нельзя было бы натравить на других. Злобу вызвать легко. Главная вина, конечно, на тех, кто разжигает злобу, кто разрешает подлости, кто приказывает делать подлости.
Домбровский утвердительно качал головой.
– Мне нравится Ваша объективность, – сказал он. – Я согласен с Вами. И не нужно печалиться. Всегда антисемитизм сверху был признаком конца режима.
Надзиратель предупредил, чтобы никто из барака до отбоя поверки не выходил. По появляющимся на улице приказано стрелять.
– Что там приключилось? – спросил Домбровский дневального, прожаривавшего возле печки бельевых вшей.
– Запороли фраера, – ответил дневальный, – да балакают не того, кого следовало бы. Новенькие блатные хотели прирезать одного доносилу, который в вагоне вызвал эмгебешника и жаловался на грабеж, ан зарезали по-ошибке другого – впотьмах обознались.
– Сейчас надзиратели ищут ножи. Ботают, что убийцы прячутся. Пустой номер. Как всегда ничего не найдут.
– Это вас, Шестаков, хотели, – упавшим голосом произнес Журин. – За то, что вы вызвали майора во Владимире. Звери! Чуть что не по нраву – резать, рвать, убивать. Никаких сдерживающих внутренних тормозов.
– Так и у примитивных людей, – заметил Домбровский. – Я путешествовал, наблюдал. Такие же плёвые нервы. Вскипают в миг и по любому пустяку – за нож. Трудные люди.
6
Журин решил повидать Трофимова. Хотел отговорить его от расправы с Шестаковым.
В бараке воров первым бросился в глаза Гарькавый. Сидел он на нижних нарах, пощипывал гитару, и пел:
Перебиты, поломаны крылья,
Жуткой болью мне сердце свело,
Кокаина серебряной пылью
Все дороги мои замело.
Это, видно, был конец песни, ибо Гарькавый, сменив мотив, продолжал:
Дорогу построили быстро,
Прямая легла как стрела.
Эх, сколько костей заключенных
Собою подмяла она.
Журин рассмотрел сидевшего возле замерзшего оконца Трофимова и подошел к нему. Трофимов оторвался от книги.
– А…а, вагонный фраер. Чего пожаловал? Барахлишко просить? Не пеняй – все загнали, проиграли, спустили, но коли худо тебе – помогу. Ты головастый. Еще пригодишься.
– Нет. Я не с этим. Хочу насчет Шестакова.
– Цыц! Полундра! – прижал Трофимов палец к губам. – Стены уши имеют.
Залезли на вторые пустовавшие нары. Трофимов спросил:
– Знаешь, где ховается?
– Нет.
– Ну, тогда не о чем говорить.
– Зачем вам за каждую мелочь убивать? – с болью произнес Журин. – Ну, ошибся человек, не знал ваших законов. Наложите в загривок. Но убивать? Это ж так только дикари делают. А вы, Сидор Поликарпович – начитанный человек. Не к лицу это вам.
– Так нужно нам. Мы должны показать сукам, что душок в нас жив. Их здесь больше, чем нас, и потом знаешь, о чем спросил Шестаков сразу же, как пришел на лагпункт? – «Где тут оперуполномоченный?» – Ясно? Шестаков – это сука из вашего огорода. Вижу насквозь. Подлее всех. Он вкапался, гадюка, схвачен на живце.
– Сидор Поликарпович, это же предположение. Зачем вам умножать кровавый счёт? И без вас разные терзатели обескровили народ. Ради матери своей, не губите, пока не доказана вина.
Трофимов молчал. То ли думал. То ли прислушивался к очередной жалобной песне. Печальные раздумчивые мотивы были в сегодняшнем репертуаре Гарькавого. Прислушался и Журин.








