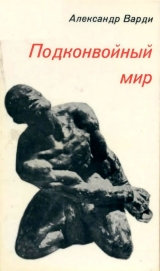
Текст книги "Подконвойный мир"
Автор книги: Александр Варди
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
– Не могу я, – стонал Журин. – Рука не подымается.
Все тело его тряслось. Нога, заложенная на ногу, нелепо вскидывалась. Руки как бы отнялись.
– Не тратьте зря времени, – уговаривал Старинченко. – Не упускайте шанс. Сейчас или никогда. Вверху – или вечно под ногами. Вторично никто вам этого не предложит. Будете считаться злостным, неисправимым преступником.
Журин отрицательно качал головой, в которой все гудело, распадалось, лопалось.
– Я подумаю, – бубнил он, – дайте очную ставку.
– Очную можно, – соглашается Старинченко, – но вся беда в том, что Круглякова забрали в центральный изолятор. Им занимаются крупные работники.
– Пусть подумает в одиночке, – буркнул раздраженный Хоружий.
– Еще минутку, товарищ майор, – попросил Старинченко.
Наклонившись над Журиным, доверительным пеняющим тоном, понизив голос, он уговаривал:
– Чудак-рыбак, – вали на жидов. Для этого их и разводим. Чуть откормятся – и на зарез. Таков прынцып. Завсегда нужон Макар, на которого все шишки валятся. Кругляков твой ожидовел. Всю дорогу с меньшевиками якшается. Какой он теперь русский? Даже жена – дочь меньшевика, а меньшевики – то ж жидовский кагал, талмудисты, прохесора, кляп им в дыхало. Весь подрыв от них. От Бернштейна и до Эйнштейна – все уклонисты – жиды. Всегда пятна на солнце ищут. Всё пересмотреть, перетряхнуть норовят гниды. Вали на Круглякова и дело твое правое, победа будет за нами. Его к ногтю, а сам – пасись. Ясно? Что чудак бельмы вылупил? Добра тебе желаю! Выбрось навоз из головы! Подписывай и не канявкай!
– Довольно уговаривать! – стукнул ладонью по столу Хоружий, – не девка красная. Пробы ставить негде. Разжуй и в рот ему положь! У…у…у! Шкура!
– Знай, Журин, – чеканил Хоружий, – у нас нет срока давности. По любому документу прищучим тебя и через тридцать лет. Не надейся на потепление политической погоды. Скоро рассеется туман и кончится слабинка. Достанем тебя хоть со дна морского и кишки выпустим, если будешь контриком.
– Иди, думай и соглашайся. Мы тебе честь оказываем, а ты, чудак, кобенишься. Все лучшие люди с нами. Только незаметно это, и тебя не будут замечать. Не проворонь свое счастье…
– Мост я вам не подпишу, – выдавил из себя Журин. – Ну, а то, что он антисоветчик – так это все знают.
– Подписывай пока это, – оживился Хоружий, – то, что он антисоветчик.
5
После одиночки Журин очутился в бараке усиленного режима, в малой штрафной зоне. Погнали работать на каменный карьер и там Журин встретил не только Бегуна, Скоробогатова и Солдатова, попавшихся в вещкаптерке вместе с женщиной, но и Домбровского с Джойсом.
– Мы с Домбровским выводим из строя рабсилу, – мрачно шутил Джойс, объясняя Журину причину водворения в штрафную зону. – В двадцать седьмом бараке расстроились желудки. Обвинили нас, будто мы умышленно дали некипяченую воду. Фактически виноват дневальный. Поит людей сырой, грязной водой. Дневальный там Дронов, из сук, темнющая личность. Его не тронут. Ворон ворону глаз не выклюет. Так, кажется, у вас говорят.
– Это не тот ли Дронов, который на пересылке нашим дневальным был? – спросил Журин.
– Тот самый, – подтвердил Домбровский. – Еще подлее стал. Зол на весь мир. Поговаривают, что когда он в побеге был, то своего спутника-сообщника съел. В пристяжку с собой взял человека и зарезал сонного – съел. Тот тип. Вон Речиц его хорошо знает.
– И Речиц тут? – удивился Журин.
– Все тут или были, или сидят, или будут, – отозвался Речиц. Кто не был – тот будет, а кто был – тот не забудет. Злачное место пустым не бывает. Ежели развели болота – значит наплодятся и черти.
Узнав, что разговор был о Дронове, Речиц сказал:
– У каждого в душе любовь и ненависть и так ко всем. Народ свой то любишь, то презираешь и ненавидишь. Родину – то плачешь от песни, то готов ей кадык откусить. Поэтому в один момент можно разжечь в человеке зло и вовлечь в предатели, разрушители, а в другой момент разбудить любовь и сделать защитником, патриотом, героем. Единство противоположностей всегда в душе человека, единство борющихся противоположностей.
Другой раз как на сердце тише, – продолжал Речиц, – кинешь глазом вокруг и подумаешь: уж лучше свои гады, чем чужие. Пусть лучше чекисты погоняют, чем гестаповцы. Из двух зол выбирают меньшее. Случись сейчас бой, я бы, пожалуй, за Россию стоял.
– Много с вас толку, – зло возразил Джойс.
– Вас, Журин, тоже в стукачи вербовали? – спросил Бегун, стремясь переменить тему разговора, дабы предупредить нервную вспышку Речица.
– Вас тоже? – заинтересовался Журин.
– Всех до одного, – подтвердил Домбровский. – Каждого шантажировали, запугивали, уговаривали. Только подпиши им раз – и навек схвачен. Веревки вить будут. Что угодно будешь потом подписывать и защищать их, ибо одним миром с ними мазан, стукач; один с ними страх. Нас сюда сунули, а Кругликова, пока вас в одиночке мурыжили, куда-то с глаз угнали.
– В центральный изолятор, – выдохнул Журин.
– Его съесть хотят, – мрачно буркнул Скоробогатов. – «Если враг не сдается, его уничтожают», – процитировал мне Горького опер Хоружий. В броне цитат как улитки. На каждый случай жизни у них строка подобрана. Губошлёпов всех времен присвоили, для своих нужд приспособили, под свой горшок постригли.
После окрика бригадира разошлись по забоям колотить десятикилограммовыми кувалдами по клиньям, вбиваемым в трещины известковой скалы.
Журин работал в паре с Бегуном.
– Что приуныл, Сергей Михайлович? – спросил Бегун.
– Покоя не дают думки о Круглякове. Проиграли мне на магнитофоне показания Круглякова против меня, что вредитель я, аварию подстроил и другие подготавливал.
– Тут подвох какой-то, – вымолвил Бегун. – Кругляков не мог это сказать.
– Сам слышал, своими ушами. Все в башке помутилось как услышал.
– А я сам видел, понимаешь, Журин, сам видел фотографии. Следователь в Москве показал. Лежит это моя любимая под низом. Сверху чей-то мужской затылок и голова с оттопыренными ушами. По шею прикрыты одеялом. Моя-то глаза закатила, рот приоткрыла и, томится, доходит. Я было, тоже голову потерял, поверил.
– Разуй глаза, гад, – кричал мне следователь, – смотри, любуйся – твоя святая. Все они святые, пока мужик за холку держит, деньги несет, зад лижет. Продала она тебя с бутором, твоя святая, со всем твоим нутром контрика.
Приуныл я тогда, Журин. Все стало безразлично. Перетрясло. На ногах несколько суток устоять не мог. Валился плашмя так, что даже коридорные попки не трогали, хоть и запрещено было днем лежать.
Много позже подсказали мне люди, надоумили, что это обычный фотомонтаж. Пристроили головку моей хорошей в чужую постель. Так что и вам могли монтаж подсунуть. Например, заставили Круглякова вслух прочитать по шпаргалке показания против вас и голос записали на ленту.
Журин вспомнил, что он читал вслух подготовленную операми «липу» против Круглякова.
– Ты ведь знаешь, Журин, их основную цель, – продолжал Бегун. – Каждого стараются они сделать стукачем и, значит, ответственным за их черные дела. Один из главных способов вербовки стукачей – шантаж. В этом причина нашего ареста в вещкаптерке и, вероятно, твоего ареста, Журин.
Бегун заметил, как еще более бледным стало осунувшееся землистое лицо Журина. Неожиданно, вопреки обыкновения, Журин длинно выругался.
– Что с тобой? – встревожился Бегун.
– А то, что век живи, век учись и дураком подохнешь. Все это не ново, а на деле мы неопытные кролики – видим, что перед нами удав и как загипнотизированные ползем в его пасть.
Ни слова не произнес больше Журин до конца дня.
Машинально бил молотом по клину. Бил неточно, нервно, задыхаясь.
Перед концом работы осколок камня впился ему в глаз. На закопченном глазном белке показалась кровь. Бригадир соблаговолил отпустить Журина к врачу. В малую зону Журин не вернулся.
6
Приближалось полярное лето. В ночные часы давно уже не видны были звезды, но сугробы упорно держались в затененных местах. Нередко бирюзу и многоцветье небосклона занавешивали торопливые тяжелые тучи и налетала шальная пурга, захлестывая крупными хлопьями снега нежные клейкие лепестки былинок, набухшие почки карликовых берез и торопящиеся жить подснежники.
Тот, кто не жил годами в плотном удушающем зловонье лагерных бараков и землянок, где, как говорят, топор в воздухе вешай – не упадет, тот не поймет никогда наслаждения от обыкновенного прохладного весеннего ветерка, насыщенного едва уловимыми запахами просыпающихся просторов.
Журин пристрастился в эти дни уединяться за бараком на завалинке, откуда часами всматривался в прозрачную даль, врачующую изболевшее сердце.
Здесь его нашли Пивоваров с Хатанзейским.
– Сергей Михайлович, освобождают меня по амнистии, – доложил Хатанзейский. – Пришел попрощаться, посидеть рядом с вами последний час.
Журин молчал. Печальными пустыми глазами смотрел на Хатанзейского и чувствовал, как под щекочущими струйками ветерка выступают слезы.
– Что с вами, дорогой Сергей Михайлович! – тормошил Журина Хатанзейский, с тревогой всматриваясь в осунувшееся пожелтевшее, поблекшее лицо друга.
– Ничего, ничего, – очнулся Журин. – Устал немного, не беспокойся. Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А ты как, в Россию подашься, иль к своим, в тундру? Учиться бы тебе надо, Петя. Знания – единственное, что гады отнять не могут, а учеба там – в Расее.
– Что вы, Сергей Михайлович? Как это можно в Россию! Это же все равно, что к черту на рога и смерти в зубы. Там только подлецы преуспевают. Всё там – мерзость против человека, народа и творить эту мерзость только прожженные подлецы способны. С моим характером туда – как мотыльку в огонь.
– Параши гудят, что меняется в Москве кое-что, – вымолвил Журин.
– Не надеюсь, – пожал плечами Хатанзейский. – Посмотрим. Если они снимут и загонят сюда миллионы маленьких Сталинов, тогда поверю, что меняется. Если же кадры упырей, делосочинителей, подлецов, душегубов, сосателей, подгонял, людоедов, их подсобников и подлиз останутся на своих местах, то ничего по существу не изменится, не может измениться. Бешеный пес не может переродиться в голубку, «Черного кобеля не отмоешь до бела», Жизнь – не сказка.
– И все-таки, хоть и еле заметно, а изменились чекисты, – вставил Пивоваров. – Душок из них вроде испарился, в глаза смотрят, бить перестали. Косого надзиралу, знаменитого избивателя куда-то перевели.
– Змея даже в прямой трубе извивается, – возразил Хатанзейский. – Сейчас у них главное – реабилитировать как-то большевизм перед миром. Вот и извиваются. Змея останется змеей, пока голова не раздавлена вдребезги. Сталин, как и Пугачев, окружил себя уголовниками, пропойцами, ибо сам был люмпен, налетчик. Он до революции банки грабил. В молодости кормился бандитизмом. Земляк его мне тут рассказывал:
– Сосо, – говорит, – это наш грузинский бандит-подонок, а у вас – он – царь. Лучшего, – говорит, – вы и не достойны, серяки, иметь. Испокон веков варяг звали. Всех вас, душа любезный надо этим… как это называется, что между пупом и коленом болтается… хунжалом, хунжалом резать.
– Ну, а в тундре, думаешь, легче будет? – спросил Журин и не дожидаясь ответа продолжал: – местное население заинтересовано в наличии лагерей. Кормятся при лагерях. Работают на привилегированных должностях и поэтому власть поддерживают. Завмагами, чиновниками в сотнях контор, на почте, надзирателями работают. Всюду, где не дует, не метет и комар не заедает, сидят и кормятся на нашем труде. Местные срослись с паразитической верхушкой, поэтому враждебны нам. Мы теперь для них – олени и дичь. Нас едят. Нашими жилами сшивают свои малицы, торбасы, пимы.
– Сергей Михайлович! Не узнаю. Разве можно всех в одну кучу валить, одним словом целый народ характеризовать?! – воскликнул Хатанзейский. – Есть и такие, о которых вы говорите, и много. Но есть и такие, что кочуют все дальше на восток, надеясь в Аляску пробиться. Ясно? Многим это удалось, а многих пограничники пришили, но всё-таки впереди светится огонек надежды. Всё поняли? Так бросим об этом.
Журин и Пивоваров пошли провожать Хатанзейского. Подойдя к бараку, в котором Хатанзейский жил, услышали одинокую печальную песню.
– Кто поет? – насторожился Пивоваров. – Что-то знаком мне этот дребезжащий голосок.
– Это пацан, – ответил Хатанзейский. – В апреле по амнистии выскочил, а двадцать третьего мая опять здесь объявился. Было у него сначала двадцать лет. Пришло объявление ему, что скостили по пересмотру пятнадцать и выгнали его по амнистии. На воле не успел покуралесить, как всех их похватали и без волокиты да дела сюда обратно. Испугалась Москва амнистированных. Затряслась, как увидела до чего людей довела. Резали они и друг друга и встречных и мильтонов, прокуроров, комсомольцев, доносчиков. Страху нагнали.
– Ручаюсь, это «Щипач» поет, – воскликнул Пивоваров. – Узнаю его альт.
Мы хлебные пайки несли для людей,
Мешок тот гуртом охраняли.
Нежданно накинулась банда чертей
И кровные пайки отняли.
В бою за те же пайки мне выбили глаз,
А коришу рот разорвали.
Свои мужики излупили все ж нас
За хлеб, что шакалы отняли.
– Это «Щипач», дорогуша! – ликовал Пивоваров. – «Щипач» рваный, битый, воскресший. Постоим, послушаем, друзья. Когда зайдём – разговоры пойдут, бросит он петь.
Свободно, не напрягаясь, пел будто плакал «Щипач»:
Под нары заполз я, а друг не успел —
Под ноги попал он ватаге.
Всю ночь, после этого, кашлял, хрипел,
А утром помер бедолага.
Погиб за черняшку, за лагерный хлеб,
От буйства бригады голодной.
Так пусть же чекисты все держат ответ
За зверства в той тундре холодной!
И, как раньше в вагоне, «Щипач» неожиданно сменил мотив и песню:
Стаканчики граненые
Упали со стола.
Упали и разбилися.
Разбилась жизнь моя.
Опять, как тогда в вагоне, хриплые, нечленораздельные отчаянные выкрики выплеснулись, заметались, взвились. Слышно было, как стучат в исступлении маленькие ножки «Щипача» и колотит он ладошками худенькие смуглые свои бока под вой и рёв, истерические выкрики, кликушеский визг окружающих.
– Зайдем! – не выдержал Пивоваров.
7
– Спрашиваете, как жисть, – усмехнулся Щипач, – жисть собачья, склещиться не дают. Мотался я на воле обыкновенно. Сначала на пересылке белобрысую докторшу употребили хором. Она, сучка, много людей в шахту загнала. Пришли, вроде на прием и оформили без гвалту.
В поезде раньше всего пришили фельдшера Александрова – суку, того, что мазки у девчат промеж ног брал. Пришили аккуратно и на ходу выбросили.
Мильтона одного переодетого – тоже на ходу под колёса сунули – самоубийца, мол. Совесть заговорила.
Разыграли пару начальничьих дочек – под трамвай пустили. Все тихо, благородно. В нашем составе сук не было, так что без резни обошлось. Маленько удавов пошебуршили – из придурков, писарей, охмурял, дармоедов. Благодарны остались, что выборочно изымали, не всё подряд. Одного, правда, красюка кочегары употребили, но тут уж пусть начальство ответ держит. Держут всю дорогу без баб – развелись кочегары.
Котлас двое суток наш был. Придурки попрятались, космоглоты поразбежались, у замутнёных зуб на зуб не попадал. Как подкинули садистов, так мы на поезд и лататы.
Я попёр в Молотов. Там мне нахально срок всучили. Со мной кирюх из воробратии компания. У всех на душе волки воют. Только один безрукий завязать надумал, на село подался.
– В деревне, – говорит, – след мужицкий сгинул. Со своей культей без работы промеж баб прокантуюсь. Всех ублаготворю. Дело проверенное.
– В Молотове на городского прокурора зуб горел и у других кирюх. Известная стерва. Мурло нажратое с бородавками. Пасть зычная. Рот шире ворот. Хрюкал на судах, аж пена клочьями. Любого, бывало, падла, зашьёт, обхимичит сквалыга: охмуряловку разведёт, сосатель, чернуху рассупонит, глядишь – зашил, угрохал человечка. Судил, падла, за растащиловку и приписаловку, опоздание на работу – за всё.
Подстерегли вечерком. В берлогу топал. Взяли на цугундер падлу. Свернули курдюпку. Здоров был боров. Плечи из бетона, насосался крови. Шпынять ножом уговору не было. Лёгкой смерти не заслужил. Поварзокались с пиратом до рассвета. Назавтра жена опознать не могла. Натешились. Кожаную перчатку так в хайло удаву запхали, что врачам вырезать пришлось через кадык. Заслужил, погань. У меня аж от души отлегло малость. В гудок ему, еще живому, кол впёрли.
С того дня – вечером ни один шакал, ни один доносила из подворотни не вылезал, а прочие, не повинные люди, не дрейфили. Знали, кого потрошим и за что.
Потом похватали. Переодетая погань скопом набрасывалась и, не спрашивая – в ящик. Оттуда срочно в мантульные места.
Сдрейфили они здорово. И не злость, как прежде в гляделках ихних, а страх, трясучка. Сами, гадюки, намастырили тигров, сами своим мясом и кормить нас будут.
Я с кирюхами гулял по-божески. Мы люди собрались смирные, а в других местах, в том числе и в Москве, хлопцы дали жизни да копоти. Зайдут в вагон и каждому пятому нож в дыхало. Работнут вагон и никто не пикнет – как заколдованные. Знают: виноваты кругом. На нашей крови державу смастырили. Нашей кровью сыты.
Еще одно любопытное дело, – продолжал «Щипач». – Теперь поботаешь по-фене, по-блатному значит, в присутственном месте, так все тебя понимают. Сначала удивился, а потом понял: жись-то вся заблатнёная. Все воруют, мантулят и по-фене трёкают.
Рядом со «Щипачем» сидел на верхней койке пожилой человек с бессмысленными черными глазами и фюрерской кисточкой под нависающим хрящеватым носом. Он обстоятельно ковырял рукой между пальцами ног и, поднося время от времени руку к носу, с наслаждением вдыхал едкую вонь.
– Слышь, онанисты, – обратился он к Журину и Пивоварову. – Что-то душок у вас, у мусоров, в натуре появился. Хвост стали задирать, блин буду. Вчера подхожу к генацвали. Посылку он, гад, отхватил. Говорю:
– Киш-миш, душа лубезны, выкладывай, а с прочим бутором канай. Он, халява, как заблажит! В грудь кулаком колотит, прыгает, пыжится.
– Я, – кричит, – молодой был, как звер был, – кидается, пенится.
Пришлось фиской по гляделкам полоснуть и заначить весь сидор. Раньше такого безобразия не было. Была сознательная дисциплина. Распустились!
Вы, там, фраера, предупредите труху свою: мозгляков, очкастиков, манипулянтов, затрух. Мы заинтересованы в мирном сосуществовании с фраерами. Мы за полное разоружение фраеров и за контроль над этим.
Мы «миролюбивые» люди. Нужно отрезать языки мусорам, которые войну поджигают между нами. Мы ведь сильные и всегда вас накроем. Нужно нормализировать отношения, кончать с холодной войной.
Мы – поддерживаем нейтральных. Мы – за дружбу. Ваше дело работать, помалкивать, платить нам налог. Не совать нос на пищеблок, в каптерки. Сколько вам чего положено – мы даем. В полном коммунизме, подлюки, живете. К чему же тут напряженность! Нужно крепить сознательность, бдительность. Мы заинтересованы в трудовом подъёме фраеров.
Так и передайте своим придуркам, чтобы нос держали по ветру. Победа всегда будет за нами. Подниметесь, и мы вас уничтожим как класс на базе сплошной резекции. Ясно?
Это Ленин им дорожку указал.
Это Сталин нас с котомочкой послал.
Эта партия к погибели ведет.
Все, что есть у человека, – отберет.
Напевал вполголоса «Щипач», перебирая струны гитары.
Нет у нас теперь ни жёнок, ни сынов,
И лишили нас всех жизненных основ.
Это Ленин им дорожку указал.
Это Сталин нас с котомочкой погнал.
В коммунизм эта партия ведет.
Всё, что есть у человека, – отберет.
– Жиган, не казни мужиков – обратился Щипач к соседу. – Это – фраера чистой воды. Они с чертями не связаны. У них померки своими думками забиты: политика, высшая грамота, мировые проблемы, космический размах.
Я не пел вам раньше: «воровать завяжу я на время, чтоб с тобою, милашка, пожить?» – обратился Щипач к Журину и Пивоварову. А вот эту вы наверняка не слышали:
Проклятый начальник первого отдела
Палкою по пяткам колотил.
Пришивал, терзатель, мне чужое дело.
Злился, что не всех еще на свете загубил.
Долго, с надрывом и болью пел «Щипач». Пел лагерные песни и грустные народные, оплакивающие горькую долю-неволю в мире жестоких людей.
По трассе, что мы здесь проложим,
Сквозь горы, тундры, вглубь страны,
Под каждой шпалою положат
Одну, а то и две души.
Пройду ли путь бесправных пешек
Сквозь холод, голод, ураган,
Или свалюсь между путейских вешек
И там засыпет северный буран?
Отложив гитару, «Щипач» выпрямился, закинул назад руки, и проникновенно, звенящим мальчишеским своим голосом продекламировал:
Хвататели, пытатели, грабители кремлёвские,
Придет пора, обрушатся на вас дворцы московские,
Каналы, шахты, фабрики, рабами возведённые,
И ненависть безмерная в сердцах людских взращённая.
«Щипач» кинулся к железной бочке, служившей печью; схватив две лучинки, он забарабанил в такт своим ритмичным строкам:
И хоть вы ловко прячетесь
За щит чужой теории,
Вас не спасёт ничто:
Ни хитрая маневренность,
Ни подлая уверенность,
Что хватит дураков.
Давно мы раскусили вас,
Зато и ловите сейчас
Заморских болванов…
– Закругляй, «Щипач», – рыкнул Жиган, – не впадай в раж.








