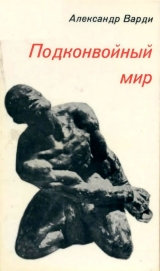
Текст книги "Подконвойный мир"
Автор книги: Александр Варди
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
– А мы, по-вашему, против этого? – спросил Джойс.
– На словах – вы не против, – ответил Кругляков, – а на деле направлять общественное развитие не можете. Есть у вас возможность снижать длительность рабочего дня планово? Есть у вас средства ликвидировать безработицу, поощрять науку и исследования? Почему у вас труженики боятся автоматизации? Это страшный вопрос. Можете ли вы воспитывать в народе, в детях стремление к духовному взлету, к новаторству и открытиям, к пионерству?
Если можете – цивилизация ваша здоровая. Однако, без оглядки и оговорок вы не можете биться за прогресс техники, ибо от этого растет армия безработных. Кроме того, новаторство не входит в ассортимент обывательских радостей жизни, культа наслаждения жизнью.
С чердака барака послышался шорох. Все смолкли, испуганно насторожились…
Кругляков успокоил всех:
– Это наверняка наш барачный трутень – дневальный Дронов с одним из «Машек» милуется.
– Цель жизни у всех людей – лучше жить, – возобновил беседу Того.
– Да, да, конечно, – согласился Кругляков, – но и это вечное стремление людей коммунисты используют лучше вас.
– Это уже любопытно, – усмехнулся Журин. – Жить-то нормально коммунисты никому не дают и сами покоя не знают.
Кругляков терпеливо выслушал и кивнул ему: сейчас, мол, отвечу. Повернулся к японцу.
– Вы правы, Того. Цель человека всегда и всюду – лучше жить. У нас жить лучше других могут только начальники и интеллигенция. Для того, чтобы попасть в этот класс, нужно хорошее образование, нужны научные, технические, трудовые, творческие успехи. Значит, нужно упорно учиться, совершенствовать ум, талант, обогащать интеллект, ибо это почти единственное условие успеха, сносной жизни.
– А на Западе? – спросил Пивоваров.
– На Западе стимулы к духовному совершенствованию значительно слабее. – Кругляков на секунду задумался, затем продолжал: – На Западе можно жить хорошо и без высокого образования, без творческих достижений, без совершенствования внутреннего мира. Это серьезнейшая проблема Запада, ибо скоро это может изменить соотношение духовной мощи соперничающих систем – мира подневольного и свободного. Мир неволи может обрести незаслуженную духовную мощь. Свобода человека во всем мире может очутиться перед смертельной опасностью – перед угрозой потери духовного превосходства.
– Мистер Джойс, – крыть Вам нечем? – с сочувственной усмешкой спросил Журин.
Джойс молчал, а Кругляков, не ожидая его реакции, увлеченно продолжал:
– Еще одну важную вещь понимают в Кремле. К числу естественных потребностей человека относится и потребность в умственной активности, в духовном развитии.
Человек только тогда чувствует себя удовлетворенным жизнью, когда он убежден, что его душевному развитию нет преград, что он предельно использует свои внутренние возможности.
Наши правители стараются удовлетворить эту естественную потребность человека таким образом, чтобы вся его жизненная активность служила руководящим.
– Что же нужно делать по-вашему? – допытывался Джойс.
– Нужно прежде всего отвергнуть уверенность, что только сектор частной инициативы закономерен, только ваш строй хорош, – ответил Кругляков. – Нужно сознательно способствовать развитию общественного устройства. Жителей трущоб, безработных, неудачников, не приспособленных к борьбе за существование в одиночку нужно пригласить к объединению в сельскохозяйственные, производственные, строительные и другие кооперации и коммуны, товарищества, создаваемые при помощи государственного льготного кредита и, таким образом, втягивать их в средний класс. Нужно согласиться со структурой смешанной экономики, в условиях которой каждый нашел бы хозяйственный сектор, соответствующий его стремлениям и наклонностям, способностям. Это лучший путь в общество уравнения благополучий. Ни ваш строй, ни советский – не идеальны. Истина – посередине, в разумном синтезе. Как смогут оправдать коммунисты вооруженное выступление, если общество даст им возможность и даже помощь организоваться в секторе хозяйства, соответствующем их вкусам – в колхозах, кооперативах, коммунах? В смешанном хозяйстве закономерны идеалы не личного эгоизма, а общечеловеческие, гуманистические. Становится возможным хозяйственное планирование, демократическое регулирование стихийных ныне процессов общества. Знания станут условием успеха личности…
Джойс прервал Круглякова.
– Мистер Домбровский рассказывал мне, что в колхозах производительность труда низкая. Разве выживет такой кооператив в конкурентной борьбе с частной инициативой?
– Выживет, – уверенно тряхнул головой Кругляков. – Нельзя сравнивать добровольную кооперацию с советскими колхозами невольников. В коллективных хозяйствах легче вырастить смену дисциплинированных людей, гуманистов, способных и к продуктивному труду и к творчеству. Это лучший способ воспитания сирот, безнадзорных. Даже люди невысоких способностей будут отлично жить в таких коллективах – ведь каждому там найдется естественное место.
7
В бараке между нар Пивоваров увидел Шестакова.
– Что ж, прикажешь врагов народа амнистировать? – патетически вопрошал у кого-то Шестаков.
– Небось, бабе своей все спустишь, кроме измены, а от государства ждешь поблажек для неверных Иуд? Абсурд! Воришка, или, скажем, убийца – виноватые люди, но – свои.
– Толкуй, толкуй, пиявка, – басил кто-то из поднарной тьмы. – По-твоему все преступники, кроме тебя и подсобной тебе воробратии?
– А как ты думал! – петушился Шестаков. – У меня на воле недостача по инструментальной кладовой была. Растащили. Ножку подставили, чтоб угробить. Дело обыкновенное. Я ж не изменник как некоторые другие, не безродный космополит, не беспачпортный низкопоклонник загранице. Я в гражданскую войну орденом награжден. Шестнадцать лет в партии. Мне такие же контры дело подстроили, недостачу организовали, посадили. Думаешь, партия не знает этого? Поэтому и амнистия мне.
– Трясогузка, помёт мышиный! – воскликнул из-под нар сиплый простуженный голос. – Тут каждый уверен, что он один – невинный, а все прочие – преступники. Психика такая. Только своя онуча вкусно пахнет.
– Брешут чернушники, – не унимался Шестаков. – Тут против власти брешут и потом мозги другим засоряют, что, мол, сироты казанские, ягнята безгрешные. Колупни любого, так у него в душе такая…
Шестаков не успел договорить. Из угла секции, из-под вагонки выскочил босый, в одном белье, заросший рыжей щетиной человек и молча, с разгона ударил кулаком в лицо Шестакова. Шестаков упал. Ударивший повернулся и, подтягивая на ходу спадающие кальсоны, ушел в свой угол.
Удар пришелся Шестакову в переносицу. Под обоими глазами засинели кровоподтеки.
– Снежку приложь, – советовал споривший с Шестаковым басок, – не канючь, ботаю. Быстрей снежку к сопатке. Все рассосётся. Покеда нос цел – ты ещё мужчина.
Шестаков вышел из барака.
8
Журин предложил Пивоварову съесть рыбу, припасенную с обеда. Достал хлебца из-под изголовья. Разломал пополам, крошки в рот отправил.
– Что ты рассматриваешь, Юра?
– Светится. Рыба светится как светлячок, – произнес Пивоваров.
Журин рванул к себе котелок. На дне, в густой тени рыба светилась голубым, ласкавшим глаз нежным сиянием, напоминающим гнилушки в ночном лесу.
Журин посуровел, насупился.
– Выбрось, Юра. Рыба радиоактивная. Из зоны атомных взрывов. Радиоактивный фосфор. Еще один способ уничтожения заключенных. Что ж тут делать? – сокрушался Журин. – Рыба – единственный источник животного белка. Не поешь – помрешь, поешь – помрешь. Куда не кинь, всюду клин.
– Надо заявить начальству, поднять людей, – вспыхнул Пивоваров.
Журин безнадежно махнул рукой.
– Съедят тебя. Загонят на Вайгач, в радиоактивные шахты северного Урала или в другую загибаловку. Плетью обуха не перешибёшь. Так или иначе они нас всех атомом облучают. Гады! Упыри! И никто ж об этом и не знает. Господи! – стонал Журин. – Узнают на Западе – не поверят. А, может быть, всем им сытым, наивным, выросшим на какао, лобызавшим маменькину ручку наплевать на нашу беду?! Ведь не сознают эти взрослые дети, что с нас начали – ими кончат. Обреченный мир! Господи! Гремучую змею к себе в кровать кладут, вампирам подставляют холёную задницу. Взрослые дети! Недотёпы! Наивняки! Некому обо всем этом поведать миру.
– Вы бы там потише бубнили, очкастые да лобастые, – недовольно заметил один из соседей по вагонке, – гениальными станете. А знаете ли, что гениальная вспышка вызывает часто помешательство? Перегорают памерки и гений становится чудаком, хлюпиком, рохлей.
– Они там авансом чокнулись, до гениального открытия, – отозвался кто-то с другой стороны нар.
Все умолкли, затаив наболевшее, недосказанное.
Глава седьмая. Предпоследний круг
1
Журин и Пивоваров работали в вечерней смене, когда на завод пришел Бредис. Среди чумазых, истощенных, одетых в грязную рвань литейщиков, щеголявший столичной экипировкой Бредис казался существом с другой планеты.
– Здорово, Журин! – приветствовал Бредис. – Отбыл я отпуск. Видишь – загорел. В Закавказье уже горячее солнце, а здесь – предмайские пурги. Два месяца котовал. Сколько денег спустил и не спрашивай – все, что за шесть лет наскрёб. Гулял форсисто, по-русски, душа на распашку, всю жизнь «ва банк». Обрусел, брат, и сам не заметил как.
– Что хорошего на воле? – спросил Журин.
Бредис посерьёзнел. Осторожно зырнул вокруг и вполголоса ответил:
– Жди перемен, Журин и – к лучшему. В санатории снюхался я с толстомясыми шишкомотами. Ботают, что верховоды на попятную ползут. Сразу ослабить гайку – боязно. Знают, что посеешь сквознячёк, а жать придётся бурю. Всегда в истории так было. Поэтому сползают на тормозах.
Попал я в Москву аккурат в дни кончины хозяина. Закомпостировали мне пересадку на поезд Москва – Тбилиси через двое суток и я, вместе с народом, отправился на хозяина глянуть.
Что там было, брат! Мужик я, видишь, тяжеловес-битюг, а чуть дух не выжали. Мильтонов давили походя. Подожмут и топчут всей миллионной громадой. Сам видел: мильтонов затаптывали с лошадьми, машины переворачивали, сбрасывали с дороги. Ворот сколько выдавили – не счесть. Лавина катилась грозная, неодолимая, страшная, не понимающая, что в душе ее творится.
Случись тогда в толпе зажигала, трибун, крикни кто-нибудь навзрыд, навсхлип, за всю муку, за все смерти – пошли бы люди крошить, ломать, резать и жечь так, что и от Кремля камней бы не сыскать, сглотнули б, слизнули б всё – электронов от начальства не осталось бы.
Страшное, жуткое дело миллионоголовая толпа – неудержимый, неукротимый всесокрушающий людской поток. Это – как обвал, как плотину громадную сорвало, как конец мира.
Так вот, от одного этого обвала, от раздавленных детей, мильтонов и чекистов власть в дрожь бросило. Увидишь, Журин, – прут на попятную и еще дальше пойдут. Не плошай, худшее позади.
2
В минуту, когда началась разливка металла, когда все сталевары были заняты, ослеплены, прикованы взором к огненному вихрю брызг, к жарким струям металла, в дверь подстанции постучали.
Пивоваров выглянул и увидел Высоцкую в халатике с мокрыми волосами.
– Юрик, взмахнула я полотенцем, задела лампочку и свет погас. Наладь, пожалуйста, а то я впотьмах не соберусь.
Пивоваров зашел в душ.
– Может быть, лампочка вывернулась, – произнесла Высоцкая звенящим напряженным голосом. – Подыми меня, Юрик, я попробую ее ввернуть. Нет, уж не сзади бери, а спереди.
Бережно он охватил ее и приподнял. Под тонкой тканью халата ощутил дрогнувшее тело. Он опустил ее немного и, не поставив на землю, прижал к себе.
3
– Что-то мой первый помощник стал обходительным, – раздумывал Журин, – то, бывало, злобно огрызается, какую-то обиду сопя жует, а сейчас третий день разговорчивым стал. Правда, притворством и скрытым недоброжелательством от него так и разит, но лучше худой мир, чем добрая война. Может быть, получил партийное указание менять курс? Может быть, прав Бредис, что всё идет к лучшему?
– Ногин, – обратился Журин к первому помощнику, – марганцовистая сталь получается замечательной; хоть бы ты похвалил. Был, ведь, тоже Фомой неверующим.
– Чего хвалить, – отозвался Ногин, – знамо дело: щи вари с грибами, язык держи за зубами.
– Я в выходной день набивал футеровку индукционной печи, – продолжал Журин. – Ты заглядывал в цех. Почему не подошел? Тебе это полезно, и мне веселее было бы.
– Я в выходной близко к цеху не подходил, – ответил Ногин.
Журин вскинул на него удивленные глаза и увидел, как потемнело худое смуглое лицо Ногина, дрогнули ресницы и серые мшистые уши.
Журин не мог ошибиться. В воскресенье, вернувшись с обеденного перерыва, он заметил мелькнувшую в конце цеха кряжистую фигуру Ногина.
– Что-то тут не гладко, – соображал Журин. Однако, раздумывать было некогда. Ход плавок диктовал загнанному изнемогающему придатку к печам – человеку – свою свирепую волю и бешеный ритм. Требовалась очередная добавка шихты в расплав.
С тяжелыми двух– и трехпудовыми болванками скрапа и кусками кареженого, рваного металлолома, прижатыми к животу, подходил Журин вплотную к полуторатысячеградусному жару.
– А вдруг, – дрожала под сердцем думка, – в окунающемся куске металлолома притаился лёд?! Тогда взрыв, и спасения нет.
Каждая плавка – бой. Загрузка шихты и шуровка пудовым ломом. Брызжущий шквал непокорного злобствующего металла. Удушающее марево газов из ревущего огненного хаоса.
Бьешься до последнего вздоха, хрипя, задыхаясь, сжимая в горсть последние силы. Кровь кипит и сердце клокочет в горле. В глазах давно тьма и едкий пот, но не отступишь, не сдашься. Чуть прозевал – и запорол плавку, иль хлынет огненная струя металла сквозь футеровку на механизмы, электрокоммутацию, людей. Тогда, если выйдешь живым и людьми не растерзанным – всё равно захлестнет чекистский удав: на промерзших дрогах застучит по ухабам скрюченный обтянутый кожей скелет с биркой на серой промерзшей ступне.
Кончилась загрузка шихты. Держась за стену, чтобы не упасть, измождённый Журин отошел от печи. Стряхнул струйки пота с лица и прильнул к ведру с водой.
Через открытые ворота хлестал морозный ветер из бескрайних ледовитых просторов.
– Хоть бы скорее конец, – дрожало внутри. – Свалиться на койку. Забыться черным сном, чтобы быстрее, незаметнее ползло черное время. И не до баланды с занозистой черной пайкой, не до бурды, заваренной жжёным ячменем, когда сбивает с ног тоска и четкое сознание бессмысленности, безумности незаслуженных мук.
– Льём изделия для шахт, – рассуждал Журин, – а на кой ляд усатому уголь из Заполярья, с края света?! Ведь угля этого в умеренной полосе во множестве мест невпроворот – богатейшие нетронутые бассейны во всех концах страны. Всюду было бы легче и дешевле из-за климата и не отлетала б человеческая жизнь с каждой лопатой добытого угля. Но Звэру не уголь важен, – понимал все острее Журин, – а массовое уничтожение людей неслыханно мучительными способами. Только это нужно царствующему садисту, дикарю, зверюге и всему правящему зверинцу.
– Павианы, – усмехнулся Журин, вспомнив ходкий анекдот, – выдвинулись только потому, что задница голая и красная.
Журин должен был ненавидеть этот анекдот. Из-за него он был причислен к легиону анекдотчиков и водворен в заполярный лагерь на 10 лет. Хуже всего было то, что о павианах и их голых красных задницах Журин не только никому до ареста не рассказывал, но и сам не слышал. Этот анекдот рассказали Журину в этапной тюремной камере уже после того, как ему объявили заочный приговор Особого Совещания…
– Собрались коммунистические звери на совещание под Москвой, – вспоминал Журин. – Стали выбирать профсоюзное начальство – местком.
Белка предложила кандидатуру льва. Звери дружным рёвом поддержали это предложение. Однако, лисица не записала льва в кандидатский список. Партийный секретарь товарищ шакал многозначительно напомнил собранию, что лев – царского происхождения. Белка поспешила, в порядке самокритики, осудить свое предложение.
Тогда выдвинули кандидатуру медведя. По наущению товарища шакала против избрания медведя выступили мартышки.
– Медведь – буржуй, – верещали мартышки. – Сам ходит в шубе, жена – в шубе, дети – в шубах!
В этот момент товарищ шакал подал условный знак вонючке и та заверещала:
– Павиана! Товарища павиана!
– Да здравствует товарищ павиан! – подвывала гиена.
– Ударника коммунистического рукоблудия! Застрельщика бесстыдства! Чемпиона разврата! – талдычили хорьки и шипели змеи.
Товарищ шакал утвердительно кивал многодумной мордой.
– Почему вдруг павиана? – всполошились зайцы и олени, зебры и бобры.
– Павиан сверху всё видит и на всех шакалу доносит, – вздохнул слон.
Сам же товарищ шакал выдвинул иные пропагандные тезисы:
– Павиан – проверенный товарищ, – пояснял шакал. – Все мы равны, но павиан ровнее многих других, хребет у него согнутый, делу партии хищников и учению бронтозавра он верен.
От таких похвал начальства закружилась верноподданная голова павиана. Он выскочил на трибуну и, жестикулируя, гримасничая завизжал:
– Да здравствует хищная партия во главе с самым смелым и мудрым товарищем шакалом! Да здравствует светозарное учение бронтозавра! Вперед к сияющим горизонтам!
– Только меня выбирайте! – кричал павиан бешено жестикулируя руками и ногами. – Я – подлинный люмпенпролетарий! У меня даже задница голая и красная!
В этом месте официальной стенограммы совещания в скобках напечатано: «бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. С мест кричат: «Ура корифею всех наук – шакалу! Слава на века шакалу, мудрейшему из мудрых, затмившему своею мудростью саму мудрость!».
Очевидцы рассказывают, что с этого момента начался великий раскол. Одни стали жаться к льву, а другие, как завороженные, поползли во тьму за шакалом, гремучей змеёй и удавом.
* * *
Подошло время доводки металла в обеих печах. В индукционной печи, где шла плавка марганцовистой стали, сияло на поверхности накаленное шлаковое одеяло, прикрывающее полтонны огнедышащего сплава. В дуговой печи голубые смерчи вольтовых дуг впивались в клокочущую поверхность.
Журин проверил «характер кипа» в дуговой печи, собрался зачерпнуть ложкой пробу, как вдруг, неожиданно засветилось черное нутро индукционной печи и через мгновение между витками токовой спирали, охватывающей футеровку печи снаружи, хлынули струи расплавленной марганцовистой стали.
Вспыхнуло масло, натекшее из системы гидравлического подъема печи. Жидкая сталь расплавила токовую спираль, внутри которой всегда циркулировала охлаждающая вода. Раздался взрыв. Взметнулись огненные брызги. Печь окуталась огнем, дымом и паром. Из приямка вырвалось вверх коптящее багровое пламя. Вспыхнула масляная краска на дверцах пульта.
Ногин, за которым заметил Журин в последние дни необычную осторожность и настороженность, при первых признаках аварии удрал от пульта управления, не выключив тока.
Журин кинулся к пульту и попал в поток огненных брызг. Загорелась промасленная одежда. Несколько, к счастью, мелких брызг впились в щеку и шею. Журин не поддался страху. Выполнил все необходимое, затем взялся за огнетушители.
Вокруг собралась толпа зевак, но только Пивоваров помогал тушить огонь.
– С тебя причитается, Журин, – крикнул сияющий шихтовщик Стёпа. – В огне не сгорел. Такое дело облить полагается.
Журину было не до зубоскальства. Земля под ногами, казалось, кружилась и раскачивалась в тумане. Глаза жёг едкий грязный пот. Начала чувствоваться боль ожогов.
Был конец месяца – дни обычной штурмовщины. Осипшие начальники с красными от бессонницы глазами заплёвывали микрофоны телефонных трубок.
Несмотря на вечерний час, главный инженер Драгилев, начальник цеха Синицын, старший мастер Гребешков были на заводе. Гребешков немедленно вызвал по телефону оперуполномоченного Старинченко, главного инженера Драгилева, главного энергетика и других.
– Я предупреждал, – кричал на ухо оперуполномоченному Гребешков. – Волк всегда в лес смотрит! Это Драгилев либерализм разводит, панибратство, стирание граней. Отсюда и…
Заметив входящего Драгилева, Гребешков осекся, потом, понизив голос, продолжал:
– Известна, ведь, установка партии: будь тверд, упрям, решителен, беспощаден. Ты вожак – так отвечай и командуй, наказывай, а у Драгилева гнилая философия.
Старинченко сочувственно кивал головой.
Гребешков, воодушевленный этим сочувствием, продолжал жаловаться:
– Обязанностей куча, старший лейтенант, а правoв с гулькин нос. Ни уволить, ни премировать. Заработок и тот у иного работяги больше чем у мастера. Сам ведь знаешь, – подмигнул Гребешков, – не хлебом единым жив человек. Надо ж и в свой радиатор залить: двести грамм – много, сто – мало, приходится дважды по сто пятьдесят.
Оба рассмеялись.
В это время Ногин, вылезший, наконец, из раздевалки, жаловался Драгилеву на Журина.
– Не наш это человек, – наступал Ногин. – До него на индукционной печи шло нормально, а он, сука, умней людей ставил себя, в Ломоносовы или лысенки метит – вот печь и запорол. Чесали мы таких инженеров дюжинами. Он, может и грамотей, товарищ главный инженер, но масла в башке нету. Всю дорогу на самом предельном режиме гнал, а плавки запаздывали.
– Почему раньше ничего не сигнализировали? – спросил Драгилев.
Ногин замялся. В голове было пусто. Ответить нечего. Гребешков, инструктировавший Ногина за стаканом водки с хвостом селедки, ответ не подсказал.
– Какая мне польза, Осип Григорьич, – заюлил вдруг Ногин, – если вы будете расстраиваться? Не хотел вас, значит, волновать. Живите, думаю себе, на здоровьичко, сто двадцать лет и пусть вам, как говорят, бог помогает.
– Врёте, Ногин, – отрезал Драгилев и отошел к Журину, продолжавшему плавку на дуговой печи.
– Не хотелось мне с первого дня принимать ваши нововведения, Журин, – крикнул Драгилев, стремясь быть услышанным в шуме работающей дуговой печи. Теперь всыпят в хвост и в гриву, и защитить вас сейчас не сумею – самого клюют.
– Нововведения хороши, – ответил Журин. – Люди не подходящие – не любят нового. Здесь на печи какой-то подвох подстроили. Прошу вас распорядиться, чтобы без меня не разбивали футеровку печи. Хочу посмотреть. Узнать причину.
– Все дело в людях, Журин, – уныло и с болью, как показалось Журину, проговорил Драгилев. – С нашими людьми трудно сварить кашу. Ох, как тяжко. Оподлели. Но я не потерял надежду. Верю, что идеалы партии победят и станет нам всем легче.
Разговор этот прервал оперуполномоченный Старинченко.
– Сдавайте вахту Ногину, – крикнул он Журину. – Через десять минут будьте на проходной!
– Я должен сам разбить футеровку печи, гражданин старший лейтенант, – попросил Журин. – Необходимо выяснить причину аварии.
– Прекратить разговоры! – гаркнул Старинченко. – Вредишь, саботируешь, срываешь и ещё претензии!
Старинченко резко повернулся и пошел к выходу, поскрипывая новыми сапогами.
Через несколько минут за Журиным пришел солдат.
4
– Сколько ж нам возиться с вами, Журин!
Майор Хорунжий всматривался в зрачки Журина горячим оцепеневшим взглядом. Старинченко расхаживал по кабинету.
– Вы поймите, чудак-рыбак, – Старинченко наклонился над сидящим против стола Журиным, невольно загораживая свет, бьющий из рефлектора в лицо Журина. – Мы вам добра желаем, но положение ваше очень тяжелое. Факты против вас. Вот акт комиссии о причине аварии. Вывод: вы вредитель. Надо довесить вам до двадцати пяти лет.
Старинченко берет со стола лист исписанной бумаги, просматривает, жуёт губами, покачивает головой.
Журин разбирает на перевернутом к нему акте:
«Согласен. Начальник цеха Синицын. Дальше текст. Подписи: Гребешков, Даль, Ногин, Шлыков, Данилов.
– Кто этот Данилов? – спросил Журин у Старинченко.
– Комсорг цеха, формовщик, честный человек.
Журин вспоминает заостренную тощую блеклую физиономию комсорга, угреватый нос, сальный подбородок, навек испуганные серенькие глаза и выражение угодливости, растерянной неуверенности во всём облике.
– С перебитым хребтом, – отметил про себя Журин. – А прочие-то каковы?! Подлецы, темнилы! Но зачем это им?
– Каковы все-таки выводы этой комиссии? – спросил Журин. – Какова причина аварии?
– Много будешь знать – рано состаришься, – пренебрежительно бросает Хоружий. – Узнаешь на суде. Мы тебе не защитники.
– У вас есть один выход, Журин, – цедит Старинченко. – Хотите – замнём дело, не получите довесок, вернётесь к семье, станете через пару лет равноправным человеком и можете еще выдвинуться.
Старинченко делает паузу, ждет естественного вопроса: «Что нужно сделать для этого?», но Журин молчит. С сомнением и тревогой всматривается в Старинченко.
– Бросайте, Журин, свою обреченную позу протестанта, сектанта, негативиста, – вкрадчиво втолковывает Старинченко. – Переходите на сторону народа, помогайте родине одолеть бедность, обрести мощь, чтобы не страшны нам были посягательства на наши земли, богатства, недра.
– Я ничего против народа не имею, – отвечает Журин. – Я – обычный человек. Хочу работать, быть полезным родине и семье. Вы всю дорогу из меня заговорщика выдумываете, вредителем рисуете.
– Доказать надо, Журин, – внушает Хоружий. – Москва словам, заверениям, клятвам не верит. Делами надо доказать.
– Какими?
– Помогайте нам, Журин, – дружеским тоном предлагает Старинченко. – Только так докажете свою лояльность. Иной дороги нет. Или с нами до конца, или враг наш тоже до конца. Врагов уничтожаем. Ясно?
– Уточните, – просит Журин.
– Уточню, – соглашается Старинченко. – Вы дружны с Кругляковым, а это отпетый мерзавец – антисоветчик и морально беспринципный тип. Он не церемонился, когда мы спросили его о вас. Он тут нагородил, что и нам не верится. Читайте! Читайте вслух. Майор не читал еще этого протокола.
Старинченко подносит к лицу Журина исписанный бланк протокола допроса:
«Журина знаю, как озверелого антисоветчика», – прочел Журин вслух. – «Он сообщил мне, что намерен серией аварий вывести из строя все оборудование сталеплавильного отделения, в том числе электрические устройства. Журин стремится сколотить в лагере банду для организации восстания, нападения на конвой…».
– Ну что, поняли? – торжествовал Старинченко. Вот его подпись, смотрите. Вы ведь знаете его подпись.
– Это ложь! – вскипел Журин. – Все ложь! Подпись его – ложь! Протокол липовый! Подумайте: какая мне выгода от аварии, какая польза?! Если авария подстроена, а я это подозреваю, то ищите кому это нужно, кому это выгодно. Ни один честный человек не поверит, что я подстроил аварию.
– Не отклоняйтесь от темы, – усмехнулся Старинченко. – Авария аварией, а сейчас речь о Круглякове. Вы не верите нам. Хорошо. Вы знаете, что в прошлом были методы, так сказать, специальные, но теперь иначе. Вы читали в газете, что пытки осуждены. Мы вас не пытаем. Легче всего было дать вам покурить, иль чайку хлебнуть, укол всунуть и подписали б как миленький. Сами знаете – не желторотый.
Старинченко щерит мелкие хищные зубы, смакуя перебирает способы пыток и избиений: «стойка», «подвешивание», «костоправка», «скуловорот», «маникюр», лампа, электроток, «тепловые процедуры».
С каждым словом тон становится все более злобным, ненавидящим. С садистским упоением выкрикивает он все новые названия пыток, пока голос не срывается в истерический визг.
– Палкой по пяткам, в почки, потрох, ливер мать! – захлебывается наконец криком Старинченко. Затем, внезапно вытянувшись в струнку, сжав кулаки, зажмурив глаза и проглотив комок, смолкает.
– Мы иначе сейчас работаем, – продолжает после паузы, спокойнее Старинченко. – Мы, вот, приготовили текст вашего показания. Подпишите, и я рву все эти бумажки об аварии – честное слово офицера.
– Читайте. Читайте вслух, товарищ майор не читал. Я без него тут составил.
Журин читает вслух:
– Знаю Круглякова Николая Денисовича как многолетнего заклятого врага отечества, агента американского капитала, люто ненавидящего наш народ, страну, наш социалистический строй. Это Кругляков подделал в сертификате на стальные балки показатель содержания фосфора, чтобы железнодорожый мост, выполненный из этих балок рухнул под поездом в морозный день. Он сам мне тайком сообщил об этом в бараке 18 апреля 1953-го года…
– А почему именно восемнадцатого апреля? – усмехаясь спросил Журин.
– Число не существенно, – торопливо отозвался Старинченко. – Это частность. Ставьте какое хотите.
– Я это не подпишу, – решительно произнес Журин. – Это ложь. Обычное делосочинительство, а говорите, что переменились, закон уважать стали. Кругляков раньше всех сигнализировал, что металл плох.
– Не горячитесь, – уговаривал Старинченко. – Уверен – подумаете и подпишете. Своя голова дороже. Круглякова песня спета. Мы не можем допустить, чтобы такой махровый, стажированный антисоветчик-рецидивист пользовался льготами, которые вот-вот наступят, вылез на волю. Один его вид людей мутит, раздражает. Всю жизнь стоит на своем, сколько ни ломали. Страна от нас требует того, что мы вам предлагаем.
– Вот что, Журин, – поднялся Хоружий, – хочу все-таки доказать вам, что мы честно поступаем. Докажу вам, кто такой Кругляков.
Хоружий подошел к тумбочке, на которой стоял магнитофон. Щелкнул выключатель, завертелись диски и Журин услышал хорошо знакомый голос – усталый, гибкий, с хрипотцой, рассудительный умный голос Круглякова.
«Журин сообщил мне», – неслось из магнитофона, – «что намерен серией аварий вывести из строя всё оборудование сталеплавильного отделения, в том числе электрические устройства».
Хоружий выключил магнитофон.
– Ну, что теперь скажете, Журин? Не ясно ли, что свет – кабак, а люди – бляди? Становитесь, Журин, в наши ряды. Будете счастливы. Выдадим скоро пропуск, дадим работу в конторе, сократим срок, переведем на статус ссыльного. Привезёте свою жену, сыновей. Будем вместе строить светлое будущее.
– Не может быть, – шептал побелевшими губами Журин. – Боже мой, не может быть.
– Своим ушам не верите? – участливо спросил Старинченко. – Можно еще раз прослушать.
– Нет, нет, пожалуйста, – запротестовал Журин. – Это – как обухом по башке.
– Подписывайте, подписывайте, старина, – похлопывал Журина по спине Старинченко. – Никто об этом не узнает никогда. Агентурные данные никто, кроме нас не увидит никогда. Нам не выгодно вас демаскировать. Будете полезны – можем и через полгода вас освободить, даже через три месяца. Поедете на большой завод и будете изредка встречаться за стаканом чая с товарищем из органов.
Жена ничего знать не будет. Ни одна живая душа не пронюхает. Будьте благоразумны. Мы вам уделяем время только потому, что вы человек настоящий: дельный, толковый, знающий, инициативный. Нам дороги такие люди. Мы боремся за человека, за вас. Сейчас у нас другой подход: «Больше внимания к людям, больше уважения, а не казенщины» – такая установка. Подписывайте, Журин и не крутите головой. Переведем вас на другой лагпункт и все будет в порядке. Договорились?








