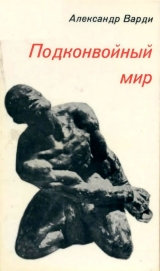
Текст книги "Подконвойный мир"
Автор книги: Александр Варди
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
Минут десять люди, заливаемые ледяной водой на трескучем морозе, не прекращали боя. Все еще катались сцепившиеся тела. Кого-то топтали в центре барака. Люди продолжали выть, рычать, бесноваться, хрипеть до последнего мига жизни. Наконец, стали выскакивать через все окна и дверь на улицу и разбегаться.
Среди убитых, затоптанных опознали Мустафу, Малинина, Клыка. Все остальные спутники Журина, Бегуна и Пивоварова получили тяжкие раны и повреждения.
В лагпункт нахлынули надзиратели и солдаты. «Законных» воров вывезли за зону. В этот же день всех уголовников, кроме сук, вывезли на другие лагпункты.
Потребовалась кровавая баня, чтобы толкнуть чекистов на этот шаг, выполнение которого они откладывали сознательно: им нужна была очередная акция разжигания смертельной вражды между заключенными.
Глава третья. На лагпункте
1
На пересылку нагрянули покупатели рабсилы – толкачи с шахт, заводов, строек, рудников.
На площади против вахты выстроили товар – сотню заключенных в сдвоенной шеренге.
День выдался ясный, морозный с кусачим ледовитым ветерком. Солнце давно уже не показывалось над горизонтом. Светился лишь бирюзово-пунцовый южный край неба, да тускло отсвечивал снег.
– Стынь. Чужбина. Беспредельная снежная ровень, – думал Пивоваров, сутулясь и ежась под пронизывающим злым ветром. – Сейчас, небось, ринутся толкачи щупать мускулы, заглядывать в рот, отворачивать веки глаз. Торг рабами всюду одинаков.
Мороз обжигал скулы и нос. Над людскими шеренгами курился белесый парок.
Начальник спецчасти пересылки Фрумкин, затурканный толпой толкачей, беспомощно вздымал вверх руки со списками и хрипло надсадно отругивался.
– Знаю твой Шемякин суд, – наседал на Фрумкина тщедушный коротыш в меховой одежде с худой лисьей мордочкой, вздернутым острым носиком и непомерно большим синегубым ртом. – Надысь загнал литейщиков, занаряженных Москвой мне – в тартарары – и как в воду канули. Сколько ни звоню, ору, бегаю, ругаюсь, надрываюсь – крышка, хана. Хоть бы хвостом блиснули, – а то – будто корова языком слизнула. В клочья тебя рвать, Фрумкин! Делов-то у тебя на копейку, а колымишь рубли и еще положительным гадом прикидываешься! – Все в твоём произволе, Фрумкин! – визжал коротыш, – но ты меня еще попомнишь! План горит! Убытки агромадные! Понимаешь ты, что это значит?! Засудят! Шкуру спустят! Но ты, Фрумкин, не отвертишься! Всех псов на тебя натырю! Отвечай: куда моих людей заначил? Перепродал?! За литру спирта? Иль ты только «Спотыкач» да «Зверобой» по еврейской интеллигентности лакаешь?! Ты меня узнаешь, Фрумкин!
– Знаю я тебя, Синицын, как облупленного, – отругивался Фрумкин. – Знаю, что темнишь начальником литейки. И помогалу твоего Гребешкова, знаю. Седьмой трипер на моих глазах няньчит. Знаю вас, долбарей, как облупленных. Но ты, Синицын, брось икру метать! Отдам твоих литейщиков. У нас не заржавеет. Слово – олово. Видишь, все памерки толкачи отшибли. В печенку клюют. Всем первосортный товар достань да положь! А где я его выскребу?! Весь я тут со всем моим бутором! Жуйте мои портянки, облизывайте портки!
Щеки Фрумкина, разрумяненные морозом, внезапно побледнели. Он еще выше вздернул руки со списками и загремел:
– Што растявкались?! Я вам всем дам по потребности и каждому в морду! Где я вам людей наберусь, когда в кармане блоха на аркане! На доносы ложу с прибором! Жить при доносах веселей, шея стала тоньше, да зато длинней. – Слушай, толкачи! – выкрикивал Фрумкин, – слушай и мотай на ус, а безусый пол наматывай на волосянку!
Фрумкин скосил злой карий глаз в сторону толкачей женского пола, затем глубоко вздохнул разряженную стынь, натужным голосом скомандовал:
– Заключенные, которые по металлургии и обработке металлов – три шага вперед!
Из рядов вышли Журин, Шубин, Скоробогатов, Солдатов, Кругляков. Журин потащил за собой растерявшегося Пивоварова. А Шубин нырнул обратно в строй и там, наклонив к себе головы Домбровского и Бегуна, зашептал:
– Не зевайте ни секунды! На завод берут! Это лучше шахты и рудников радиоактивных. Спросят – говорите, что слесари, токари, кузнецы, литейщики. После разберемся. Без туфты, мата и амонала не построить канала. Блат и туфта – выше Цека.
– Ты мне проверь, Фрумкин, – кипятился Синицын, – может быть, тут шарамыги, самозванцы вышли, расстриги, токари по хлебу, туфту химичут?
– Опомнись, жмурик! – взывал Фрумкин, – не заостряй! Сам проверь. Мне не разорваться. Ты что ж по рылам не видишь, что фраеры?! Ни одной блатной хари! Вон видишь: лобастый, кряжистый, говорят на Троцкого похож, так это ж главный конструктор московского автомобильного – Шубин. Рядом с ним морда как на иконе – Журин, ведущий металлург Запорожстали. – Зыряй! – Фрумкин ухватил Синицына за загривок и тыкал его лицом то в свои списки, то в сторону строя. – Зевало-то закрой – дыхало отморозишь. Смотри прямо на мужика – молодца, грудь моряка и спина грузчика. Это формовщик-рекордист Скоробогатов, а рядом с ним Шестаков. Не кривись, что стар, зато руки золотые. В «Правде» был пропечатан. Все у меня в личных делах записано. А вон около Журина красивый как девка – Пивоваров. Не кривись, что в лагерных тряпках. В сменку их воры одели. Пивоваров без пяти минут инженер-электрик. Сзади его механик и шофер Солдатов. Бытовичок! Хват! Все в руках горит. Пенки снимаешь, Синицын. Забирай скорей, пока не передумал и не звони! Ну, не чухайся! Отваливай! Чимчикуй! Хиляй с народом в сторону: конвой ждет. После будешь демагогию травить, сопли растирать, про план вякать. Потрфельником хлябаешь и хочешь не дрожать?! Изыдь, падла! А то у меня и промеж глаз получить недолго.
Через час всех заключенных, отобранных для Синицына, пригнали на комендантский лагпункт и поместили в двадцать девятом бараке.
При входе в барак внимание новичков привлекло странное зрелище.
Напротив входа на втором этаже нар сидел обнаженный по пояс неподвижный как истукан щуплый человек с ногами, поджатыми по-турецки. К голому смуглому его телу лепились, не падая, разноцветные пуговицы по четыре в ряду как на чиновничьей шинели.
Видно было по окоченевшему, напряженному землистому лицу, что это не забава, не представление.
Когда привыкли глаза к полумраку барака, увидели вновь прибывшие, что пуговицы эти пришиты к голому телу. По ребристой груди и тощему поджарому животу извивались змейки засохшей крови.
Журин и Пивоваров сразу узнали в этом человеке рыженького, веснущатого, тщедушного Канева, того самого симпатичного паренька, которого бил солдат рукояткой нагана за то, что пытался Канев подобрать кулек сахара, брошенного ему товарищем через проволоку пересылки.
У Журина и Пивоварова, пиливших тогда дрова за зоной как бы стоял еще в ушах прерывистый, захлебнувшийся писк Канева. Помнили они, как понуждаемый солдатами пытался он подняться на колени и падал. Как волокли его бесчувственного за ноги и билась об лед, кровянилась беспомощная голова, а синие закоченевшие скрюченные пальцы бороздили снег, цеплялись за бугорки.
Безмолвно стояли вновь прибывшие у входа, не решаясь отвести взора от пустых невидящих глаз Канева, не выражавших ни страдания, ни боли. Чувствовалось, что все у Канева задубело внутри, что перешагнул он через невидимый порог, за которым остались все боли и скорби земные.
– Проходите, проходите, землячки, не теряйтесь, привыкайте, – затараторил кто-то из поднарной тьмы тароватой скороговоркой. – Это наш придворный псих, Васька Канев – зырянский барон. Всыпали ему солдатики на пересылке, а он взял да и ума чёкнулся. Начальство ж не верит. Канев глаз у спящего выколупил – а начальство гогочет. Канев под себя оправляется и дышать в бараке нечем – начальство и в ус не дует. Надысь стукнули мы хозяину лагпункта Медведевскому, а он ботает: «Если всех вас таких симулянтов лечить, так на лагерь надо замок навесить, в госпиталь обратить».
– С полчаса назад зашел сюда Медведевский, – продолжал словоохотливый рассказчик, – полюбовался на Канева, потаскал пуговицы, что на нем и рявкнул: «Блатным, падла, прикидываешься?! Я те покажу кузькину мать!».
Рявкнул он так и вышел, а Канев далей сидит как Будда. Какой из него блатной, прости господи?! Писаришкой хлябал не то в облвобл, не то в Укрцукр, а может быть и в Райкаравай. Он и сейчас чимчикует прямиком в рай.
Когда говорливый старожил барака вылез из-под нар, Солдатов убедился, что слух не подвел его. Это был не только голос Герасимовича, но и сам он – тот Герасимович, о котором рассказывал Солдатов на пересылке.
– Колька! Друг ситцевый! – заблажил Герасимович. – Ты что ж, своих не признаешь?! Забыл, как кур щупали, с мухами грешили?! Мы ж свояки по фронтовым шлюхам. Что было, брат, то сплыло. Плюнь и размаж. Кто старое помянет, тому глаз вон. Былое быльем заросло.
– Так-то оно так, – смущенно скрёбся Солдатов, только…
– Не тявкай, – хлопнул Герасимович Солдатова по плечу. – Лучше ответь: есть ли у тебя табачку разжиться, а то так пить хочется, что даже пожрать нечего.
Оба рассмеялись.
– Вспомнил, байстрюк! – выговаривал, давясь смехом Герасимович. – Натер я бабам сдобным лавки в бане перцем ядучим. Ну и попрыгали! Ярились, матерились, венки об… истерли.
– Ну, ладно, – продолжал Герасимович успокоившись. – Слово по слову, делом по столу. Так и быть, устрою тебя, Колька на завод. Блат там у меня. Будешь водить автопогрузчик. Доволен?
Вокруг Герасимовича столпились вновь прибывшие. Послышались вопросы.
Герасимович отвечал:
– Тут, братцы, без калыма на завод не прошмыгнёшь. Будешь втыкать в каменоломне, в котлованах, чистить дороги, таскать бетон и все на ветру, в мороз, пургу. На завод выводят пятую часть лагнаселения – пятьсот зэков. А остальные каждый день обмораживают носы, скулы, руки, ноги, а у кого и срам задубеет, легкие прихватит.
– Не улыбьтесь, – объяснял Герасимович. – Плохие шутки, когда кол в желудке. Тут как задует снежная гибель на месяц, а то и два без передышки, так и несёт человека, словно пылинку в тундру, навсегда. В такие дни идешь в уборную – держись за канат. Выпустил канат – амба. Нет человека. Бывало, целые колонны уносило на корм песцам и белым медведям. А то мороз грянет, да с ветром. Чувствуешь, что нет воздуху, что пустота звездная спустилась. Каждый вздох смертью пахнет.
С этого вечера Герасимович пристал к Солдатову и его товарищам. Худощавый, с обычным неприметным скуластым лицом сорокалетнего курильщика, маленькими светлыми глазками меж рыжеватых ресниц, казался Герасимович свойским человеком, общительным и прямодушным.
Герасимович не соврал. Действительно, попасть на завод было трудно. Хоть и каторжно-тяжел был заводской труд, но прельщала всех крыша над головой.
– Тут, хлопцы, на заводе тысяча вольняг трудятся, – рассказывал Герасимович, – большинство ссыльные. Кто после лагеря оставлен – политические. Кто за национальность, невыполнение норм в колхозе и другие бедолаги. Много западников-интеллигентов. Есть фабзайчата. Худые, прозрачные. Есть и проштрафившиеся партейцы. Эти у руля. Один из таких мастерюгой в литейке темнит – Гребешков, так он аж в секретарях киевского горкома хлябал. Синицын, что брал вас на пересылке, зятем Булганину приходится. Он был в Орле управляющим банка. Пристрелил там любовника жены. Но таким за уголовщину сроки не дают. Суют сюда на времечко, пока люди гомонить не перестанут. Сами знаете: что можно партделяге, то нельзя работяге.
2
Утром следующего дня Журина вызвали на завод. Начальникам не терпелось. Брак в литейке угрожал их служебному положению.
Журина поставили первым подручным вольнонаемного сталевара Бредиса – атлета с медным изморщенным и обожженным лицом. Начальство знало, что Журин будет учителем сталеваров, однако технической должности политзаключенному давать не хотели.
Во время первой беседы с главным инженером Драгилевым Журин настоял, чтобы Пивоваров был принят дежурным электриком подстанции сталеплавильных печей.
Формовщика Скоробогатова тоже взяли в литейку. Шубина назначили слесарем сборочного цеха. Так же, как и Журину ему не давали работы, соответствующей его квалификации.
Кругляков стал браковщиком-приемщиком в цехе металлоконструкций. Бегуна гоняли на снегоочистку.
Приняли на завод и инструментальщика Шестакова. Проводили его уборщиком, а выполнял он наиболее сложные лекальные работы, за которые платили парторгу, околочаивавшемуся в кабинетах начальства.
Повезло лишь одному Домбровскому. Удача пришла к нему неожиданно, в кабинете начальницы спецчасти Кедровой – здоровенной мужеподобной чекистки.
– Кто ты по специальности? – спросила Кедрова. Сразу отвечай, не раздумывай, – громыхал ее властный басок, – туфта у меня не пройдет. Вчера тут один нигилист чи глист, прости господи, заявил, что он по специальности павиан. Я, было, записала, да потом рюхнулась. Смотрю, заключенные, что рядом, солидные такие, посмеиваются. Я – не будь дура – да звякнула дневальному начальника, а дневальный тот – профессор. Так и разоблачила этого павиана. Оказалось, что павиан – это самая развратная обезьяна: при народе промеж себя блуд пущает. Послала его, стервеца, в штрафняк – будет знать как темнить. Так кто ты старик? – спросила Кедрова строго. – Синицын взял тебя как металлиста. Если сшарамыжил – так и тебя в штрафняк засундучу.
Домбровский испугался не на шутку и мгновенно решил прикинуться не понимающим по-русски. Он галантно изогнулся, изобразил на лице благоговение и, внутренне ужасаясь, чучельности своего наряда, засюсюкал:
– Прошем пани, пани ест така пенкна. Я еще такой ладней кобеты-дыректорки не видзялем.
Кедрова расплылась в улыбке.
– Ты мне, старичок, баки не трави. Держала я вашего брата этими руками и по-вашему малость кумекаю. Варшаву я вашу брала. Польшу в боях прошла.
– Варшава! – загорелся Домбровский. – Я сем там уродзилем, але Москва еще пенкнейша и пани ест пенкнейша ниж наши варшавянки. Цело жице я кохалем се в таких моцных высоких кобетах.
– Ладно, ладно, Домбровский, зубы не заговаривай. А что ты там в своей Варшаве делал?
– Я писалем там «о ружах и бужах и дальних подружах».
– Ясно… – пробасила Кедрова. – Дело табак; но как есть ты, Домбровский, галантный мужчина, не чета нашим нахрапникам, так устрою тебя по блату кубовщиком в кипятилку. Будешь там с американцем Джойсом, тоже писателем, о бабах судачить, все пенкности по косточкам раскладывать. Но смотри мне, чтоб кипяток был во время! Ясно? Иди!
– Пани позволи мне рончку поцаловать? Я естем пани так вдзнечны. Пани ест така интеллигентна кобета.
Домбровский подобострастно изогнулся, схватил огромную руку начальницы, повернул ее ладонью вверх и запечатлел поцелуй в самую середину.
Видавшая виды Кедрова, потерявшая наверняка стыд и совесть, зарделась как девка.
– Иди, иди, Домбровский, – растроганно забасила Кедрова. – Знаю, что галантны вы, черти, что не врешь. Врать вы еще не научились, но дозреете, и с бабами вы нянькаетесь не то, что наши. Раз ты – всей правдой ко мне, так и я тебя уважу. Иди, Домбровский.
Несколько раз поклонившись и горячо бормоча «целую рончки» Домбровский вышел пятясь из кабинета.
* * *
Потянулись, поползли напряженные голодные дни и ночи. Чтобы не вылететь с завода, нужно было работать не щадя себя, до упаду, дабы «дать» план, выполнить норму, отхватить зачеты.
В работу воплощалась вся жизнь, все силы, все помыслы. В работу поневоле вкладывал человек все, что мог и имел. Более того: работу он предпочитал подчас остальному – быту, постылому бараку, замусоленным нарам, ненавистной толчее лагерного людского муравейника.
На заводе была обычная и привычная трудовая обстановка. Много вольных мужчин и женщин приносили с собой веяния жизни, казавшейся заключенному манящей. Часто возвращаться не хотелось в лагерную жилую зону, в переполненные людьми и крысами бараки, засыпанные снегом до крыш, в мир, подвластный уголовным секты «беспредельников» и невежественным расчеловеченным чекистам.
Гнали в жилую зону не одни солдаты и псы. Гнали голод, потребность в сыром хлебе, баланде, селедке.
Прошли январь и часть февраля 1953 года. Никто не считал полуденные сумерки без солнца, считавшиеся днями. Так страстно хотелось, чтобы скорее, незаметнее пролетало ненавистное время.
Здесь поняли люди, прочувствовали беспросветную жуть, о которой пел в столыпинском вагоне надтреснутым старческим альтом «Щипач» – синегубый воришка, вертевшийся возле крупных хищников подобно гиене, крадущейся по следам тигров.
Это был край, в котором «зимней лютой вьюгой» заметает след пропащего человека и нет надежды на исход из стороны глухой, где – «черные как уголь ночи над землей» и «волчий вой метели не дает уснуть».
Скоро, однако, оборвалось однообразное, хоть и напряженное состояние относительного мира между человеком и начальством. Не для того согнали сюда людей, чтобы дать им возможность отдавать себя труду в условиях элементарного порядка. Начальство не верило, что люди, столь несправедливо и жестоко растоптанные, могут смириться. Начальство нервничало, металось в поисках «зачинщиков». Всюду им чудились заговоры, злонамеренные действия, крамольные разговоры. Чекисты создали будни, воспаленные пароксизмом народной боли, и поэтому, по звериным таежным законам этой жизни, маленькие бесправные люди гибли под копытами судьбы, не услышанные и незамеченные как муравьи.
3
Двадцать второго февраля 1953 года после работы за воротами завода на площадке, охраняемой автоматчиками и собаками, собрались, как обычно, заключенные для следования на лагпункт.
Действовал неписанный закон: спустя четверть часа после гудка все заключенные работяги должны выстроиться в колонну по четыре чтобы поступить в распоряжение конвоя.
Тьма лохматого февральского вечера обступила освещенный пятачок с нетерпеливо топтавшимся людом. Дул резкий ветер из преисподни, откуда обычно вырывалась седая кружилиха – пурга.
Пивоваров держал Журина под руку и, приблизив лицо к его башлыку, чеканил строчки лагерной песни:
Над Русыо-матушкой, над нашей родиной
Десятки лет не утихает ураган.
Миллионы скрученных, миллионы мученых,
Миллионы загнанных в Сибирь и Туркестан.
– Одного не хватает! – послышался крик начальника конвоя.
– Кого там не достает? – раздалось сразу несколько нетерпеливых, раздосадованных, вопрошающих голосов.
– К дырочке в женский душ прилип! – острил кто-то.
– С конягой романсирует! – вторил другой.
– Лаборанток через окно глазами кнацает.
– Недостает жида из слесарни, – произнес кто-то возле Журина. И сразу же несколько горлохватов заорало:
– Вождей травят! Бьем, хлопцы, разрешено! Ничего за жида не скажут! Хозяин поедом их ест!
– Работнуть жида! Отбить ливер!
– Эй, «Жменя», по твоей части – руки не порть!
– Чего орешь?! – оборвал своего соседа Журин.
– Как не орать?! Жид там простым слесарем числится, а фактически всей сборкой шишкомотит, поэтому и задержали его в цехе. Вольняги, за которых он втыкает зряплату толстую гребут в загашник. Ему бы работать на швырок, раз носим – ношеное и едим – брошеное. Сам знаешь: «лучше кашки не доложь, а на работу не тревожь», «от работы кони дохнут», «работа – не член – сто лет простоит», «пусть трактор работает, он – железный», «работа не волк – в лес не убежит». Лучше других быть хочет! Один черт – не выслужится. Ихнего брата по поводу и без повода тараканят.
В воротах показался запыхавшийся Шубин.
К нему бросилось несколько горлодеров.
Неистовый заводила – в нем опознал Пивоваров Бендеру – ринулся на Шубина и ударом в лицо сбил его с ног. Затем, склонившись над распластанным телом, Бендера ударил ногой в бок… в лицо… в лицо… еще и еще… Зажатый самосудчиками Бендера запрыгал на теле Шубина.
– В горло! В душу! В селезенку мать! – выкрикивал он в такт прыжкам.
– Бей! Режь! Рви! – шумно выдыхал он вместе с неистовой руганью.
– Грохай по кумполу! – подзадоривали кругом.
– Протяни дрючком по хребтине! Вмажь под дыхало!
– В пах, пах, подлюку! Вся сила в паху!
– «Чума»! Знай свою специальность! – кричал кто-то.
– Откуси кадык жиду, порви грызло!
– Укороти на голову, чтоб вождей не травил!
– Мне бы еще полстакана жидовской крови, – нетерпеливо топтался сосед Журина, – и вся б моя кровь жидовской стала.
– Так. Режут. Порядочек, – приговаривал он, – хрипит. Порядочек. Ох, братцы, люблю порядочек!
Пивоваров почувствовал вдруг, что нет мочи дышать, что все онемело в горле и завертелся мир в слепнувшем взоре.
Расталкивая озверевший люд, Пивоваров ринулся к Шубину. За ним последовали Кругляков и Журин.
– Опомнитесь, тигры! – перекрывая рев скомандовал Кругляков.
– Стой, сволочь! – кричал Пивоваров. – Бендера! Гад! Палач! Стой!
Пивоваров увидел, как ударом головы кто-то сбил Бендеру с неподвижного тела Шубина.
– Братцы! – взывал этот человек. – Братцы! Золотой души человека губят! Что вы смотрите, люди?! Солдаты!
Конвоиры ухмылялись. Они за это не отвечали. В ребячьи сердца солдат быстро впивался клещ слепой ненависти.
Однако заступничество помогло. Заряд озлобления у нападающих иссяк.
Журин и незнакомец, прервавший ударом головы убийственное подпрыгивание Бендеры, подняли Шубина и, взяв под руки, повели в строй. Оба глаза Шубина почти закрывали синие кровоподтёки, нос распух. Из рта струилась кровь. Разогнуть спину он не мог. Разбитые, окровавленные ладони, которыми прикрывал Шубин лицо, дымились на морозе.
– В бушлате и телогрейке космополит, так до дыхала не достанешь, – объяснял кто-то возбужденно, – но и так бельмы закатил, нюх припух, пузыри пустил, заметал икру. Подмолотили черта с мутного болота.
– Зря лютуешь, «Бендера», – решительно прервал его кто-то, – не по правильному адресу злость направил. Ни при чем тут евреи. Их всю дорогу в бараний рог…
– Как ни при чем? – узнал Журин голос Стёпы-заготовителя шихты. – От них весь коммунизм, социализм, коллективизм, космополитизм, марксизм, лысенкизм и прочая чернуха. Зря ты, Ярви, адвокатничаешь.
– Спасибо вам, товарищи, – с усилием выговорил Шубин. – Особенно вам, Хатанзейский. Ведь мы почти незнакомы.
– Я – охотник, – отозвался Хатанзейский. – слыхали, небось, что меня «самоедом» называют. У меня – глаз быстрый, чутье острое и правду, честность люблю. Я вас давно заметил.
Благодарное чувство к Хатанзейскому побудило Пивоварова взять его под руку.
– Вы так чудесно говорите по-русски, что нельзя не предполагать, что вы в центре учились или жили там долго.
– Учился я в Салехарде, – ответил Хатанзейский, – а в России и в Европе был в годы войны. С 1939 до 1947 в армии служил.
– И после России вернулись сюда, в тундру? – недоумевал Пивоваров.
– Потянуло на волю, – после минутного раздумья ответил Хатанзейский. – Слишком много у вас там начальства. На каждом шагу подгоняла и надзирала, соглядатай и стукач. Так в душе твоей и ковыряются. У нас, в тундре, начальства меньше. Самое злое – далеко, а свое – казалось прирученным, связанным с народом.
– Все-таки – не убереглись, – посочувствовал Журин. – Начальство и в тундре слопало.
– Слопали, – выдохнул Хатанзейский. – Пытался укрыть десяток оленей от конфискации. Накрыли. Теперь батрачу. От тюрьмы и от сумы никому не уйти.
Из предпоследней шеренги обернулся на ходу к разговаривающим Солдатов.
– Зря, Хатанзейский, из России уехал. Схлестнулся б с русачкой, их после войны безмужних бобылок, солдаток – десятки миллионов осталось – страна стала вдовьим краем. Взял бы дебёлую, работящую. Жил бы в городе. Сам ведь рассказывал, что европеек молочно-белых, чистых, благоуханных на зуб пробовал и довольны были. У тебя ж нервы – как проволока, сердце – как камушек. Не торопишься, не пыхтишь, не запотеешь в любом обороте.
– Потянуло в тишину, к дымку охотничьих избушек, – отозвался Хатанзейский, в леса, где зверь непуганный, к ручьям прозрачным, в безлюдье. У вас там, на материке, все враги всем и в лагерь вы с этим прибыли. Трутся все как сельди в косяке, грызутся как псы за кость, подстерегают друг друга на узкой тропе. Каждый каждому норовит глотку перегрызть.
Помолчав, продолжал неторопливым северным протяжным говорком:
– Не по мне такая жизнь. У нас люди добрее, проще, душевнее. Возьмешь девушку за себя, так знаешь, что донос она на тебя не накропает, не оговорит, не предаст, не наклевещет. Что бы ни случилось – все между нами навек останется. А ваши молодицы в женах числятся, а живут как квартирантки, иль ты у них квартирант. Нужен ты ей – сосет. Подвернется свежатина иль тухлятина со стороны – подцепит. Во всем и в тебе выгоду ищет. Поэтому и живут они дольше мужчин. Ну вас к ляду с вашими икрястыми молодками, их частухами с визгом, с их мимолетной неосновательной любовью.
– Дорогой Хатанзейский, – возразил Пивоваров. Не разобрались вы в душевных качествах женщины. Нет более работящей жинки, как на Руси. «Коня на ходу остановит, в горящую избу войдет». Плечом к плечу с мужчиной сражается она за кусок хлеба, за место в жизни.
– Может, и это – правда, – примирительно ответил Хатанзейский. – Много на свете правд и каждая правильная.
Подошли к вахте. Прошли обыск. Рванулись в зону.
– Герасимович, сразу в столовку! – крикнул Солдатов. – Сегодня суп из голых круп. Крупица с крупицей в догонялки играют.
Шубина от вахты повели в санчасть. Часы были не приемные и поэтому перевязочная – закрыта. Обслуга отсутствовала. Пивоваров и Журин направились разыскивать кого-либо из медработников.
Оставшись наедине с Шубиным, Хатанзейский продолжал утешать его:
– Не горюй, друг. Сейчас мода на врачей еврейских, а завтра будет на оленеводов Хатанзейских. У нас ведь куда ни кинь – всюду клин. У бедного Иванушки аж в каше камушки. Я, вот, как утка на родное гнездовище тянулся. Думал, что лучше всего на родине, а родиной считал место, где вылупился на свет. Ан, видишь, попал из огня в полымя.
Помолчав, как обычно, минутку, далеко выдохнув едкий махорочный дым, Хатанзейский задумчиво продолжал:
– По натырке начальства глупо, по-птичьи, по-заячьи понимают многие слово – Родина. Слепой инстинкт влечет птиц, несмотря ни на что, а у человека разум есть. По мне – так родина лишь тогда настоящая, когда жизнь в ней достойная человека. Если же в ней порядок делосочинителей, шовинистов, пытателей, мизантропов – то будь она проклята – такая родина, будь она трижды проклята.
4
На столбе, посередине барака, висел осточертевший всем репродуктор. Кому на Руси не надоела его трескотня? Изо дня в день одно и тоже: победы на соевых и огуречных фронтах, осанна мудрейшему, приоритет и первооткрывательство, восхваление Павликов Морозовых в качестве образца советского характера, затем: «ликвидируем!»… «Уничтожим!»… «Добьем!»… «Вытравим!» космополитизм, морганизм, капитализм, персонализм… изм… изм… изм… до отупения, головной боли, удушья.
После призывов и заклинаний – музыка прошлых веков, частушки с гиком, похотливым бабьим визгом и снова оглупляющая ложь, разжигание слепой ненависти и беспощадности к другим культурам и народам, возбуждение низменных инстинктов и вожделений для превращения человека в робота и солдата, готового безропотно убить, захватить, отнять и рзделить, умереть не раздумывая во имя преходящих безумных лозунгов и ошибок обожествленных уголовников.
Жильцы барака работали в три смены и поэтому в любое время суток часть людей стремилась спать, а другая, вольно или невольно мешала, жизненно необходимому отдыху товарищей.
Борьба за возможность поспать была борьбой за жизнь. Из-за сна ругались, дрались, бывали случаи – убивали друг друга.
Репродуктор был фактором, машающим спать. Однако среди девяноста шести человек, проживавших в бараке, всегда находились желающие послушать радио, и это вызывало бурные ссоры. Сильным удавалось утихомирить репродуктор, а слабым приходилось молчать, глотать злобные всхлипы и «доходить».
Только пятого марта 1953 года дребезжание репродуктора не вызывало протестов. Жадно глотали всё, что было связано со смертью диктатора.
Дневная смена, в которой работали Журин, Шубин, Пивоваров, Бегун, Кругляков, Хатанзейский и другие, войдя в лагерную зону, ринулись к репродукторам, забыв про голод. О смерти усатого знали все, но каждому хотелось собственными ушами услышать, всеми фибрами души впитать ошеломительную новость.
– Тише, тише! – галдели кругом, – дайте послушать, тигры!
Из репродуктора струилась вязкая муть неприятной, не соответствовавшей настроению музыки.
Дневального Писаренко забрасывали вопросами.
– Опять московский водопровод орденом Ленина наградили, – острил Солдатов.
– На этот раз отсутствующую орловскую канализацию почтили, – отозвался Скоробогатов.
– Помалкивайте, сквалыги, – угрожающе шипел Герасимович, – пришел приказ брить всех вас, особенно задастых и языкастых.
– Отец загнулся, – степенно доложил бородатый дневальный Писаренко, – но кузькина мать жива. Жива стервя и клюёть – до печёнок, до мозгов достаёть. Панику, граждане, не разводите, не вертухайтесь, не шебуршите: бздительность начеку, пистоля на боку. Хныкать можно – трепаться – дюже осторожно.
– Ай да Писаренко! – ликовали вокруг. – В лауреты подался, в орденопросцы, в стихобрёхи.
– Моя хата с краю, – скромничал Писаренко. – Нам, жмеринским, тильки б гроши да харчи хороши, щей бы пожирней, ломоть потолщей, дабы рожа веселей расплывалася.
– Мне покойник на полную катушку срок отмерил. Писал ему сердешному. Ответил, дорогой: «Мало, мол, дали тебе, Иван Пафнутьич. На колхозной подводе немецкий скарб к ихним позициям два дня подвозил?» – Подвозил, ваше величество! Но кабы б не подвозил, то не было б сейчас дневального в двадцать девятом бараке. Пришили б фашисты. Хватка у них твоя…
– Слыхали, слыхали, не балабонь, – прервал дневального Шестаков. – Надо было смерть принять, но в извоз для немцев не ездить. Не богохульствуй, борода. Хозяина жаль. Гигант.
– Помните, товарищи, – обратился он к окружающим:
«У нас не было алюминиевой промышленности, у нас есть она теперь».
– А цена, цена-то какая, – морщась от внутренней боли спросил Журин.
– Помолчите, Журин, – шепнул Бегун. – У вас «червонец» – детский срок. Остерегайтесь. С твердолобым этим – я схвачусь. Мне терять нечего. Расстрела сейчас нет, а больше двадцати пяти лет, то-есть того, что уже дали, не припаяют.
– Есть у нас алюминий, Шестаков, – повысил голос Бегун, – а жизнь как на пароходе в качку – все нутро выворачивает, а поблевать негде, ибо уборные намечено лишь в 1980 году строить. Мается народ, бьется как рыба об лед. «Фома грызет Фому и нет пощады никому».
– То-то и оно-то, – взвился Шестаков, – что «Фома грызет Фому», а государство ни при чем. Разве партия виновата, что свидетели против нас доказывают?
– Партия твоя и есть сборище свидетелей, доносчиков, пытателей, провокаторов, – не удержался от реплики Кругляков. – Во всем непостижимом ужасе повинна твоя партия.








